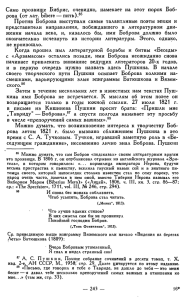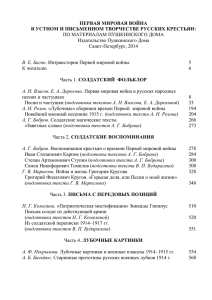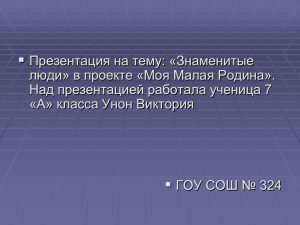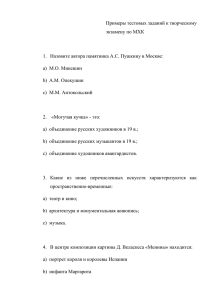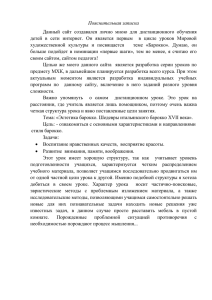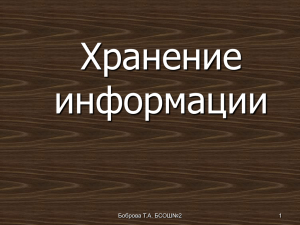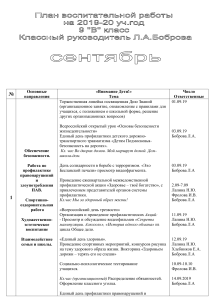DOKLAD_2014
реклама
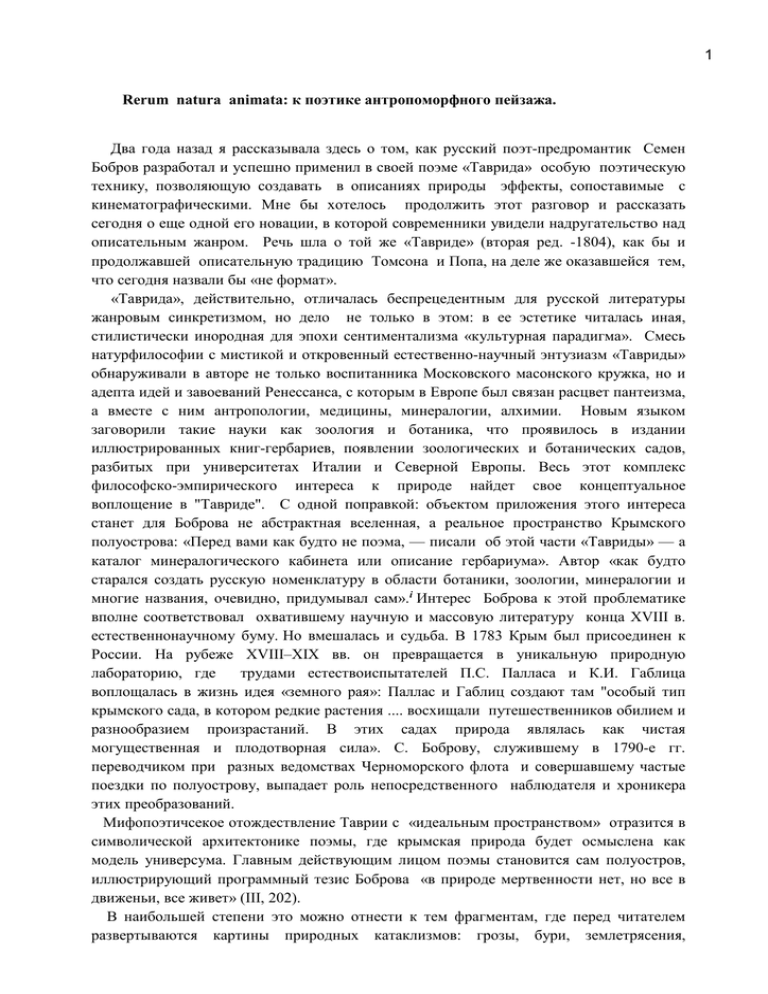
1 Rerum natura animatа: к поэтике антропоморфного пейзажа. Два года назад я рассказывала здесь о том, как русский поэт-предромантик Семен Бобров разработал и успешно применил в своей поэме «Таврида» особую поэтическую технику, позволяющую создавать в описаниях природы эффекты, сопоставимые с кинематографическими. Мне бы хотелось продолжить этот разговор и рассказать сегодня о еще одной его новации, в которой современники увидели надругательство над описательным жанром. Речь шла о той же «Тавриде» (вторая ред. -1804), как бы и продолжавшей описательную традицию Томсона и Попа, на деле же оказавшейся тем, что сегодня назвали бы «не формат». «Таврида», действительно, отличалась беспрецедентным для русской литературы жанровым синкретизмом, но дело не только в этом: в ее эстетике читалась иная, стилистически инородная для эпохи сентиментализма «культурная парадигма». Смесь натурфилософии с мистикой и откровенный естественно-научный энтузиазм «Тавриды» обнаруживали в авторе не только воспитанника Московского масонского кружка, но и адепта идей и завоеваний Ренессанса, с которым в Европе был связан расцвет пантеизма, а вместе с ним антропологии, медицины, минералогии, алхимии. Новым языком заговорили такие науки как зоология и ботаника, что проявилось в издании иллюстрированных книг-гербариев, появлении зоологических и ботанических садов, разбитых при университетах Италии и Северной Европы. Весь этот комплекс философско-эмпирического интереса к природе найдет свое концептуальное воплощение в "Тавриде". С одной поправкой: объектом приложения этого интереса станет для Боброва не абстрактная вселенная, а реальное пространство Крымского полуострова: «Перед вами как будто не поэма, — писали об этой части «Тавриды» — а каталог минералогического кабинета или описание гербариума». Автор «как будто старался создать русскую номенклатуру в области ботаники, зоологии, минералогии и многие названия, очевидно, придумывал сам».i Интерес Боброва к этой проблематике вполне соответствовал охватившему научную и массовую литературу конца XVIII в. естественнонаучному буму. Но вмешалась и судьба. В 1783 Крым был присоединен к России. На рубеже XVIII–XIX вв. он превращается в уникальную природную лабораторию, где трудами естествоиспытателей П.С. Палласа и К.И. Габлица воплощалась в жизнь идея «земного рая»: Паллас и Габлиц создают там "особый тип крымского сада, в котором редкие растения .... восхищали путешественников обилием и разнообразием произрастаний. В этих садах природа являлась как чистая могущественная и плодотворная сила». С. Боброву, служившему в 1790-е гг. переводчиком при разных ведомствах Черноморского флота и совершавшему частые поездки по полуострову, выпадает роль непосредственного наблюдателя и хроникера этих преобразований. Мифопоэтичсекое отождествление Таврии с «идеальным пространством» отразится в символической архитектонике поэмы, где крымская природа будет осмыслена как модель универсума. Главным действующим лицом поэмы становится сам полуостров, иллюстрирующий программный тезис Боброва «в природе мертвенности нет, но все в движеньи, все живет» (III, 202). В наибольшей степени это можно отнести к тем фрагментам, где перед читателем развертываются картины природных катаклизмов: грозы, бури, землетрясения, 2 извержения вулканов. Для Боброва это те моменты в жизни природы, когда ее скрытые творческие силы пробуждаются и выходят наружу, природа оживает – и тогда ее преображение совершается на глазах. Возникающий эффект усиливает специально созданная Бобровым для таких случаев анропоморфная стилистика. Крымский полуостров предстает в виде грандиозного агонизирующего тела, черты которого начинают проступать в очертаниях ландшафта: земля вздымается и разверзает свои мощные ложесна; нарывы на ее поверхности разрываются, исторгая лаву; сосцы вулканов источают огненные потоки; трещат и ломаются ребра гор, утесы обрушиваются в свои оскалившиеся пасти, море алчным зевом пожирает сушу, смещаются земные члены, бледнеют чресла облаков, все стонет, воет, сверкает, затмевается и кипит... Каждая из найденных Бобровым метафор заслуживает отдельного анализа, я лишь обозначу его контуры. Метафора Боброва не просто семантический гибрид - попадая в текст, она выстраивает и его грамматику. Так в стихе Утес обрушился в свою же пасть мы понимаем, что перед нами метафора пасть утеса, но сюрреалистический эффект возникает по иной причине: часть и целое здесь меняются местами, признак в прямом и переносном смыслах поглощает свой объект – в итоге обрушившийся утес предстает в виде собственной зияющей пасти. Это приводит к тому, что утес и пасть утеса начинают читаться в пейзаже как самостоятельные объекты. Не менее распространенный случай - когда антропоморфный признак растворяется в стихе, переходя в зону второстепенных членов предложения, комбинация которых, собственно, и создает картину: <Рыбы> … за собою оставляют Кругов морщины по водам … (IV, 262) <Источники> от горных ниспадают ребр... (IV, 138) <Воздух> …чрез разрыв гортани горной Раздал громовый звук разящий… (IV, 137) Лишь слышен только дикий стон Из сердца исходящий гор… (IV, 199) В результате перед нами пейзаж, в котором мы начинаем видеть не воды и горы, но морщины вод, сердце гор, ребра гор. Более того, действие, описанное в каждой фразе, оказывается направленным именно на антропоморфный признак: рыбы по водам оставляют – морщины; стон исходит – из сердца гор; воздух прорывается – чрез разрыв гортани. В случаях же, когда сам антропоморфный образ – сама метафора − выступает в роли субъекта действия, можно говорить о полной визуальной трансмутации пейзажа: Многоголавый горный стан Возносит смуглое чело (IV, 37) Бледнеют чресла облаков ... Бледнеют бедра гор камнистых (IV, 213) 3 <о вулканах> Нарывы рдяны, зрея, Расторгшись, лаву разливали. (IV, 133) Потом, как из сосца кипяща, Оттоле хлынули шесть токов (IV, Использованная Бобровым стилистика в прямом и переносном смыслах разоблачает природу. Под привычной оболочкой из лесов, гор, долин и рек открывается жизнь гигантского живого организма, мощные силы которого, прорываясь наружу, обнажают его анатомию и физиологию. Этот организм наделен способностью расти, испытывать боль, разрешаться от бремени, перемещаться в пространстве: Взревел в подземном лоне клокот, Хребет сей скрыпнул, — отступил (IV, 70) Скалы сдвигаясь с основанья, Шли силой некою вперед (IV, 137) Пространство страшное долины <…> Содвигнулось от основанья, Пошло — и стало в лоне моря (IV, 138) Стада, — сады, — и цветники, Как на невидимых колесах Переселились в чужду область (IV, 139) Без сомнения, конец русского XVIII в. был мало подходящим временем для подобной эстетики, свой пик она прошла в Европе двумя столетиями раньше, оставив след в растительных фантазиях Альтдорфера, вегетативных «портретах» Арчимбольдо, в южноголландском антропоморфном пейзаже, где метафора «тело природы» впервые получило свое художественное воплощение (ИЛЛ.) В этих ренессансных по духу и барочных по форме штудиях отчетливо проступает обновленная в эпоху Возрождения мифопоэтическая концепция изоморфизма Вселенной. Парацельс создает «хиромантию» растений, изучая их рост и разрушение и отождествляя с человеческим организмом. Одушевленным телом видит Землю Дж. Бруно: катар, рожа, мигрень и прочие недуги соответствуют в его космо-антропологии туману, дождю, зною, грому, молнии, землетрясению. В 1665 году Атанасиус Кирхер публикует свой труд "Подземный мир" (Mundus Subterraneus), проводя аналогию между строением земли и строением живого тела. Шарль Булье, ученик Николая Кузанского, создает учение о «чувствах» и «состояниях» Вселенной, обладающей, подобно человеку, собственным эмоциональным и жизненным ритмом. «Страстей движенье ощущаешь, Как некий странный бег комет" – II, 3. - Это уже Бобров, и это именно тот круг чтения, поэтическую транскрипцию которому он пытается найти. Движение небесных сфер и вечное «коловращение» жизни для него явления одного порядка: с одной стороны, протяженный во времени и необратимый ее ход отмечается пульсирующим ритмом – «боем Сатурновой крови», с другой стороны, как все живое, он подчинен закону кровообращения. Эта общая для мира «кровеносная система» состоит из множества 4 «жил», по которым движутся и молекулы крови, и небесные тела, и атомы времени (Столетье каждое пред ним, как атом трепетный мелькает). Все они суть частные проявления объединяющего мир закона жизни: Как шарики в крови (мы зрим то в малом мире) Чрез жилы утлые, не падая бегут; Так круги светлые в обширном сем эфире По жилам некиим не падая текут. Если бы России довелось пережить эпоху Возрождения, то, возможно, поэтический опыт Боброва стал бы одним из ярких образцов позднего русского «ренессансного барокко». Термин Д.С. Лихачева, поддержавшего размышление Александра Ант. Морозова о сложной природе восточно-славянского барокко XVII и, соответственно, русского барокко XVIII в., которое «как бы приняло на себя функцию Ренессанса, облекая в свои формы его запоздалые проявления». Этот культурный синтез Д.С. Лихачев и определил понятием «ренессансное барокко». При всей условности термина, трудно отказаться от него в разговоре о поэтике Боброва, в которой угадывается дух философии и поэзии сеиченто, эпохи в которой предметом познания и источником вдохновения объявлялась жизнь универсама во всем разнообразие ее форм. По убеждению Боброва, это и есть истинное назначение поэзии, призванной не описывать, но воссоздавать Натуру, творить ее в слове. Путь к этому открывала барочная стилистика с ее техникой кончетто, практика которого были известны в России XVIII в. по переводам Тассо, Грассиана и Джанбаттиста Марино – признанного мастера кончетто. Наиболее близок к Марино был теоретик барокко Эммануэль Тезауро, чей трактат «Моральная философия» об искусстве Метафоры был переведен на русский язык и дважды переиздан в России в 1760-е гг. Высшей разновидностью Метафоры Тезауро называет Метафору Пропорции, где форма выражения неразрывно связана с содержанием, и, если меняется одно, неизбежно меняется и другое. Ни одной фразой Бобров не выдал своих тайных учителей, и их никто не обнаружил, кроме, пожалуй, критика журнала Благонамеренный , который в 1822 г., спустя 12 лет после смерти Боброва писал о нем: «Гений Боброва, своевольный, необузданный, презирал все почти правила вкуса. В его творениях часто встречаются картины чудовищныя, мысли странныя – словом все причуды одичалого воображения … Можно бы привести много подобных примеров из <Тавриды> которые живо напоминают принужденный слог Марини и его подражателей… Злоупотребление ума и слог, испорченный кончеттами, составляют отличительный характер» сего итальянского стихотворца. В преамбуле к русскому изданию «Моральной философии» Тезауро его переводчики Стефан Писарев и Гергий Дандол поместят слова Петра I, воспринятые ими как завет: «Историки <…> доказывают, что первый и начальный Наук Престол был в Греции, откуда, по несчастию, принуждены были оне убежать и скрыться в Италии, а по малом времени рассеялись по всей Европе; но нерадение наших предков им воспрепятствовало, и далее Польши пройти их не допустило…». Упрек в адрес предков, по вине которых европейские достижения остановились на границе с Московией, Петр заканчивает словами: «Я не хочу и изобразить другим каким либо лучшим образом сего наук прехождения, как токмо циркуляциею, или обращением крови в человеческом теле: да и кажется я чувствую некоторое в сердце моем предуведение, что оныя Науки убегут когда ни будь из Англии, Франции и Германии и перейдут для обитания между 5 нами на многие веки...» [Философия, 2]. Издание эстетического трактата Тезауро должно было в представлении его русских адептов послужить к разрушению «вековых препон» и вдохнуть в отечественные науки и искусства дух Возрождения. И тогда, пишет Бобров, цитируя ту же преамбулу, исполнился бы тот Период славный просвещенья, О коем беспримерный ПЕТР Подобя току крови в теле, Пророчески провозвещал… (IV,189) Взлелеянный идеями Ренессанса тип интеллектуальной культуры, так глубоко захвативший в конце XVIII столетия рядового русского литератора, оказался мало востребованным в России рубежа веков: она бредила Просвещением и примерялась к Сентиментализму, не подозревая, что уже написаны "Метаморфозы растений" Гете и "Философия природы" Ф. Шеллинга. Обновленная немецкими поэтами-романтиками старая европейская натурфилософия доберется до России ровно тогда, когда журнал Благонамеренный вынесет Боброву свой вердикт. Программный тезис Новалиса «Ландшафт нужно ощущать как тело» будет воспринят русскими романтиками как культурное откровение.