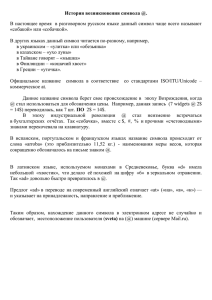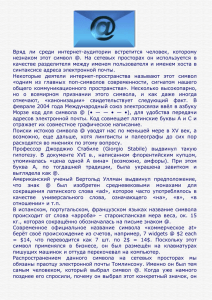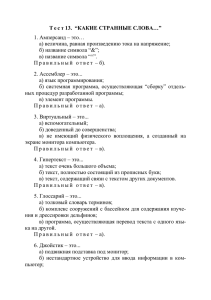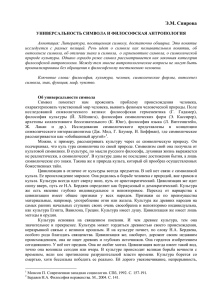психодинамической терапии – к онтологической
реклама

И. Е. Винов ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ Киев - 2015 ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ––––––––– ОТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ – К ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКЕ И ПРОБЛЕМНО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ Часть первая (п и л о т н ы й в ы п у с к) Содержание ПРЕДИСЛОВИЕ ............................................................................ 6 ПОСТАНОВКА ВОПРОСА ......................................................... 12 ФОРМАЛЬНЫЙ ПЛАН ................................................................ 15 ОТ РЕВИЗИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ К ДЕКОНСТРУКЦИИ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА – ОТ ФУНКЦИИ К ....................................................... Error! Bookmark not defined. САМОСТИ СИМВОЛА .................. Error! Bookmark not defined. РЕВИЗИЯ И АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ И СРЕДСТВ ИССЛЕДОВАНИЯ ......................... Error! Bookmark not defined. ИТОГ ОНТИКО-ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВИЗИИ И ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ И ДЕКОНСТРУКЦИИ ПОДХОДОВ В ГОРИЗОНТЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ, ПРОБЛЕМНО-СИМВОЛИЧЕСКОГО ПОДХОДА И СТРАТЕГИИ ....................................................... Error! Bookmark not defined. РАЗВИТИЯ СИМВОЛДРАМЫ ...... Error! Bookmark not defined. ПСИХОАНАЛИЗ ............................ Error! Bookmark not defined. ПРЕДИСЛОВИЕ Подлинное исследование конституировано подлинной проблемой. В этой фигуре «трансцендентальной тавтологии» – элементарная сущностная истина. Подлинна та проблема, которая остается для мыслящего человечества в течение всей его истории неразрешимой – именно постольку, поскольку экзистенциально актуальной. Подлинная проблема, таким образом, универсально имманентна каким угодно конкретным подлинным проблемам и уже по способу идентификации косвенно разоблачает проблемы неподлинные. Одна из главных задач исследователя – верно идентифицировать подлинную проблему в плане средств и целей исследования. И если подлинная проблема по сути и логическому определению лежит по ту сторону истории и времени, а также понятийного мышления (иначе она бы не была проблемой), то ее решение является преодолением самой историчности, самой временности, самой понятийности, что значит – самой «понятливости» мышления как такового1; такое решение есть формирование того, что зовется мышлением в проблемной имманентности. Решение подлинной проблемы чревато, таким образом, рождением нового мышления, нового времени и новой истории, то есть новой онтологии. И это вовсе не метафора, но реальность бытия мыслящего – его экзистенция. Идентификация проблемы оказывается методологической альфой и омегой фундаментального исследования, поскольку таковая есть, во-первых, установление предела мышления и горизонта временности 2 , а во-вторых, обретение 6 1 «Как такового» в настоящем контексте определено не метафизическим доказательством по методу и предмету в аксиоматический системе, но феноменологией самой проблемы, которая (феноменология) показывает предел и структуры мышления не индуктивно, но аналитически. 2 И Коперник, и Кант, и Фрейд, и любой исследователь, сколько-нибудь всерьез определяющий предмет исследования, заново осмысляет историю философии и науки (для нас это не одно и то же), устанавливая их предел и горизонт личного времени, исходя из проблемы, которая определяет экзистенцию самого исследователя. История, время и мышление при этом должны быть формально синхронизированы, а значит должны войти в язык и осуществиться в речи. имманентного категориального аппарата. Средства самого исследовательского мышления при решении подлинной проблемы не могут быть заимствованы из прежней метафизики или научной системы, но должны быть изготовлены из рабочего материала и посредством анализа и рефлексии самой интуиции мышления, обращенного к проблеме. Проблемно ориентированное исследование радикально отличается от задачного и в том числе инженерного мышления, поскольку извлекает сам предмет исследования из бытия проблемы, сфера которой – субъективность в пределе интуиции. Эволюция знаний и парадигм опыта в свете так организованного мышления для исследователя выступает в качестве проблемной морфологии и в итоге исследования оказывается категориальным фоном той или иной онтологии 3 . То, с чем столкнулись мы экзистенциально, в различных ситуациях показывало себя мерцающим образом то как проблему достоверности знания, то как проблему бытия к истине, то как вопрос об онтологическом статусе человека, то как проблему отношения бытия и мышления и т. д., но всегда обращало мысль к причине мышления и ставило под радикальный вопрос и бытие, и само же мышление. После ряда раздумий мы поняли, что речь идет о понимании как таковом и структуре понимания. Мышление же оказалось при этом лишь одним из элементов понимания. При таком положении дел начать подлинное исследование означает бросить вызов самой интенции не только современной науки, но и философской традиции, которой противостоят лишь некоторые философы и некоторые способы философствовать. Разумеется, и сама 3 Так, у Гегеля понятия субъекта или Духа, раба или господина в итоге не имеют ничего общего ни с этимологией, ни с логическими эквивалентами этих слов в прежней философии и в обиходном мышлении современников. Когда Хайдеггер говорит о том, что философия возвращает смысл словам обыденной речи, надо понимать это высказывание вовсе не этимологически, но экзистенциальноонтологически – как возвращение речи к собственному истоку — Dasein — и открытие Dasein в самой речи. Для нас Dasein открывается через проблему и ее решение, при том что решение проблемы не аналогично решению задачи (о чем речь гораздо ниже). 7 структура текста формировалась в ходе исследования – в диалоге и полемике с теми или иными не только выводными понятиями и концептами прежней философии, но и структурами и форматами мышления. Мы решились сохранить сам стиль письма не столько по причине, скажем, усталости или завышенной (заниженной) самооценки, сколько рискнув показать читателю лабораторию исследования подлинной проблемы — проблемы смысла и назначения самого мышления, а следовательно бытия Человеком. В итоге исследования мы сформировали алгоритм понимания и увидели – мышлением можно и нужно управлять. Закономерен вопрос о выборе главного предметного атрибута исследования и его тематизации – символа и символического мышления. Почему символ, а не само мышление или бытие, экзистенция или время оказывается «точкой сборки»? Для нас еще на предварительном этапе, а затем и в ходе исследования стало очевидным то, что символ, символическая функция и символический порядок имманентны самой причине мышления и онтологически предваряют какие угодно регистры и форматы мышления – а следовательно, должны быть поставлены в самом мышлении рамочно, давая ему возможность видеть себя помимо какого угодно содержания. Можно сказать, осмысляя символ и символическую функцию, мы не даем мышлению захватить в нас самих то, что мышлением не является — причину мышления и к ней обращенную интуицию. Конечно же, при такой задаче мы не могли «двигаться» традиционным для декартовой системы координат образом и строили свое исследование так, чтобы очередной виток, очередной шаг обеспечивающего исследование мышления в той или иной степени становился предметом анализа и рефлексии на следующем шаге, следующем витке. Вторая задача состояла в том, чтобы показать само становление символического мышления, то есть понимания, а не объяснить его со стороны понятийного и понятливого мышления. Сферы научной практики и подходы, их определяющие, мы выбрали для рассмотрения исходя именно из этих задач, отдавая себе однако все более ясный отчет в том, что их можно расширять до бесконечности: ограничением 8 расширения может выступить лишь конкретная задача или подлинная проблема самого исследователя. Онтологическая герменевтика, которую мы формируем на заключительном этапе в качестве коррелята итогового проблемносимволического подхода, собственно служит делу расширения поля понимающего, то есть символического мышления и кооперации подходов и методов самого понимания. Онтологическая герменевтика аналитически выявляет подходы и авторские позиции, которые служат делу понимания, и открывает к ним доступ заинтересованному, онтологически ориентированному читателю. Завершая работу над самим текстом, мы пришли к убеждению, что ухвачена подлинность проблемы в ее сущностном атрибуте 4 и теперь важно ее структурировать и удержать во времени посредством письма и деятельности. Открывающаяся перспектива – альтернативная форма образования, которое определено дальнейшими исследованиями понимания как такового и осуществляется как поступательно-возвратное движение. Каждый шаг развития здесь необходимо обращает нас к онтологическому началу исследования в целом и к причине мышления. Вспоминая Л. Выготского, следует сказать, что для субъектов образования проблемно-символический подход и онтологическая герменевтика определяют зону ближайшего, а для исследователя и практикующего философа (аналитика, феноменолога, герменевта и методолога) – зону предельного развития. Автор выражает глубокую благодарность Г. Белоцерковскому, который спровоцировал тему исследования 4 В итоге исследования становится очевидным то, что подлинная проблема имманентна любым подлинным проблемам и, стало быть, по отношению к ней онтологически уместно как единственное, так и множественное число. Возможен также и хайдеггеровский вариант отглагольного существительного «проблемность» (то есть как бытие проблемы), но мы предпочитаем использовать слово «проблема» выявляя его статус и функцию контекстуально, прежде всего по связи с его сущностными атрибутами (в нашем случае это символ и символическая функция) и категориальным фоном (у нас его обеспечивают исследуемые подходы). 9 поля различения психоаналитической, психотерапевтической и психиатрической герменевтики; П. Щедровицкому и его школе, в пространстве которой формировались методологические навыки мышления и впервые осуществился предпринятый автором сопоставительный анализ СМД-методологии Г. П. Щедровицкого и структурного психоанализа Ж. Лакана; Участникам проекта психоаналитически ориентированной терапии «символдрама», среди которых как мои соотечественники, так и коллеги из Германии – Я. Обухов, Д. Залесский, Э. Вильке, Х. Хеннинг и др.; коллегам и учителям из Фрейдового поля и НЛС (новой лакановской школы), среди которых Ж. Миллер, Филипп Стас, М. Страхов, Ю. Вольных и др.; художнику и оригинальному мыслителю, ныне покойному С. Шерстюку; моему студенческому учителю поэтики и поэзии Е. Винокурову и соратникам по цеху, из них иные уж далече: А. Парщикову, А. Еременко, А. Чернову, В. Малягину, К. Кедрову и др.; гениальному изобретателю, представителю инженерного мышления на территории психологии О. Бахтиярову; всем, кто оказывал мне моральную и техническую поддержку в ходе формирования и реализации проблемносимволического подхода – как в настоящем тексте, так и в гуманитарной практике (психотерапии, педагогике и т. д.); прежде всего – тому, кто поверил в успех проекта и продюсировал его пилотный запуск – В. Стриге; философам, беседы с которыми мне обеспечивали рефлексию и критику собственной методологии: А. Шевченко, С. Бураго, Г. Богину, А. Ахутину, И. Пистрому, А. Величенко, А. Беличенко, С. Мамаеву, В. Дышлюку и др. Наконец, хочу выразить особую благодарность человеку, без которого не могли бы осуществиться ни настоящее исследование, ни сам проект моей исследовательской и творческой работы в целом – Максиму Добровольскому. Именно благодаря ему я смог уловить эзотерическую интонацию музыки второй половины ХХ 10 столетия и вместе с ним была инициирована онтологическая герменевтика в качестве критики и анализа как символического мышления на территории искусства, так и классической метафизики в целом. Ему же я обязан не только в плане литературной редакции текста, но и опытом радикального прочтения такового. Под радикальным прочтением я понимаю выворачивание текста наизнанку и предоставление его автору в качестве зеркала авторского мышления. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА Настоящий набросок к исследованию возник на пересечении четырех проблемных полей. В условной последовательности это: 1) онтологическое самоопределение и теоретическое обоснование психоанализа, психодинамической терапии, как и вообще любой гуманитарной практики; 2) установление критериев и границ познания по отношению к субъекту понимания и формирование некой «понимающей» (герменевтической) позиции – как в философии, искусстве, психоанализе и психотерапии, так и в любой гуманитарной практике; 3) формирование самих условий постановки и решения указанных проблем – что значит, в первую очередь, осмысление символа и символического мышления как собственно средств понимания и понимающей (герменевтической) деятельности; 4) построение онтологии. То есть в отношении последней, как мы увидим далее, предпринята попытка ее радикального переосмысления в плане связи и различения: а) бытия и мышления, б) бытия, мышления и логоса, в) логоса, смысла и истины, эпистемологии и методологии символического мышления в перспективе диалога мистики, искусства, философии, гуманитарных знаний и точных наук. На пересечении перечисленных полей мы предпринимаем попытку сформировать универсальный подход (но не метод, поскольку различение метода и подхода для нас является онтологически значимым) к установленному проблемному содержанию, определяя предметную область исследования как а) действительность символа в жизни человека в качестве онтологической и антропологической возможности к пониманию, б) средства и условия понимания, в) саму возможность какого угодно мышления и способность субъекта символизации различать вещи и события по способу быть понятыми. Понимание, способ бытия и его основной атрибут экзистенция – являются в контексте поставленного вопроса имманентными и коррелятивными единицами того, что мы весьма условно обозначаем на данном этапе как бытие символа. Символ на стадии постановки проблемы нами понимается в качестве фундаментального условия бытия собой, – то есть такого бытия, в онтологический состав которого входит бытие с Другим и отношение к Иному, в силу чего символическое мышление и обеспечивает человека его основной способностью: бытием к истине, что значит – пониманием. Благодаря символическому мышлению сам символ (уже в качестве прозрачного априори мышления) становится средством разумного существования, которое не исчерпывается рефлексией к основаниям и их анализом, но, участвуя в созидании мира, выясняет собственную суть в событиях созидаемой истории и структурах конкретной социально значимой жизненности. Символическое мышление (что мы констатируем пока лишь в плане наличной фактичности – того, от чего мы не можем уклониться в обыденном мышлении) обеспечивает нас прежде всего онтологическими условиями понимания и самой экзистенции, среди которых особое место занимают сомнение в адекватности собственного восприятия и раскрытие фундаментальной интуиции-интенции бытия истины невыводного, не-рационального, не-эмпирического характера. Мало того, даже если понимание невозможно, вопрос о понимании и бытии к истине может состояться лишь при фактичной наличности символа и символического мышления. Само различение между, с одной стороны, атрибутами и аспектами восприятия, с другой стороны – переживанием фактов восприятия субъектом обеспечивает нам экспликацию смыслового, без преувеличения, фокуса всей исторической практики человечества – вопрошание о смысле собственного бытия. И Гёте, и Витгенштейн, и Платон, и Лакан, и Гераклит, и Хайдеггер в различных метафизических контекстах указывают на одну и ту же проблему – проблему имманентной структуры вопрошания и бытия к истине как способа бытия человеком. Вопрос об истинности собственного бытия в качестве сущности человеческого субъекта задан символически – как возможность быть собой посредством слова. Аподиктичность слова как условия быть человеком, а значит собой, есть, таким образом, онтологическое задание и одновременно свойство символического мышления. Очевидность как логическая ясность, приведенная в адекватное отношение к чувственной достоверности, достигается исключительно сомневающимся и вопрошающим мышлением, мышлением, которое на определенном этапе развития становится проблемой для себя самого и формирует особый взгляд на вещи и собственное мышление – одновременно. Именно символическое мышление не допускает субстантивации и натурализации любой формы мышления, удерживая понятийное мышление от абстрактной спекуляции, а эмпирическое от психологизма. Выявить пути к обретению подлинно символического мышления, установить его онтологический статус и контекст экзистенциального производства в перспективе кооперации онтологий и подходов – одна из основных задач настоящего исследования. ФОРМАЛЬНЫЙ ПЛАН Первый этап и генеральная линия настоящего исследования посвящены осмыслению символа в его собственном значении, что требует создания особого контекста, который обеспечил бы прозрачность символизации как таковой и средства, необходимые для анализа символической функции в действии. На первом этапе осуществляется ревизия бытующих представлений и значений символа, реконструкция и деконструкция тех основных регионов знания, где используется понятие «символ». Второй этап и соответственно линия исследования посвящены выявлению онтологического горизонта символического мышления и установлению собственной территории символа, что требует рефлексии, анализа и символической редукции нашего собственного мышления, а также выявления и формирования ситуаций целевого осуществления символической функции. Третий этап и линия исследования посвящены формированию эпистемологии и онтологической герменевтики символа и символического мышления, что требует формирования особой коммуникации, в которой новый смысл символа обретает предметное значение, дискурсивную формацию и универсальный план интерпретации в качестве собственной эпистемологической структуры и конфигуратора онтологической герменевтики. Четвертый этап и линия формируют методологию и технологию символического мышления – проблемносимволический подход. Проблемносимволический подход должен обеспечить мышление пониманием фундаментальных условий символизации и онтопрактику символической функции – практику понимающего мышления и понимающей деятельности в перспективе создания методологии понимания как такового. Разбивка на линии и этапы производится поскольку исследование не может быть построено исключительно в строгой последовательности, но заявленные проблемные стратегии взаимодействуют на различных этапах и участках текста, пронизываясь ею в качестве смысловых, подчас пересекающихся линий. Структурная особенность текста, таким образом, продиктована отчасти самим предметом исследования, отчасти спецификой нашего мышления, которое в ходе исследования становится объектом исследования и рефлексивного анализа наряду с прочими. Постановка вопроса в перспективе использования его в качестве средства исследования по видимости вполне традиционна: что значит понимать символ? Этот вопрос неоднократно ставился, но, как правило, сводился либо к мистической имманентности в духе средневековых реалистов и Бергсона, что, по сути, является антисимволизмом, либо к трансцендентализму в духе аристотелевской формы (одна из наиболее значимых фигур в этом регионе – Кассирер), номинализма и экзистенциального структурализма (одним из наиболее последовательных адептов которого следует признать П. Рикера), что приводит в конечном итоге к субстантивации и автономии символа, то есть опять-таки к трансцендентализму. Как показывает нам эмпирический план и анализ интуиции в психоанализе, а также философии мышления, теории и критике искусства, символическое мышление не есть метафизическая действительность какой угодно субстанции или некой априори чистой (безразличной к какому угодно жизненному содержанию субъекта восприятия) формы. Символ и символическое мышление не только предваряет понимание, непонимание и соответственно опосредованное ими бытие, но и сущностно, экзистенциально и качественно участвует в бытии понимающем и бытии созидающем. Символ – уже в качестве онтологической модальности – соприсутствует в понимании и деятельности понимающего бытия наряду с иными фундаментальными условиями и структурами понимающей действительности. Но вначале мы должны ухватить символ и символическое мышление в его собственной функции и бытийной тотальности, то есть исследовать символ в его соотнесенности со всеми фундаментальными функциями и структурами мышления и бытия. Таким образом, понимать символ означает мыслить само символическое мышление, саму способность различать себя в актах непосредственного восприятия и рефлексии, в душевных или физических страданиях и равным образом творить при этом собственное бытие в системе этих различений. Иными словами, ни созерцание, ни рефлексивный анализ, ни какая-либо система научных понятий не могут обеспечить нам понимание того, кто (или что) порождает символы и оперирует символами. Поэтому наша задача – не определять символ лингвистически, психологически или метафизически, но видеть и находить возможность использовать саму символическую функцию как ту, которая предваряет любое предметное знание. Это значит, что уже в самом начале исследования мы должны зафиксировать исчезновение субъекта (по крайней мере, в стратегии декартовского cogito) и субстанции в качестве опорных категорий, как и десубстантивацию мышления, которое пытается заговорить о символе и помыслить символ. Символическое мышление для обыденного мышления парадоксально, поскольку не принадлежит кому-либо вне и помимо существующего, но при этом предваряет как говорящего, так и мыслящего в самом акте мышления (до и помимо опыта, до и помимо знания). Разумеется, аппарат понимания символа и символического мышления не может строиться в системе понятийного мышления и декартовых координат; на пути к пониманию символа стоит главная преграда – привычка к гарантированному в наличном существовании мышлению, что и привело европейскую метафизику к онтологизации мыслимого основания субъекта и его категоризации в качестве субстанции. Именно с этой преградой столкнулись и психоанализ, и феноменология, и Dasein-аналитика, и системно-структурный, и системо-мыследеятельностный подход (а также производные философии постмодерна, которая по своей сути есть рефлексия дефицита символической функции). Может ли быть переброшен мост от символического мышления и его эпистемологии к мышлению естественнонаучному и метафизическому – вопрос не риторический, поскольку именно на него сегодня пытаются ответить в поле научно-теоретических психотерапевтических и психоаналитических дискуссий представители самых разных гуманитарных направлений и психотерапевтических конвенций. Снова-таки Анри Бергсон, как мы уже упоминали, занимая «антисимволическую» позицию, именно искусству предоставляет право на непосредственность бытия в истине, что в его теории тождественно фундаментальной характеристике времени – длительности. Вопрос о связи точных или же «естественных» наук с гуманитарными занимает и последователей Хайдеггера, в первую очередь Гадамера, а в дискуссионном психотерапевтическом и философском поле он приобретает различные формулировки, примеры которых: является ли психоанализ наукой? Каковы научнотеоретические основания психодинамической терапии? Возможна ли собственная теория и онтология искусства, а не метафизическая апология искусства? Существует ли рациональность любви и рациональность творчества? И т. п. Между тем главным всетаки является вопрос о том, каким способом бытия и какой формой мышления мы пользуемся в самой поэзии, в самой любви, в самой психодинамической терапии, в самом психоанализе и в самой жизни. Таким образом, мы уже сейчас должны констатировать эпистемологическую ущербность любой теории и критики искусства, психоанализа и т. п. – собственно той философии, которая построена на метафизическом, а следовательно, субстантивированном основании мышления. Сам способ мышления о мышлении символическом должен оперировать не субстанцией и основанием понятия природы сущего, но чем-то иным. Поэтому прежде чем обратиться к вопросу об онтологии символа, определяющей методологию его экспликации, то есть специфику соответствующего его использования в психодинамической терапии и психоанализе, мы должны показать, почему не будем заниматься обоснованием нашего мышления в регионе естественных наук, экспериментальной психологии и обыденного сознания. Итак: Во-первых, символ не является продуктом понятийного мышления, но онтологически предваряет и конституирует таковое во всех его проявлениях. Это положение исчерпывающим образом было показано и доказано еще Кантом. Способность к суждению – имя символа в декартовской метафизике, и сами европейские науки – лишь одно из производных указанной способности. Само декартовское cogito является символической структурой, но не научным понятием, и показывает саму способность быть мыслящим. Сogito, таким образом, не требует никаких доказательств и обоснований, но предваряет таковые, как и сам метод. Для того чтобы помыслить cogito, надо оказаться в той же структуре существования, что и Декарт, мыслящий cogito (но не метод), то есть осуществить символическое, а не понятийное мышление. Быть может, исследуя символ, мы должны если не создавать новое cogito (что предлагает Мерло-Понти), то вернуть ему истинный, на первом этапе экзистенциально-онтологический смысл. Во-вторых, принципы понимания символа и символического мышления находятся в совершенно иной сфере, чем сами естественнонаучные знания и мышление на них основанное и ориентированное. Причем именно сама метафизическая ориентация-на в данном случае и является причиной несовместимости указанных способов и форм мышления с мышлением символическим. Человек, ориентированный-на доказательство бытия Бога, никогда не придет ни к ортодоксальной апостольской вере (единственно которая предположительно дает возможность понять, в чем именно состоит суть религиозного самосознания), ни к поэтическому пафосу, ни к философскому самостоянию и благочестию, поскольку способ его мышления негативно предопределяет какие угодно результаты этого мышления, а именно – объективирует субстанцию доказательства, субстанцию как форму реальной сущности, которая безразлична к бытию во времени. Исследователь, ориентированный на эссенциальные (а значит, предметные) атрибуты мышления и самого существования, никогда не ухватит в качестве объекта мышление и существование в его собственной сути, поскольку ориентирован на объективную истину, истину вне субъекта – «вещь в себе». Именно на это фундаментальное различие метафизики и символического мышления указывает осуществляемая Паскалем критика декартовской аргументации бытия Бога (хотя на Декарте рациональная апологетика вплоть до теодицеи не завершилась и ее мы то и дело наблюдаем как в научной, так и в квазинаучной среде: Н. Бор, А. Энштейн, К. Юнг и пр.). Таким образом, мы не рассматриваем символ в естественнонаучной парадигме, поскольку там попросту нет места для его существования, вернее, нет соответствующей символу формы мышления. Использование же слов «символ», «символическое» и прочих однокоренных означающих, как легко убедиться, полистав словари и монографии, изготовленные на потребу дня, является грубой редукцией символа и символизации к психологическим и лингвистическим функциям знака (нам еще предстоит различение знака и символа) или, того хуже, к аспектам магического мышления. Культурологическое же, как и историческое понимание символа формулирует его как архетип, по странному недоразумению обретающий во времени и пространстве наглядность как коррелят/атрибут мифологической функции, то есть как сущность, которая нам дана и задана априори структурой языка и его культурной амплификацией. Такова, к примеру, метафизика К. Юнга в его учении об архетипах. Кому же в таком случае собственно дано право на интерпретацию символа и не превращается ли при таком понимании символа психоанализ, как и прочие гуманитарные науки, в политику – вопрос отнюдь не праздный. Имплицитная репрессивность всех такого рода теорий, завершающихся элементарным фашизмом, очевидна, однако стыдливо умалчивается по причинам отнюдь не психоаналитическим. Итак, символическое мышление и понимание символа находится в сфере бытийных условий понимания человека и самого мышления, но отнюдь не в сфере научной догматики и предметных знаний. Обязательный для научного обоснования эксперимент и компаративный анализ в сфере символического мышления является такой же нелепостью, как и вопрос о пользе художественного произведения в народном хозяйстве или значении эстетики в жизни насекомых. Однако все сказанное отнюдь не предполагает спиритуализацию символа и не упраздняет его главной черты – конкретности (что будет нами раскрываться ниже). Что символом не является? Так мы формулируем первый вопрос в контексте установленной проблематики. Символическое мышление не может быть понято из произведения, предмета или же основания какого угодно мышления, то есть мышления уже случившегося и равно установленного, на каком-либо основании. Мышление, основанное на знании «впереди-позади себя» (в толковании и терминологии Хайдеггера), уже ушло от себя, поскольку символ есть сама первичная форма и сам способ бытия и сбывания мысли. Мысль вне символа не достигает себя и не настигает себя – по крайней мере в сознании. Причем сознание, конечно же, должно пониматься не как психологическое индивидуально ставшее, но как сознание человека и человечества вообще, реальное наличествующее здесь и сейчас в том или ином акте символизации (что значит – в том или ином случае человека). Чтобы случилось сознание индивида, символ должен сбыться в сознании реального человечества – того, на фоне которого только и возможно установление фигуры человека. Однако само соположение фигуры и фона возможно лишь при онтологическом различении одного и другого, при способности человека помещать себя и различать себя как инобытие по отношению к любому сущему, вплоть до человечества и даже своего собственного тела (вспомним И. Мандельштама «Дано мне тело, что мне делать с ним, Таким единым и таким моим»). Человек лишь тогда оказывается человеком, что значит – субъектом, способным к символизации, когда его сущность в самом способе существования определяется как особенная, отличающаяся от всего в мире сущего и одновременно устанавливающая не только предметное сходство, но и бытийное сродство с любым наличествующим объектом экзистенциально и онтологически – по самому способу быть. Способность творить идентичности присуща именно человеку, и именно эта способность входит в состав способности к суждению и символической функции. Только символическая функция позволяет человеку находить себя в объектах мира и различать себя в особой внемировой сфере бытия. Попытка аргументировать описываемую способность понятийно привела Декарта к методу, а Канта к трансцендентальной логике. Наша же задача не редуцировать способность символизации к той или иной предметности, но раскрыть ее позитивно – в ее собственной стихии, что и происходит в искусстве, психоанализе, символологии и религиозной мистике. Формально мы фиксируем первый базовый негативный атрибут символа – символ является условием какого угодно бытийного отличия, различения какой угодно формы существования, какой угодно идентификации по отношению к существенности мыслящего, которая формируется и показывается в самом акте мышления. Подчеркнем: не отличием и не идентификацией, но условием отличия, различения и идентификации. Таким образом, мы еще не знаем и не понимаем, что такое символ, но видим его первичную действительность – это различия и идентификации. Именно поэтому в символическом плане категории часть и целое, всеобщее и индивидуальное, как и прочие бинарные оппозиции, оказываются методологически недостаточными. Таковые производны от различий и определены уже состоявшимися идентификациями. Например, человек и человечество – это лишь конфигурация первичного различия – различения на человека и нечто нечеловеческое, на единицу и множество по отношению к чему-то принципиально неисчисляемому. Для понимания символа требуется не только негативное определение и очевидность его действительности, но и осмысление собственной сущности символа. Мы не можем назвать это определением, поскольку, как уже было показано, имплицируемые операцией о-пределения границы и основания (то есть онтические пределы) формируют понятийное мышление, но не символическое. К пониманию символа мы должны подойти со стороны самого символа, то есть того бытия, которое может быть лишь показано – непосредственно. Это непосредственное бытие должно быть и символом и не-символом одновременно. Именно одновременность наличествующего бытия символа и его созидательной (различающей и идентифицирующей) функции является методологически необходимой структурой понимания символа. Чтобы понять символ, мы должны «положить» в одно и то же пространство и действительность символа в той или иной его актуализации (например, религиозно-мистический акт), и его онтологическое задание (к примеру, благодать или испытание веры). В психоанализе мы постоянно имеем дело именно с этой задачей, когда решаемся на интерпретацию. На каком основании мы оцениваем адекватность той или иной психоаналитической интерпретации? Ответ для любого аналитика очевиден (на основании действительности самой интерпретации в пространстве аналитической коммуникации), но недоступен обыденному сознанию. Аналогичная ситуация разворачивается и в поэзии. Собственно говоря, любой, кто хоть однажды пытался ответственно мыслить, понимает, о чем здесь идет речь. Именно на эту проблему указывает М. Бланшо, когда произносит кажущийся трюизм «чтобы узнать, романист ты или нет, надо написать роман» (то есть обнаружить действительность собственной интерпретации бытия). Данный факт становится для нас особо значимым, когда речь идет о поэзии и даре поэта, который не совпадает ни с философским, ни с каким иным атрибутом разума. Именно на это указывает в порыве озарения Шелли, отдавая приоритет пророчества и нравственности именно поэту. Следуя в этом направлении, мы приходим к той реальной феноменологии, на которую указывает Г. Башляр: которая тождественна искусству. Увидеть символ в его действии и собственной сути мы можем лишь творя символическую реальность (забегая вперед, скажем: одно из имен этой реальности – со-присутствие). Именно эту пара-доксальную реальность, которая противостоит доксальной реальности метафизики, мы должны обеспечить для понимания самого же символа. Таким образом, символическая реальность – это действительность самого символа плюс его возможность, которая входит в состав действительности. В силу природы самого символа реальность символическая не знает покоя, но всегда появляется, при этом неизменным остается направленность символического движения – к собственному бытию, к бытию собственной возможности. Раскольников является символом всего произведения «Преступление и наказание» и при этом сам входит в символическую действительность в качестве одного из персонажей, интригуя бытие произведения и создавая условие для собственного онтологического события – события неожиданного для него самого. И само «Преступление и наказание» в свою очередь оказывается символом жизни сознания читателя, который оказывается то автором, то персонажем произведения – собственной жизни. Роман Достоевского, как любое подлинное произведение, провоцируя в читателе бытие к истине, сам же оказывается символическим объектом – объектом связи чистой возможности, вопрошания о смысле собственного бытия с действительностью субъекта, который по воле автора оказался в ситуации проблемной, ситуации объективно взыскующей это вопрошание. Читатель проживает собственную возможность бытия к истине на материале романной действительности, не решая авторские задачи, но инициируя собственную проблему. Язык и мышление в этом контексте выступают в качестве материала и организованности материала, на котором и в котором движется символ, в котором то или иное событие становится поэтическим феноменом. Феномен в этом контексте задан (но ни в коем случае не дан) символом в качестве наличествующей возможности и вне символа понят быть не может, так же, как символ вне феномена оказывается формальной негативностью, определением ради определения. Феномен предоставляет символическому мышлению собственную предметность – выбранную возможность существования. Феномен открывает в конкретном материале действительность символа. Однако для открытия действительности символа и установления феномена необходимо снова-таки символическое событие – художественное произведение, литургия или богохульство, одним словом, встреча с Другим или утрата Другого, открывающая Иное. Так, если верующий изменяет в обыденной жизни Символу Веры, его мышление оказывается неадекватным, несобственным и именно это осознается им на исповеди и именно это создает условие для подлинной метанойи. Вне действительности Символа веры феномен покаяния попросту не существует. Поэтому невозможна ни психологическая, ни какая угодно иная интерпретация покаяния, кроме интерпретации религиозномистической, невозможна литературоведческая и какая угодно иная интерпретация романа Достоевского, кроме интерпретации самого Достоевского и самого читателя Достоевского. И в том и в другом случае необходимым условием выступает встреча: встреча верующего с Богом, встреча читателя с Автором. Разумеется, понятие автора должно быть детривиализировано и осмыслено, прежде всего, как позиция, которая состоялась в самом творческом акте. Так, если художник изменяет принципам собственного творчества в повседневной жизни, его мышление теряет способность к творчеству (вспомним жизненные трагедии Фадеева, Маяковского и пр.). Онтологически недопустимо «наступать собственной песне на горло», так что миф об имморализме или же аморализме художника является симулякром современности и продуктом ресентимента. Мораль художника имманентна его творческой позиции, и если он не придерживается таковой в своей жизни, то он аморален и как человек, и как художник. М. Бахтин в одной из своих работ говорит о рефлексии творчества в реальной жизни и жизни в реальном творчестве как о необходимом условии искусства. Таким образом, феномен является необходимым условием самой символической жизни. Именно через феномен символ обретает зримую возможность в человеке и сам феномен человека становится указанием на его собственную незримую сущность. Однако для ближайшего нашего рассмотрения необходимо установить контекст, в котором символ событийствует и «сотрудничает» с феноменом. Онтология Гегеля, феноменологические исследования Гуссерля, Dasein-аналитика М. Хайдеггера, структурный психоанализ Ж. Лакана, символология М. Мамардашвили и Пятигорского, философия символических форм Э. Кассирера или семиотические/символологические исследования Ц. Тодорова ставят нас перед необходимостью онтологического сопоставления феномена и символа как двух основных условий понимания человека и бытия. Феноменологически человек оказывается сопричастен всему, что существует. Любое явление в очищенном виде, – по крайней мере в духе раннего Гуссерля, – оказывается формой бытия и содержанием восприятия самого сознания. Символически человек отличается от всего существующего и сам является символом связи между наличным существованием (миром вещей и людей) и чистым бытием (сферой возможного, поверхность которого доступна исключительно в созерцании). Ни феномену, ни символу невозможно отдать какое-либо «оперативное» предпочтение, поскольку бытие и мышление как особый способ бытия не ухватываются в существовании вне феноменологии, а существование и формы сущего не оформляются в сознании вне символологии или же вне системы символов – вне символического порядка. Экзистенция вне символа не существует. Символическая завершенность и системность, – иерархия, – феноменологическая конкретность и структурность, – синархия, – суть два базальных регистра понимания. Однако выявляемая таким образом конструкция оказывается незавершенной, поскольку не снята опасность свести символ к форме бытия, а феномен к наличествующему его содержанию, тем самым вернувшись к аристотелевской метафизике – к миру завершенному и сотворенному. Символическое мышление, в отличие от метафизического и психологического, должно быть позитивно разомкнуто на бытие в имманентном существовании и на существование в трансцендентном бытии (разумеется, в этом контексте нам придется переосмыслить бытие, дав ему трактовку альтернативную Хайдеггеровской). В противном случае мы будем иметь дело с догматическим произволом (в частном теологическом сечении – с произвольной интерпретацией догматов) «поставщиков» символа (вспомним «Легенду о Великом Инквизиторе» у Достоевского). Гуссерль сражается с профанным, замутняющим априоризмом трансцендентности бытия для воспринимающего сознания, но посредством феноменологической редукции приходит, напротив, к прозрачному априори трансцендентности бытия и бытия сущего для сознания как такового. Трансцендентное в качестве самого устройства субъекта сознания в аспекте бытийно познаваемого мира является условием бытия самого сознания. Символ и феномен обретают присущий именно символической жизни событийный характер лишь при размыкании самого призванного к пониманию субъекта на его собственную, противостоящую бытию сущего самость и мировую невозможность исчерпать формируемую в самом размыкании самость в каких угодно формах существования, что феноменологически мы определяем как творящую незавершенность. При этом не завершен не только субъект, но и сам существующий мир. Мы не должны здесь соскользнуть и в платоновское противопоставление бытия небытию, что приводит к бинарной оппозиции, то есть, сноватаки, к гарантированному мышлению, мышлению по аналогии. Творящая незавершенность не должна являться зеркалом Демиурга или философским ухищрением, но принципом организации мышления как такового. Именно как духовная необходимость и возможность бытия субъекта к собственной свободе творящая незавершенность обретает конструктивный в нашем исследовании смысл. Исходя из творящей незавершенности, мы должны мыслить само бытие асимметрично, а именно 1) как возможность быть собой, следуя исключительно из того, кто свободен от любых предпосылок существования, но кто 2) утверждается в собственной свободе по отношению к Иному на материале экзистирующего сущего, которое есть он сам, и в противостоянии предпосылочному существованию. На психологическом плане действительность свободы и сама Личность – это, конечно же, господин Случай, совпадение предпосылочного существования с бытием к свободе (так «случаются» и Власть, и Любовь), но на символическом это ответственное несение собственной свободы. Выявление творящей незавершенности и следование таковой и есть смысл символического мышления и символической жизни в этом аспекте. Такова формальная онтология символа в первом ее наброске, который в свою очередь требует категориальной проработки и, прежде всего, выявления и прояснения собственной предметности. Методология же символического мышления и его спецификация в психодинамической терапии и психоанализе должны быть сформированы на самом предмете и материале психотерапии и психоанализа. При этом спецификация символа и символического мышления не должна оказаться онтологической редукцией, то есть сведением к установленным формальным аспектам символа, но обязана феноменологически уяснить и детализировать онтологические атрибуты символа – испытать онтологию методологией и содержательной действительностью символического мышления. Символ – Феномен – Творящая незавершенность – такова формальная структура действительности символического мышления. Символ при этом, с одной стороны, в самой триаде выступает в качестве трансцендентно-имманентной бытийной установки, формирующей феномен и реализуемой посредством творящей незавершенности, с другой, триада в целом является символом как особой онтологической функцией и структурой. Проясненное явление, связь с таковым причины понимающего мышления посредством объекта связи должно располагать также собственным символическим контекстом, который мы должны установить. Эта триада является для нас на данном этапе также основанием для дальнейшего исследования. Мы исходим в дальнейшем исследовании из нашего наброска понимания символа и сформированного выше аппарата, пытаясь, во-первых, методологически прояснить возможности понимания символа в пространстве психодинамической психотерапии и ее конститутивных единиц (психоанализа, феноменологии, системно-структурного подхода, Daseinаналитики и проблемно-символического подхода, выводимого нами в ходе исследования в качестве интегративного принципа, то есть инструмента онтологической герменевтики); во-вторых, подготовить мышление к более глубокому осмыслению символа и символического мышления в сфере гуманитарных знаний в целом, расширяя и углубляя при этом саму онтологию символа; в-третьих, обеспечить использование символического мышления в качестве (а) трансдикурсивного средства общения, (б) средства метакоммуникации (именно в этом качестве сам язык используется и в философской герменевтике, и в психоанализе, и в феноменологии), (в) фундаментальной герменевтической единицы и онтологической транспозиции. Посредством формируемой таким образом методологии мы предполагаем переосмыслить бытийные и уже затем теоретические основания как психотерапии, так и психоанализа. В ходе исследования мы рассмотрим четыре основных модуса психодинамической психотерапии, каждый из которых, хотя и будет рассмотрен отдельно, по необходимости будет включать остальные в перспективе установления общего символического синтеза для всех подходов и четырех частных синтезов психодинамической терапии в каждом из установленных модусов. Модусу психоанализа отведено обширное место в силу того, что таковой поставляет язык психодинамической терапии, то есть претендует на теоретическую позицию в психотерапии в целом. Прежде онтологической реконструкции (здесь – реконструкции по основаниям) каждого подхода мы совершаем методологическую ревизию психодинамического подхода в целом с приоритетом психоанализа как теоретической и прежде всего категориальной базы любой психодинамической конвенции в перспективе сформулированного выше задания. Разумеется, этот план работ не более чем подготовительный в перспективе формирования онтологии символа, онтологической герменевтики и проблемно-символического подхода. Психодинамический подход, одноименная психотерапия и психоанализ являются, прежде всего, площадкой, на которой мы ищем возможность исследовать первичные процессы и продукты символизации. По сути, эта площадка позволяет рассмотреть также и онтическую лабораторию творчества. Таким образом, до раздела онтологической герменевтики мы осуществляем исключительно подготовительную работу, устанавливая онтологический горизонт символа и символического мышления и схематизируя действительность символической функции в перспективе модальной проблемносимволической методологии.