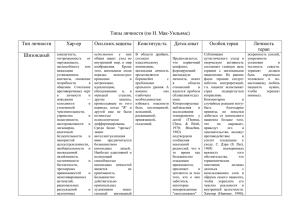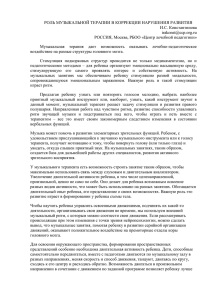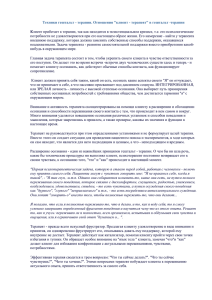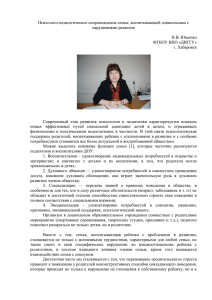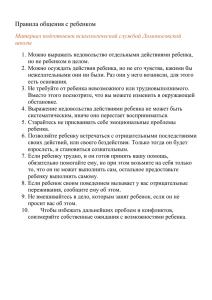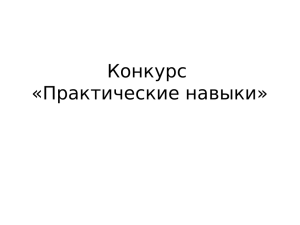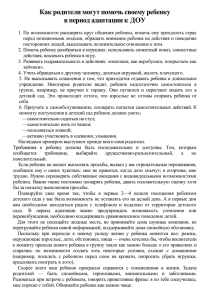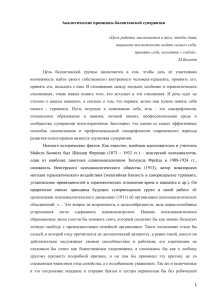Как мы объясняем свои ошибки: контрперенос, проекции и
реклама
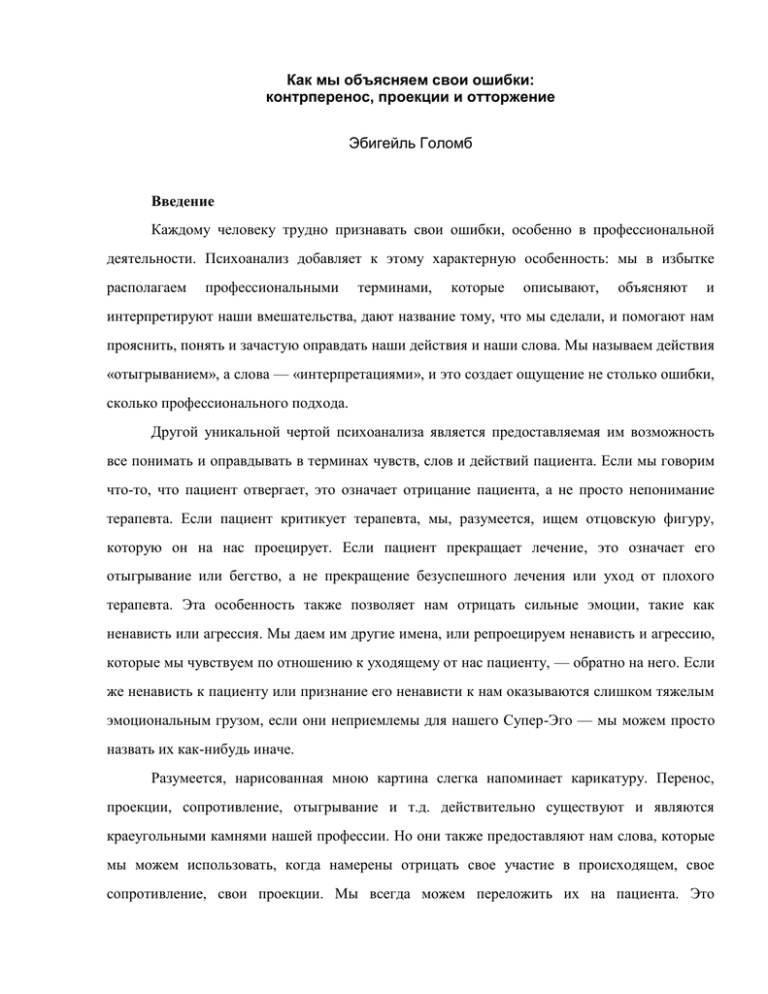
Как мы объясняем свои ошибки: контрперенос, проекции и отторжение Эбигейль Голомб Введение Каждому человеку трудно признавать свои ошибки, особенно в профессиональной деятельности. Психоанализ добавляет к этому характерную особенность: мы в избытке располагаем профессиональными терминами, которые описывают, объясняют и интерпретируют наши вмешательства, дают название тому, что мы сделали, и помогают нам прояснить, понять и зачастую оправдать наши действия и наши слова. Мы называем действия «отыгрыванием», а слова — «интерпретациями», и это создает ощущение не столько ошибки, сколько профессионального подхода. Другой уникальной чертой психоанализа является предоставляемая им возможность все понимать и оправдывать в терминах чувств, слов и действий пациента. Если мы говорим что-то, что пациент отвергает, это означает отрицание пациента, а не просто непонимание терапевта. Если пациент критикует терапевта, мы, разумеется, ищем отцовскую фигуру, которую он на нас проецирует. Если пациент прекращает лечение, это означает его отыгрывание или бегство, а не прекращение безуспешного лечения или уход от плохого терапевта. Эта особенность также позволяет нам отрицать сильные эмоции, такие как ненависть или агрессия. Мы даем им другие имена, или репроецируем ненависть и агрессию, которые мы чувствуем по отношению к уходящему от нас пациенту, — обратно на него. Если же ненависть к пациенту или признание его ненависти к нам оказываются слишком тяжелым эмоциональным грузом, если они неприемлемы для нашего Супер-Эго — мы можем просто назвать их как-нибудь иначе. Разумеется, нарисованная мною картина слегка напоминает карикатуру. Перенос, проекции, сопротивление, отыгрывание и т.д. действительно существуют и являются краеугольными камнями нашей профессии. Но они также предоставляют нам слова, которые мы можем использовать, когда намерены отрицать свое участие в происходящем, свое сопротивление, свои проекции. Мы всегда можем переложить их на пациента. Это действительно особая ситуация, поскольку основные инструменты нашего ремесла являются также лучшими инструментами для отрицания и сокрытия наших ошибок, и научиться правильно употреблять эти инструменты – означает также научиться тому, как употреблять их неправильно. И более того, психоанализ требует крайней сосредоточенности аналитика на себе самом. Аналитик является своим собственным инструментом. Он использует свои ощущения, свободные ассоциации, мысли и чувства как важную часть обрабатываемой им информации о пациенте. Поэтому он постоянно должен заниматься не только пациентом, но и самим собой. Этот процесс может причинять значительные неудобства, если мы обнаруживаем свои слепые пятна, промахи и затруднения; но он также может стать превосходным экраном, закрывающим от нас все эти неприятные вещи, если использовать его неправильно. Учитывая все эти соображения, как мы распознаем свои ошибки, отличаем их от тех случаев, когда пациент действительно использует перенос, отрицание, сопротивление и т.д.? Как распознаем ненависть и агрессию, признаем свои собственные «плохие» чувства? Наконец, просто говорим себе «Я был/а неправ/а», не маскируя этот вывод профессиональным жаргоном? Как и когда мы говорим пациенту «Я был/а неправ/а», чтобы эти слова не превратились из служения интересам пациента в нечто вроде нарциссического акта? Как мы справляемся с неудачами, как мы различаем причины неудачи, включая те, что зависят от пациента? Никто не любит неудач, даже если они происходят не по нашей вине. Но в психоанализе иногда возникает безнадежная ситуация, когда обречены на провал либо наш профессионализм терапевта, либо та исходная идея, что терапия должна помочь данному конкретному человеку. Кроме того, когда пациент от нас уходит, мы вынуждены справляться с отторжением (rejection). Даже если мы осознаем, что надежды на прогресс данного конкретного пациента почти не было, именно мы оказываемся теми людьми, которых пациенты, прекращая лечение, обвиняют в своем уходе. Я предлагаю вашему вниманию два клинических эпизода, отражающие некоторые из этих проблем. Первый пример взят из анализа маленького ребенка. Дети вынуждают нас реагировать на очень примитивном, первичном уровне, так что мы оказываемся склонными к реакциям, не сопровождаемым осмыслением, а затем должны разбираться с тем, что сделали. Второй пример относится к прекращению лечения по инициативе семьи ребенка, что оставило открытыми все вопросы, касающиеся взаимного отказа [от сотрудничества], отторжения и недееспособности [impotence]. Кроме того, испытывать «плохие» чувства по отношению к ребенку еще менее допустимо, так что всякая «нормальная» ненависть и/или агрессия перефразируется и может перенаправляться на семью или окружение, и не признается как нечто, происходящее между терапевтом и ребенком, или в душе терапевта под влиянием ребенка. Случай 1 А. был направлен на лечение в возрасте 4 лет в связи с многочисленными проблемами в развитии. Он страдал от тяжелой задержки развития речи и почти не поддерживал контакта с окружающими. Было непонятно, является ли отсутствие контакта частью синдрома аутизма или реакцией на фрустрацию и затруднения, свойственные его расстройству речи. Он одновременно начал лечение у психоаналитика и логопеда. Многие считали анализ ненужной тратой времени, аналитику же приписывались фантазии всемогущества, относящиеся к способности мальчика развиваться нормально. Два года аналитик боролась с замкнутым, некоммуникабельным, заторможенным и лишенным творческих наклонностей ребенком, которого многие полагали умственно отсталым. На сеансах почти не наблюдалось символической игры, преобладали повторы и стереотипные формы поведения. Но ребенку нравилось ходить на сеансы, и он явственно выказывал определенную степень привязанности к аналитику. Спустя два года в развитии речи произошел значительный скачкообразный прогресс, и хотя оставались трудности в произношении, стало ясно, что ребенок способен пользоваться языком; его социальное поведение также сильно изменилось. В анализе он начал в довольно категорической форме брать инициативу на себя. Он выбирал тип деятельности и требовал, чтобы терапевт повторял каждое его движение. Если он рисовал картинку, аналитик должна была нарисовать в точности то же самое, причем опережать себя А. не разрешал. Дело обстояло так, словно он нуждался в отражающем его зеркале, взрослом человеке в роли переходного объекта, поддающегося контролю и манипуляции; в противном случае А. утрачивал чувство самости. Эта стадия длилась почти год, после чего ребенок в полной мере овладел настоящей игрой, проводя за этим занятием чуть ли не круглые сутки. Он завел себе куклу, которая изображала его с аналитиком ребенка, и разыгрывал взаимоотношения в семье, эмоции, взросление и жизнь младенца и т.д. — ведущая роль в этих играх почти всегда принадлежала ему. Родители и детский сад были в восторге, казалось, что ребенок пережил второе рождение. Стало ясно, что он не аутист и не умственно отсталый, а одаренный ребенок, обладающий, кроме прочего, еще и чувством юмора. В этот момент сомнения возникли у аналитика; она утратила веру в прогресс ребенка, веру в себя в терапевтическом кабинете, она чувствовала, что все ее нормальные инстинкты, уверенность в своих силах и в себе как в аналитике — куда-то исчезли. Она обнаружила, что теряет границы в отношениях с родителями ребенка (беседует с ними на личные темы, принимает предложение подвезти ее на машине или другие услуги и т.д.) и возвращается к той стадии, когда А. был в ее кабинете абсолютным диктатором; что потеряла собственную самость. Всякий раз, когда в ходе супервизии мы анализировали какую-либо из этих форм ее поведения, она [все] «понимала», но через несколько дней «забывала» рассказать мне о своем неправильном поступке, или неуместном смешении своей частной жизни и частной жизни родителей пациента. Казалось, она ничего не интернализует, принимая мои комментарии, которые никак не влияли на ее поведение. Она чувствовала сопротивление со стороны родителей. Мне представлялось очевидным, что она проецирует на них свое сопротивление по отношению ко мне, ко всему, что я говорила. Казалось, мы зашли в тупик, и никто толком не понимал, почему это происходит. А. продолжал делать успехи, и на одном из сеансов супервизии я ненароком спросила, не прекратил ли он лечение у логопеда. Внезапно слово «прекращение» словно осветило для меня все ярким светом. Не были ли все эти проблемы с родителями, регрессия со стороны терапевта к предыдущим формам поведения способом отрицать прекращение лечения? Не пыталась ли аналитик бессознательно добиться регрессии пациента? Не отрицала ли она произошедшие с ребенком фантастические перемены, потому что из-за них он должен был ее покинуть? Не останавливала и не тормозила ли она развитие ребенка для того, чтобы с ним не расстаться? Я попыталась поделиться с ней этими соображениями. Она ответила значительным ростом понимания [insight] родителей и их трудностей, отыгрывание с ними уменьшилось, но по сути никак не изменилось ее ощущение того, что пациент не так уж преуспевает в лечении, а также того, что он определяет ход аналитических сеансов. На этом этапе А. начал спрашивать у нее, как он родился, и просил ее рассказать историю его жизни. В кабинете аналитика на полу лежала огромная подушка, на которой многие дети любили лежать калачиком; А. тоже часто это делал. Теперь он расстегивал ширинку и заползал на подушку, и они играли во многие связанные с этим игры, которые раньше, по-видимому, были весьма значимы, а затем стали просто повторяться. Аналитик снова-таки не знала, что предпринять в этом отношении. А. стал просить ее садиться с ним на подушку и читать ему историю. Он хотел лечь на аналитика, свернувшись калачиком, сосать свой палец, и чтобы она при этом его гладила. В начале это походило на рождение заново, поэтому я выслушивала подобные описания спокойно. Но постепенно они стали все менее напоминать рождение заново, и я обратила внимание на то, что ему шесть лет, и он, возможно, проходит стадию комплексных эдипальных отношений, что полностью отрицалось в анализе, где он представал младенцем. Внезапно физический контакт стал выглядеть неуместным, почти попыткой соблазнения. Я пробовала обсуждать это в ходе супервизии. Мы рассмотрели ту идею, что аналитик удерживает пациента от взросления, чтобы не отпустить ребенка, которого в психологическом смысле произвела на свет; мы рассмотрели трудности расставания с ребенком, которым она занималась более чем половину его жизни и всю его сознательную жизнь; мы говорили об отыгрывании ею роли эдипальной матери и об отрицании ею своего удовольствия от этого. Хотя все эти соображения казались разумными и, возможно, справедливыми, они не вызвали никаких изменений. Затем в ходе группового обсуждения кто-то из коллег спросил: «Почему Вы не садитесь на стул, оставив ребенка на подушке», и аналитик ответила: «У меня нет своего стула. Это комната для работы с детьми, там нет стульев для взрослых, и у меня нет своего места». Она совершенно не размышляла над этой своей установкой, и только случайное (или не случайное?) замечание коллеги пролило свет на то, о чем она никогда мне не говорила — а я ее не спрашивала. Мы также смогли обнаружить важнейший компонент ее готовности слиться с этим ребенком. Она много работала с детьми, отстающими в развитии, и обладала выдающейся способностью «быть с ними повсюду», способностью редкой и для этих детей спасительной. Но эта черта также служила ее собственным определенным потребностям, и когда А. стал «нормальным» ребенком, для аналитика оказалось затруднительным отречение от образа себя как всемогущей, всеобъемлющей матери и сепарирование от А. и от того в себе самой, что позволяло ей выполнять эту трудную работу. В данном случае контрперенос, проекции и сопротивление были подвергнуты проработке. Налицо счастливое стечение обстоятельств: удивительный ребенок, замечательные родители и проницательный аналитик, готовая признать ошибки. Но чтобы разобраться в сути происходящего, потребовалось также сочетание ее собственного анализа, супервизии и случайного комментария. Без внешней поддержки, которая также действовала как Супер-Эго аналитика, она могла бы еще больше запутаться и в еще большей степени утратить границы между собой и ребенком, собой и его родителями. Обсуждение Умение «отпускать» — этап развития [developmental task], вероятно, один из наиболее сложных для многих родителей. Ребенок не просто решает в своем развитии задачи, предварительно поставленные его родителями; родители должны также позволить ему преодолеть эти их. Введенный Малер термин «сепарация-индивидуация» предполагает два параллельных процесса, выполняемых двумя людьми, когда оба должны участвовать в этом сложном движении к независимости. Лёвальд говорит не только о том, что ребенку необходимо выработать границы и развить функции Супер-Эго путем сепарации, но также и о том, что родитель может ощущать это как утрату и лишение. Продолжая свою мысль, он описывает функции, которые ребенок принимает на себя, перенимая их от родителей; и что ребенок воспринимает это как смертоносное действие, направленное на родителя. Не впадая в крайности, можно согласиться с тем, что здесь налицо некая агрессия. Сепарация всегда содержит в себе агрессивный компонент. Возможно, сепарация ребенка при рождении и кровоточащая плацента — это самые ранние столкновения с той бездной боли и агрессии, которую способна вызвать сепарация. По мнению Анны Фрейд, одна из целей детского анализа заключается в том, чтобы способствовать нормальному развитию, вернуть ребенка на нормальный путь, независимо от того, обладает он нормальными способностями и «отклонился» от нормального развития вследствие внешних, реактивных факторов, или же страдает от врожденных дефектов, закрывающих для него обычные пути. У терапевта, работает он с детьми или со взрослыми, та же задача, что и у родителя (в смысле роста и достижения независимости): его назначение — помочь пациенту достичь того, что позволит ему покинуть аналитика. В статье «Конечный и бесконечный анализ» Фрейд говорит: «Даже кажется, что многочисленные аналитики научились применять защитные механизмы для отвлечения от своей собственной особы следствий и требований анализа…». При всяком «отпускании» возникают проблемы (и взрослые пациенты зачастую очень хорошо осведомлены об этих чувствах терапевта и «используют» контрперенос для того, чтобы избежать прекращения [лечения]). Но работа с детьми делает эту задачу вдвойне трудной и куда более сложной. Мы должны справится как с нашей терапевтической самостью, так и с самостью родительской, а различение их зачастую чрезвычайно затруднительно. Случай 2 На данном случае проявляется другой источник затруднений при работе с детьми: наши примитивные реакции, направленные на их защиту. Потребность защищать способна затуманить наше терапевтическое суждение и заставить нас занять позицию всемогущества, которая, как правило, распадается в недееспособность, за счет ребенка и нашего Эго… В., пятилетняя девочка, живущая в киббуце (форма коммуны), страдала от чрезвычайно сильных аллергий — до такой степени сильных, что иногда оказывалась под угрозой смерти. У нее была аллергия на животных, клейковину в пище, дым и на многое другое. Но три вышеперечисленных причины порождали большинство проблем в детском саду, где держали домашних животных, мучное составляло основную часть рациона, а двое сотрудников курили. На физическом уровне решение выглядело простым: не подпускать к девочке животных, обеспечить ей отдельное меню и курить на улице! Но ничего подобного не делалось. Персонал киббуца заявлял, что держать животных требуют остальные дети, кто-то ухитрялся давать девочке хлеб, а курящие просто не выходили на улицу. Службе психического здоровья (mental health staff) предложили вмешаться в ситуацию на двух уровнях: дать рекомендации семье и киббуцу. Оказалось, что мать девочки — воинствующий поборник справедливости, противостоящий всему остальному населению киббуца. Отец был зависимым, запуганным человеком, который не умел принимать самостоятельные решения и не осмеливался иметь собственное мнение. Эта пара функционировала слаженно: жители киббуца общались только с матерью, и не могли идентифицироваться с реально существующими проблемами или напряженностью обстановки, поскольку были слишком заняты ссорами с ней. Обследовав ребенка и семью (нас никто не просил обследовать девочку, мы просто чувствовали, что не можем оценить ситуацию, не увидев ребенка…), мы почувствовали, что все существование девочки определялось ее болезнью, и она столкнулась с серьезными затруднениями в развитии реального ощущения самости. Она не выказывала страха — похоже, это было задачей ее родителей; она просто делала, что ей говорили, признавала только родительский авторитет, и не поддерживала никаких отношений с детьми или хотя бы с персоналом детского сада. Это казалось естественным, принимая во внимание характер ее матери, но никто не обращал внимания на то, какой ущерб все это причиняет ребенку. Оправданием, разумеется, служила ее смертельно опасная болезнь. Но это было всего лишь оправдание. Фактически, родители не чувствовали своего ребенка. Она связывала их с миром, была основной заботой в их жизни. Они обеспечивали ей превосходный уход; врачи считали их прекрасными родителями; но настоящего, независимого ребенка не существовало. В. оказывалась либо ужасной болезнью, либо яблоком раздора между семьей и киббуцем. В итоге позиция родителей привела к новым проблемам: у В. возникло расстройство сна, поведение стало агрессивным. Родители согласились направить В. на психотерапию, чтобы иметь возможность хоть немного спать… В. очень нравилось лечение, она была привязана к терапевту и охотно ходила на сеансы. Приводила ее в основном мать, и на протяжении многих сеансов она, по собственному настоянию, находилась в кабинете вместе с ребенком. Когда В. перешла к символическим играм, ее мать принялась обсуждать, как сотрудники детского сада подвергают опасности ее ребенка. Терапевт испытывала в связи с этим серьезные затруднения, поскольку чувствовала, что мать использует эту стратегию для препятствования лечению — но как можно спорить в ситуации угрозы для жизни? По прошествии некоторого времени мать стала ожидать ребенка вне кабинета, и В. начала выражать свои страхи отравления, агрессию по отношению к миру и свое ощущение того, что на нее постоянно нападают. Она стала гораздо более открытой и менее агрессивной, и расстройство сна почти исчезло. В этот момент мать потребовала предоставить ей отчет, где подчеркивался бы вред, нанесенный ребенку персоналом детского сада, а когда терапевт сказала ей, что это неуместно, мать объявила, что лечение немедленно прекращается, и не позволила В. прийти даже на заключительный сеанс. Терапевт несколько недель размышляла над тем, что еще она могла бы сделать, и в итоге пришла к выводу, что ей следует предупредить кого-то о том, какой вред причиняют ребенку родители. Однако она чувствовала, что слишком вовлечена в происходящее, и обратилась ко мне за консультацией. Она прислала мне очень подробный отчет, описав во всех подробностях мать, и гораздо меньше В. — в сущности, воспроизводя то, что делали все вокруг и против чего она так сильно возражала. Изучив материал, мы выяснили, что у проблемы две стороны: первая — это классическая ситуация с родителями, выводящими ребенка из лечения, как только становится понятно, что ребенок начинает меняться; вторая — это отрицание той чрезвычайно деструктивной роли, которую играл киббуц. Всю ответственность терапевт возложила на мать (которая предоставила более чем достаточно оснований для обвинений), и полностью отрицала, что население киббуца, со своей стороны, вело себя настолько же упрямо и ригидно, сопротивлялось и обвиняло столь же яростно (терапевт сама жила в другом киббуце). Отчет о причиненном ребенку ущербе никоим образом не являлся причиной прерывания лечения; оно было бы прервано в любом случае. Аналитик чувствовала, что бросила ребенка, вызвала в девочке надежду на объектные отношения другого типа, а затем выбила у нее почву из-под ног. Мы пришли к выводу, что все это было ясно с самого начала, и она решилась вести обреченное [на прерывание] лечение потому, что идентифицировалась как с ребенком, так и с киббуцем, и захотела спасти девочку. Большого труда ей стоило признать, что на самом деле ничего она изменить не могла; она предпочитала искать ошибки в психотерапии (обвиняя себя как терапевта), не признавая, что ситуация была безнадежной, что пока конфликт остается в силе, родители будут просто средством его продолжать. Терапия действительно помогла этой девочке и начала приносить свои плоды. Но ни семья, ни киббуц не допускали перемен. Им требовалось поле битвы, и идентификация терапевта с девочкой сама по себе была бесполезна. Мы начали с обсуждения тех эмоций, которые она принимала с трудом: ненависть к родителям, ощущение того, что они убивают ребенка; а также с обсуждения необходимости для терапевта разрушить идеализированный образ киббуца, чтобы увидеть картину во всей полноте. Пока она не признавала ненависть к родителям, мы не могли перейти к чему-то еще. Проработав эти эмоции, мы обсудили те чувства беспомощности и разочарования, которые она испытала при резком прекращении лечения, отражали ли они чувства девочки или собственные затруднения терапевта в принятии того факта, что она ничего не может сделать. В итоге терапевт стала чувствовать, что ее потребность «что-то предпринять», что-то кому-то сказать была формой борьбы с ее агрессивными чувствами по отношению ко всей системе, с которой она ранее справлялась, создав вокруг себя и девочки терапевтический кокон. Это было бы существенно для создания терапевтического сеттнга, если бы внешний мир допускал такой сеттинг. Но в данных обстоятельствах он служил идеальной основой для отрицания [реальности]. Внутри кокона терапевт могла не обращать внимания на все остальные проблемы. Только прерывание лечения позволило нам разглядеть зачатки этих проблем уже в самом начале лечения. Обсуждение Лечение маленьких детей — это особый мир. Благодаря естественному росту ребенка происходит так много изменений, что зачастую трудно сказать, какие из них обязаны своим возникновением терапии. Примыкание терапевта к миру ребенок-родитель само по себе способно приводить к изменениям, ослабляя напряжение или способствуя текущим процессам почти без всякой терапии благодаря самому присутствию терапевта, или полностью эти процессы блокируя вследствие соперничества или родительского страха разоблачения или вторжения. Мы устанавливаем терапевтический контакт с родителями (в отношении не только таких технических вопросов, как время и деньги, но и целей лечения и т.д.), но работаем с детьми, при участии или без участия родителей. Однако родители всегда вовлечены, даже если не принимают активного участия в лечении. И, вероятно, мы всегда легко забываем, что семья, по словам Бронфонбреннера, «является принципиальным контекстом развития человека». Ведь для ребенка мы становимся не только объектами переноса, но и реальными объектами, влияющими на его рост и развитие. Мы постоянно имеем дело с системой, а не просто с диадой. Таким образом, в ходе работы с детьми нас подстерегает ряд ловушек, которые не всегда очевидны при работе со взрослыми, но фактически выражают в явной форме те проблемы, которые рассматриваем легче психотерапию игнорировать, или анализ занимаясь взрослыми взрослого как пациентами. закрытые, Мы диадические взаимоотношения, обращенные на внутренний мир (обоих партнеров в диаде) и потому допускающие исключение той системы, в которой диада и каждый из ее элементов функционируют. Дети и семьи вынуждают нас уделять внимание этой системе. Мне думается, мы не можем рассматривать проекции и перенос в системе как ряд диадических отношений. В самом деле, каждый контакт с другим человеком составляет диаду, а семьи представляют собой не только триады и четверки и т.д., но и набор диад. Львиная доля литературы и обучения, связанных с психотерапией и психоанализом, посвящена диадам, и понятия переноса-контрпереноса и проекции-контрпроекции используются главным образом в контексте диад. Поэтому наш способ мышления, логика суждений, относятся в основном в диадической системе, и мы склонны распространять этот подход на вмешательство и включение в диаду дополнительных участников. Этому находятся параллели и в теории развития, на которой мы воспитаны. Исходная идея касается диады мать-дитя, куда отец внедряется гораздо позже, и играет роль, отличную от материнской. Сегодня принято считать, что ребенок с самого начала формирует диадические отношения с несколькими близкими людьми. Младенец способен поддерживать несколько диад, не обязательно одну основную, на которой базируются все остальные отношения. Если мы перенесем этот подход и на терапию, необходимо будет признать, что всякий пациент является частью системы, и та конкретная диада, которую он составляет со своим терапевтом, — это лишь один отдельный аспект его бытия. Разумеется, мы всегда это знали — но все же формировали эти маленькие коконы вокруг пациента и терапевта, пребывающие в своем собственном мире, и зачастую рассматривали вмешательства реальности в эти коконы как защиту пациента. При работе с детьми такая установка часто принимает форму отношения к родителям как к интервентам — так же, как они считают нас интервентами (каковыми мы фактически и являемся, даже если оказываем при этом чудодейственную помощь). Иногда легко забывается, что для ребенка основными объектами служат родители, а наша задача — содействовать их взаимоотношениям. Бывает, нам кажется, что это родители должны содействовать нашим взаимоотношениям с ребенком. Гораздо легче считать их нашими соперниками, чем нас — их соперниками… Пока терапия длится, многие из этих проблем отходят на задний план. Но они проявляются в полную силу, когда мы начинаем думать о прекращении терапии, или на этом настаивают родители. Мы чувствуем, что «отдаем» ребенка родителям. Мы должны «отпустить» ребенка, так же, как родители отпустили его, когда позволили ему включиться в терапию. Существует множество параллельных ситуаций между тем, что должны сделать родители, когда они направляют ребенка на лечение, и тем, что должен сделать терапевт при прекращении лечения. Главный момент — это доверие; мы ожидаем, что родители будут нам доверять (несмотря на то, что мы заявляем, что не будем сообщать им всю информацию) и показывать ребенку, что он может нам доверять. Когда мы отпускаем [ребенка] — мы должны настолько же доверять родителям, и дать понять это ребенку. Ребенок может воспользоваться этими переходными периодами для манипуляции [отношениями] между родителями и терапевтом, так же, как он манипулирует [отношениями] между родителями. Он должен уметь доверять взрослым, чтобы установить пределы и сопротивляться испытанию пределов, и не запутаться в своих манипуляциях. В то же время взрослые должны осознавать, что переходные периоды, особенно заключительные, такие как завершение лечения, вызывают страх и агрессию. Ребенок берет на себя независимые функции — и родитель может ощущать депрессию или даже нападение, поскольку у него что-то забирают; когда терапия завершается, родители берут на себя независимые функции, и мы можем ощущать депрессию или даже нападение — у нас что-то забирают. Так мы возвращаемся к необходимости признания ненависти и гнева, которые может вызывать в нас подобная агрессия. Чем интенсивней лечение, чем дольше оно длится — тем важнее оказывается роль, которую мы играли в реальной жизни ребенка, а не только в его фантазийном мире переноса. Поэтому «отпускание» совершенно реально, это не просто проекция наших собственных затруднений, родителей или ребенка. Завершение терапии, когда она успешна, имеет большое позитивное значение, как всякий рост. Но это не исключает страха независимости. Его могут испытывать сами родители; а терапевт может сомневаться в способности родителей самостоятельно заботиться о ребенке, забывая, что они должны научиться делать собственные ошибки и справляться с ними, — и точно так же невозможно защитить растущего ребенка от его собственных ошибок. Заключение Мы описали полный круг и вернулись к вопросу о том, как мы справляемся со своими ошибками. Ведь они — существенная часть человеческой жизни. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что не ошибается только тот, кто не лечит. Это не освобождает нас от поиска своих ошибок и их признания, но предоставляет ту же свободу действий, которую мы предоставляем пациентам и родителям: учиться на своих ошибках. Для этого необходимо разоблачение. Еще одна особенность нашей профессии состоит в том, что все происходит за закрытыми дверями, и врачебная тайна является частью договора с пациентом. Вот отличное оправдание, чтобы не показывать себя!! Но ведь мы являемся инструментом своего ремесла, а всякий инструмент необходимо испытать на предмет износа и сбоев. Чтобы понять, что мы действуем неправильно, необходимы барометры, контроль, какие-то индикаторы. Это относится как к нашим действиям в целом, так и к конкретным событиям, происходящим в ходе индивидуальной терапии. Некоторые виды контроля универсальны, например, супервизия. Некоторые вещи каждый терапевт узнает о себе самостоятельно. Но, как обычно, больше всего о своих ошибках и о том, как их объяснить, мы узнаем от своих пациентов. Перевод З. Баблояна, научная редакция И. Романова.