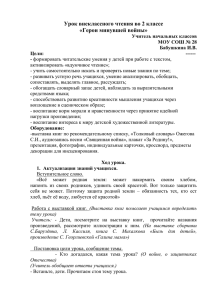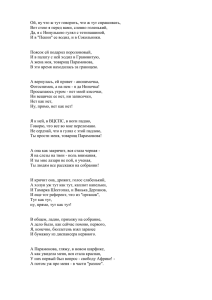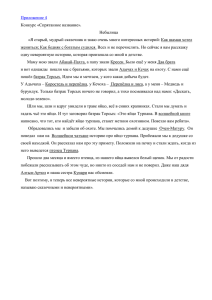Десяток крутых яиц
реклама

Десяток крутых яиц Десяток крутых яиц Эту историю рассказал мне цирковой клоун Жакони, старый добрый толстяк в сандалиях на босу ногу, длинной рубахе под поясок и штанах с огромными пузырями на коленках. Все у него было огромных размеров. Живот. Голова. Нос. Брови. Он много ел, громко смеялся, а храп его записывали на пленку и транслировали во время обеда по всему санаторию, дабы усовестить добрейшего Демьяна Данилыча. — Да-а-а, — самодовольно сказал он, вслушиваясь в сложнейшие рулады своего храпа. — Бывало, львы дрожали в своих клетках, как болонки, когда я ложился за кулисами вздремнуть на куче опилок. Мы сидели с ним за одним столом. Однажды нам подали на завтрак по два крутых яйца, обыкновенных куриных яйца, неспособных, казалось, вызвать в ком бы то ни было особой веселости. Но Демьян Данилыч, взяв в свою ручищу этот сгусточек белка, вдруг выпустил из себя серию таких громогласных «ха-ха-ха-хо-хоох-ха-ха», что официантка, вздрогнув, уронила на пол десертную ложечку. — Демьян Данилыч, вы чему? — Ха-ха-ха-ох-ох-ох-ха-ха… Зарежьте — не скажу. Лучше не спрашивайте… Ох-хаха… Этого я вам никогда не скажу… Ох… Он вытер платком слезы и принялся облупливать яичко, по временам икая от смеха, которому, казалось, было тесно в его рубенсовском чреве. Море в то утро, как синий плюш, было все в мелких серебристых волнах. Мягкие, теплые, они катились вдоль берега, омывая наши ноги, а мы лежали с Демьяном Данилычем на горячей гальке и в блаженном полусне щурились на сверкающее море. — Хванчкара, виноград, солнце, пенсия… Скажите мне, как это называется? — сонно бормотал Демьян Данилыч. — Не люблю я себя на отдыхе, нет, не люблю. Потребленчество какое-то, ей-богу. Всю жизнь я был весел и теперь получаю за это пенсию… Абсурд! Вы думаете, я был весел по профессии? О, нет! Смех был моей потребностью. Я не только смешил людей, я сам смеялся на арене и в жизни. Веселость должна быть нормальным состоянием человеческого духа. И к этому мы придем в наш век, вот увидите! Человек станет в меру работать, хорошо и вовремя питаться, мыться каждый день в ванне, заниматься спортом и много-много смеяться. Тогда он будет здоров телом, ясен в мыслях, прост в желаниях и добросердечен в отношении к людям. Смех — это солнце в крови. Великий мастер смеха Марк Твен говорил, что морщины на лице человека должны быть только следами былых улыбок. Я много смеялся, у меня много морщин, но я проживу еще очень долго. Я уверен в этом. — А чему вы смеялись сегодня за завтраком? — спросил я. — Может, все-таки расскажете? — Черт с вами. Не слишком-то приятно рассказывать о том, как ты попал в смешное положение, но мне будет приятно, если вы тоже улыбнетесь хотя бы. Этот пустяковый казус вышел со мной вскоре после гражданской войны, году в двадцать восьмом или девятом, точно не помню. Попал я как-то с цирком Шапито в один маленький городишко. Приехали мы туда пароходом. Помню, стоял я на палубе, возле штурманской рубки, смотрел на город и все любовался стройной, беленькой, как невеста в кружевах, церковкой. Люблю я такие русские городки над речкой. Мечешься, мечешься по свету, шумишь, хохочешь, буянствуешь порой с друзьями — и вдруг попадаешь в эдакий бабушкин рай, где улицы сплошь зарастают мягкой гусиной травой и стоит такая тишина, что ночью можно проснуться от стука упавшего в саду яблока. Хорошо! В таких случаях я перво-наперво обзавожусь удочкой, ржавой банкой для червей и каждое утро устремляюсь к реке. Через неделю такой жизни я, как аккумулятор, заряжен на целый год энергией, бодростью и весельем. В этом городе я проделал то же самое. Вырезал в прибрежном орешнике удочку и стал встречать утренние зори на речке. Нет, рыба меня не интересовала. Я просто наслаждался праздностью, а удочка служила ее оправданием, громоотводом любопытства, которое, естественно, должен был бы вызывать вид здоровенного детинушки, часами сидевшего без дела на берегу. Я дышал, пил тинный запах реки, валялся на траве, глазел в небо и был счастлив… Всегда в такие вылазки я прихватывал с собой прочный завтрак. Взгляните на меня, и вы поймете, что он обязан был отличаться прочностью — ведь я к тому же был молод, здоров и чертовски подвижен. Однажды у меня не нашлось ничего, кроме десятка яиц, которые я купил у хозяйки дома, где квартировал. Я сварил их в котелке над костром. Ох, это было наслаждением — сесть после купанья у дымящегося котелка, достать из него в меру остуженное яичко, тюкнуть его о краешек, благоговейно облупить и, посолив, отправить в рот! За этим-то священнодействием и застали меня двое мальчишек — два таких, знаете ли, дикорастущих гения рыбной ловли с кривыми удочками. Они внимательно и долго созерцали, глотая слюни, как я очищал первое яйцо, потом один из них издевательски заметил: — Дяденька, а слабо вам целиком яйцо заглотать. — Заглотает, — уверенно сказал другой, видимо соразмерив яйцо с моей необъятной утробой. Я цыкнул на них, и они ретировались шага на два назад. — А я заглотаю, — угрюмо сказал оттуда первый, и второй тотчас подтвердил, что это для них дело плевое. — Дай-ка нам по яичку, мы тебе покажем, — добавил он таким тоном снисхождения к моему невежеству, что я почувствовал себя уязвленным. Ах, думаю, черти полосатые, неуж проглотят! И дал им по яйцу. Они преспокойно очистили, сунули в свои цыплячьи ротишки и хоп! — готово. — Ну, а теперь, — говорят, — вы. А во мне, видно, тоже бродила изрядная порция ребячьего азарта. Сунул я в глотку яйцо и, конечно, изрыгнул его на потеху мальчишкам со слюной и соплями прямо в золу. Тут уж во мне было задето профессиональное самолюбие. Я умел делать множество очень сложных фокусов — из носа эти самые яйца вынимал, толок их в шапке, а потом в совершенно сухом виде надевал ее кому-нибудь из публики на голову — и вот осрамился. — А ну, говорю, — показывай, как это делается. — Да очень просто, дяденька. Взяли они еще по яйцу — хоп! И опять я ничего особенного не заметил, никакого подвоха. Чистая работа. Нет, думаю, тут все-таки есть какой-то секрет. — Стой! — говорю. — Теперь глотай кто-нибудь один, а я смотреть буду. Проследил, как мальчишка еще два яйца проглотил, попробовал сам и получил тот же эффект с той лишь разницей, что яйцо у меня в глотке раскрошилось и брызнуло изо рта в разные стороны фонтаном крошек. — Ну, — говорю, — деникинцы, если вы не расскажете, как это делается, я вам глаза на затылок переставлю. — Расскажем, дяденька. Взяли они по останному яичку, очистили. — Смотрите, — говорят. Хоп! — только я и видел эти яички. — Ладно, — говорю им уже ласково. — Я вам трешницу дам, только расскажите, в чем тут секрет. — Да ни в чем, дяденька. Просто глотаем — и все тут. Посмотрел я на них — рожи серьезные, даже сострадательные, а глаза — н-ну, бедовые! — Сыты, архаровцы? — У, как сыты, дяденька! Спасибо! И тут я захохотал. Представляете? Блещущий летний день во всей своей красе, ветер с реки, одуванчиковый луг и на нем — мы втроем катаемся в приступе неудержимого хохота… С тех пор я не могу равнодушно видеть крутые яички. Я вспоминаю и мальчишек, и этот день, и луг… И мне хочется смеяться так же неудержимо и весело. Вот, мой милый. Не всегда грустны воспоминания стариков о прошедшей молодости, как это принято считать. Демьян Данилыч откинулся на спину, закрыл глаза и стал меланхолично кидать камешки, падавшие в море с тихим бульканьем. Над нами горело белое южное солнце.