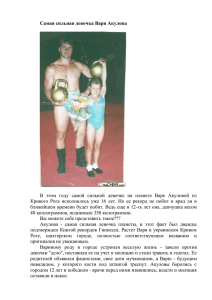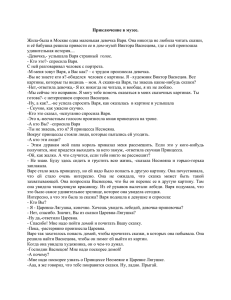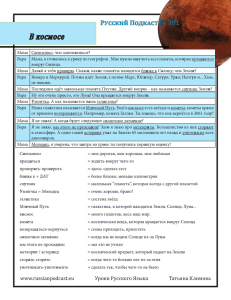Звезда уходит в Солнце
реклама
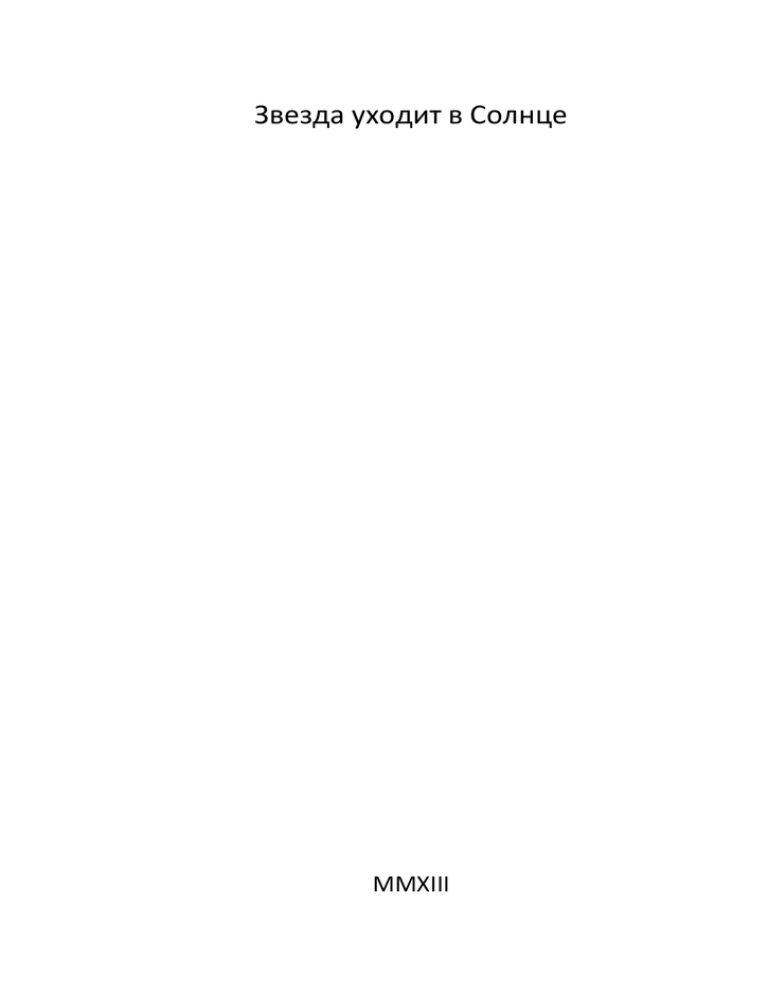
Звезда уходит в Солнце MMXIII "...надобно надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце". "...по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий". "4338-ой год", кн. Одоевский В.Ф. Действующие лица: Сокольский - титулярный советник в департаменте герольдии Сената, на вид за тридцать пять лет. Вершинин Стожар Галактионович - советник, на борту "Звезды". Волин Иван Ильич - бывший помещик из Тверской губернии, далеко за шестьдесят лет. Фанфаров Сергей Николаевич - столичный интеллигент, критик, ему за пятьдесят. Русских Казимир - техник на борту "Звезды". Явин Иван- начальник медицинского отдела на борту "Звезды". Битюгов Алексей Семенович - близок к эсерам, затем депутат-трудовик в IV Гос. Думе, одного возраста с Сокольским. Саянский Андрей - представитель ЦУПа на борту "Звезды". Капитан - женщина неопределенного возраста и внешности, Протей в женском обличье. Елена Николаевна - дама полусвета, ей за тридцать лет. Варя - дочь хозяйки комнат Сокольского, на вид - до двадцати лет, в последнем действии выглядит гораздо старше. Революционные матросы. Место действия - С.-Петербург (Петроград) 1910-ых годов и звездолет "Звезда". Время действия - 1911,1913,1917 гг. и спустя несколько сотен тысяч лет после них. Действие первое. Большая зала, на заднем плане располагаются внушительный шахматный лес, под ним - людские фигуры, лежащие, сидящие и стоящие впрок. Блуждающий свет. Сокольский. А что же дальше? Вершинин. Ужели сказанного тебе недостаточно? Сокольский. Но почему же я? Вот только это я не понимаю! Вершинин. Давай так: навскидку и внатяжку: я сам этого не понимаю, просто бац горохом в лоб - не понимаю. Сокольский. Но миры... Вершинин. Песчинки, ты хотел сказать? Их просто-напросто не существует: какого полыхающего черта ты нечто мнишь о них? Их нет, теперь их точно нет. Сокольский. Но меня тоже не было. Вершинин. Какой умопомрачительный резон. Вот здесь ты и срезан, брательник. Тебя не было, ты был, тебя не стало, и вот ты снова есть. Сечешь фишку? Сокольский. Едва ли. Зря вы столько времени тратили на меня! Какой неуютный оскал звезд. Вершинин. Это тебе бог улыбается, то бишь мы, то бишь все то забубенное прошлое, которое клокочет в тебе. (Прикладывает свою руку к его сердцу.) Клокочет ведь, заливается постукиванием, загорается разрывами звезд на черном полотнище, верно? Сокольский. Я не могу свыкнуться с мыслью, что с тех пор прошли тысячелетия. Вершинин. Один миг. Щелчок разрозненных пальцев. Или тебя удивляет то, что я говорю с тобой по-русски? Сокольский. Признаться, немного. Но как весь космос стал русским? В голове не укладывается. Вершинин. Веры нет в тебе, наверняка прежде ты имел зуб на Россию, зажатый в правом кулачке, был неким хулителем божественного порядка, от служб ваших православных отлынивал? Пойми, русский - это свет, а свет быстрее времени, а время лишь переработанное нашей мыслью пространство. Гляди сюда своими вспухшими зеницами, глядишь? (В его правой ладони зажигается огонь. Он начинает рисовать им причудливые фигуры в воздухе.) Человека нет, человечества нет, нет Земли, нет ничего, но дух строит миры, влача жалкое существование в наших сердцах, ведь мы боги. (Огонь гаснет.) Впрочем, весьма бутафорные и скучающие. Сокольский. Только зачем я вам нужен, иной человек, умерший в далекие эпохи? Когда я умер, когда? Вершинин. В то время, когда время было. Несколько сотен тысячелетий назад. Сокольский. Господи, отчего я не могу узнать то, что со мной тогда сталось? Мою могилу? Мою Елену? Мою... Зачем? Вершинин. Ты непременно их желаешь воскресить: какое баловное желание, право же! Сокольский. Но отчего же нельзя их подвергнуть тому, чему вы подвергли меня? Вершинин. А кто ж отменил Страшный суд? Ты, верно, возразишь, дескать, по воскресении надобно судить, но почему бы трубным ангелом не вострубить в угасшие атомы и сперва не воскресить праведников, дабы они образовали стройный хоровод, вонзали в светила песнь и ликовали при виде колесницы, ведомой грифонами. Сокольский. У меня все же классическое образование, Стожар...только сейчас пришло в голову, что я не знаю твоего отчества. Праведник, вы только подумайте! Вершинин. К чертям, но, впрочем, изволь. Галактионович. Таково мое отчество. То бишь, ты полагаешь, что праведником тебе не пристало быть? Сокольский. Господи, да я личный дворянин, титулярный советник, служу в департаменте герольдии в Петербурге, читаю под полой "Весы" и изредка у себя на квартире устраиваю чаевные вечера с сослуживцами. Вершинин (говорит взахлеб, срываясь на причитания). Неужели ты думаешь, что тот набор слов, произнесенный тобой имеет хоть толику временного смысла? Стерто, обвислой рукой умершей смерти, упраздненной за неимением будущего, за уходом прежнего в прошлое, за истеканием настоящего в ничто. Кончено! Бац, и тяжелый обух падает на расколотую надвое голову, хлещет клюквенный сок, и поломанная корона валяется у картонных сапог, облекающих берцовые кости. Сокольский. Где вы меня нашли? Неужели вы восстановили меня из ветра? Вершинин. О да, из солнечного ветра, дующего из далекого скопления пролитого и закисшего ныне молока. Сокольский. Как мне привыкнуть к подобным изъяснениям, Вершинин? Вершинин. Даже вселенная чурается привычки. Стук, какой бывает при поверке колесных осей вагона на глухой станции. По крайней мере ваша хваленая физика полагала нечто, что управляет далекими звездами, как управляло вашей системой, нашей колыбелью. А тут бац! И оказалось, что законы во времени, пространство - в законах, а дух - в пространстве, эдакая разгоряченная и в общем-то бессмысленная матрешка. Сокольский. Или нет, постойте! Я надворный советник! Вершинин. Какой это имеет смысл? Стук приближается. Ведь что в слове ценного? Признаться, вот тебе душа на выворот и разворот, я тоже первое время страдал спорадическим буйством памяти, сохраненной каким-то атомом, из которого меня восстановили уж много и много эонов назад. Маялся по свету, рвался за несущественное, царапал стены желтыми мелками, но смысл? Смерть поймана, время упразднено, остается всего один шаг, малесенький шажок, излом брови, поворот плеча, напряженность членов и... Стук совсем близко. Сокольский. Я вспомню. Вот воскресение! Иного спасения, быть и может, и нет. Вершинин. Заклинаю тебя, не путай столь далекие материи. Да, я понимаю тебя, твоя словесная обрывочность, дряхлость твоих задохшихся воспоминаний, взмыленность памяти, прямиком указывает на вопрос: как по воскресении, лишившись памяти, я могу понять, что воскрес именно я, а не кто-либо другой, не мой брат, положим, с обещанной ему женой? Ведь так! Ведь секу я фишку, не попросту ведь заливаюсь? Так вот тебе ответ на изыскание: зачем, еще раз - зачем тебе думать об истлевших костях, о распавшихся атомах, когда ты, быть может, и не лично воскрес, какой в том толк в конце концов! а воскресил слепок времени, излом брови, дрожанье губ, черемуховую зрачковость блеклых глаз, свою эпоху во всей всеохватности явлений, во всей эпохальной эпохе! Входит Саянский в престранном пестром одеянии. В его руках что-то вроде кувалды. Саянский. Собственно, ведь я не помешал...гм...лекции? Вершинин. Собственно...гм...а зачем вы стучите? Саянский. Для вновь прибывших возглашаю: наша миссия не находится в отрыве от всего передового человечества, ушедшего в звезды. Так говорили древние! Наша миссия велика и всеславна, мы восстановили десятки планет, сняли сотни звезд с их пространств, и с их системами отправили в зев сворачивающейся вселенной. Но! Я подчеркиваю! Да будут славны предки, ушедшие в звезды. Вершинин. Послушайте, Саянский, вы не параде, вы просто надругались над моим чувством прекрасного. Саянский. Неужели ж я плохо изъясняюсь, а, товарищ восстановленный? Сокольский. У меня есть имя. Саянский. И какое же? Сокольский. Как вспомню, я первому вам и скажу его. Саянский. Будьте же так любезны. Так вот... Тщась исполнить свой долг перед предками и нашими великими пророками. Вершинин. Которые тоже, будь они неладны, ушли в звезды и там разложились на атомы гелия, продолжая все же в своих разлагающихся мозгах думать о своем избранном великорусском народе, что распространился до самых пределов и рубежей. Но вот чертова незадача! Как он распространился, этот народишко, так и началось Великое сжатие, а эти крысы, возомнившие себя черт знает чем, решили втихаря покончить собой, а простым бессмертным втюхали историю об уходе в солнца. Новейшая история - тема нашей следующей закованной в кавычки лекции. Саянский. Будь ты, Вершинин, умнее, ты бы не позволял себе подобные выходки и выдвинулся бы по службе, как я. Вершинин. Если б я был тобой, то я бы все равно не был тобой. Саянский. И все же капитан доверил мне важное поручение. Вершинин. Воскресить какого-нибудь титулованного подонка? Саянский. Осмотреть корабль на наличие адских машин. Вершинин. Шесть человек на борту этого корабля, ужели кто-то замыслил в своем негодном сердишке, сорвать выполнение потаенного задания, ох уж их, ох уж их. Саянский. Ирония мне ваша не понятна. Тем более не в вашу пользу то, что вы знаете об этом задании, данном нам великими пророками. Вершинин. ...и по совместительству мошенниками. Боюсь вас разочаровать: о задании знают все, только никто не догадывается, в чем его суть: наверняка какая-нибудь разымчивая блажь. Саянский. Ума не приложу, как вам поручено было заведовать столь тонкой материей, как образование восстановленного? Вершинин (подмигивает Сокольскому). Идея просто бинго, пойду-ка я спрошу у когонибудь, отчего это так? Миры гибнут, миры гаснут, а нам бы только по ветру да сплюнуть. (Собирается уходить.) Саянский. Постойте, вас хотел видеть капитан. Вершинин. Вот и спрошу у человека, зачем я заведую обучением Сокольского. (Уходя.) Сокольский, что есть время? Сокольский. Немота восклицательных знаков, помноженная на говорливость знаков вопросительных. Саянский. Крамольно он ведь вас учит, восстановленный? Сокольский. Едва ли. Мне наоборот кажется, что в его словах, по крайней мер в тех, что я разбираю, слишком много правоты. Саянский. Так это и есть крамольность, если разобраться. Сокольский. Вы тоже изволите быть из тех? Саянский. В смысле? Сокольский. Из господ восстановленных. Саянский. Я жил всегда, хотя бы с тех самых пор, когда смерть поймали и закопали. Сокольский. Ведь правда, что ее похоронили? Саянский. Весь цвет общества собрался на ее похоронах. Она визжала, так и норовила броситься на каждого, но хоть она была слепа, мы глазки-то ей прикрыли, а кисти рук отсекли, говорят, она была тоже человеком, но тогда ведь всякое болтали, вселенная была больше, да и людей было больше, в том числе самого ядовитейшего типа - мечтателей, вроде... Свет над Сокольским и Саянским потухает. Зажигается свет над фигурами двух людей, казавшихся прежде двумя восковыми фигурами. По мере своего разговора они пересекают шахматный лес, состоящий из деревьев-шахматных фигур. Явин. Послушай меня, в голове не укладывается, как они признают в нас своих братьев, а не богов, как они не перебьют друг друга! Как мы будем держать их в шеренгах, как мы их будем судить? И по чему? Неужели праведники не получат по деяниям их, неужели их святый подвиг останется в забвении, неужели память их не будет нами выпестована, неужели мы получим пресловутое и огульное воскресение тел, а не душ? Русских. Отстань ради бога. Мир катится под откос. Дай насладится тем, что есть, зачем ты рассуждаешь об этих истлевших ребятах, ну, воскресим мы их, раздадим по пайку, разместим в лагерях. Явин. Миллиарды ведомых тел! Русских. Ой-те, даже миллиарды. Вручим по прянику, скажем: пардон, ребята, мы на вас ошейнички наденем, дескать, переводчики, новейшие технологии и все такое. Явин. Но их души возмутятся нашему насилию. Души, отдавшие жизнь за други своя, полегшие в ратной битве, воскреснут в том же самом месте, пускай без истлевшего оружия, но ведь они продолжат битву: членами своими, зубами, кулаками. Фарсал, Херонея, Маназкерт, Сталинград. Русских. Тайбэй, Саппоро и прочая байда. Перебьют друг друга - воскресим заново! Явин. Но ведь мы не знаем способа! Мы угасающие боги, и посему нам нечего размениваться из-за блудливых душ, но боже! Нам каждая душа важна. Русских. Только вот затея с прикормкой может провалиться. Начнут наверняка друг друга есть, эх-ма, что за народ! так и представляется второе воскресение из живота собрата. Явин. Я так боюсь, что человек запятнает себя по воскресении, начнет предаваться непотребствам и чинить нам препятствия. Ведь нас всего шесть человек, как нам обуздать миллиарды-триллионы клокочущих душ, как нам вернуть им память и веру? Русских. Ну, на русских мы гаркнем: айда, брательники, сюда, вот у нас и есть все восточные славяне. Объясним им -это мы, дескать, это наш корабль, мы прилетели сюда, потому что мир кончается, потому что бог забыл нас, потому что мы вместо него. Мы победили смерть, мы заселили вселенную. Айда пировать да лыбиться падающим кудлатым звездам! Явин. Обнаженные женщины и дети, и что самое худшее - обнаженные мужчины, похотливые после воскресения, беспамятные как Денница, я боюсь себе представить, что будет с их телами, поднятыми из мириадолетнего забвения, какая похотливая сосредоточенность скопится в них. Русских. А мы скажем им: кто тронет женщину, тому кирдык-башка. Вот только что делать с вавилонянами и всякими там африканскими австралопитеками, сорвут ведь ошейники и пойдет торговля за сигареты и грех похоти. Явин. Наверняка найдутся те, что, обнаженные, под тяжким взоров мириадов глаз, стиснутые среди человеческих толп, примутся проповедовать и кричать, что воскресения не было, что они жили так всегда и что лжепророки, вроде нас, смущают их веру и наводняют их земли страхом и трепетом. Русских. Ой, не воскрешал бы я евреев, но где уж избирательность у подобных бабахающих механизмов? А Самуил, господи, его уж понарошку воскрешали разок, а Лазарь, вот душа несчастная: только умер - и сразу тук-тук в замогильню, дескать, выходи; ну все, лет через дцать, снова в могилу, и тут бац! снова тук-тук, выходи, а потом мы со своей воскрешающей бомбой. Вот человек должно быть затюканный. Явин. Как, упразднив смерть, остаться людьми, как не обратиться тотчас же в бессмертное животное, как? Русских. Ведь они все вытопчут, вот черти, а! натуральный табун, а как быть с теми, кто воскреснет в океанах, ведь материки дрейфуют, это русские первые показали, наши, а ведь гордость так и распирает: такое ощущение, что наш девиз: распространяйся по вселенной! вот так, широким русским душам - просто требуется больше пространства. Вот в общем-то и весь секрет. Явин. Ведь у нас не будет ангелов и херувимов, смешно сказать! Среднеместный звездолет: обшарпанный, на ладан дышащий! и о нем было пророчество! И поднимется среди них после приступа страха, гул смеха и потеряемся мы в их смехе, и скажут они нам: ведь мы такие же боги, как и вы, прочь с наших земель, что мы ответим им? Русских. И англичан не нужно воскрешать, больно чопорные, так и мнится, что черти голые, а сзади них - воскрешенные корабли, груженые углем и овцами, что за люди, боже мой! Или немцев! Ну эти хлопцы воскреснут одетыми, вот вам зуб и мизинец на отсечение, да еще в моноклях все - вот прям напропалую. Явин. Бога нет, мы вместо него! Господи, а что же будет с младенцами, неужели им не дано будет повзрослеть, а жены, имевшие нескольких мужей? А убийцы и грешники? Ужели их вмещать в единое стадо с агнцами божиими, с сынами человеческими? Неужели воскресений должно быть много, дабы отчиститься от поволоки греховности в страдающем взгляде. Русских. А отчего вот нам животных не воскресить? Ну, ящеры, положим, пожрут добрую часть народонаселения, но всякие там пичужки пойдут на прокормку голодных восстановленных, или им, что, теперь есть не положено, раз они бессмертны в своем воскресении? Свет перемещается на Сокольского и Саянского. Говорливые фигуры застывают в прежнем положении. Саянский. Такие вот мечтатели. Сокольский. А о чем они говорили? неужели они собирались... Саянский. Болтают пустое, зачем вам голову забивать? Если позволите, мне пора, надо всю внутреннюю обшивку простучать. Сокольский. Надеюсь, никаких адских машин и в помине нет. Саянский уходит. Задний план освещается, там располагаются неподвижные человеческие фигуры. Сокольский подходит к ним и начинает их двигать. Этот здесь, этот там... Он, кажется, говорил о немецкой философии, любопытно, кто-нибудь из них знает, что это такое? Наверняка. Но так ли живо, как я? Вспомнить-вспомнить-вспомнить. Гар...Гартман, а затем разговор о политике, как много разговоров было в моей жизни! Позвольте, меня звали надворный, коллежский, ах, право же! Ход вещей влечет Вселенную к заведомому уничтожению, ибо мы, существа в высшей степени разумные, осознаем во всей неизбежности ее бессмысленность и бесцельность, следовательно, нам не остается ничего иного, как способствовать скорейшему ее обращению в веселое ничто. Веселое ничто! Как он говорил (Фигуре.) А ты так сможешь? Все одушевлено, так, Варечка? (Все быстрее и быстрее бегает от фигуры к фигуре.) Почему вы молчите? неужели я так отвратно прожил жизнь, что по воскресении мне ничего не помнится? Господи, Иисус Христосе, как они могли забыть этот вензель: И да Х? Елена Николаевна! (Внезапно останавливается и подходит к двум фигурам: мужской и женской, ставит их друг напротив друга и пытается разговорить их.) Я любил вас, искренне, презирая постылое снисхождение моей матери к вам, Елена Николаевна, кто же знал, что это проклятый Бурцев сдаст вашего кумира, что Фофанов умрет в тот же год, что мы будем с вами рассматривать иллюстрацию в газетах, на которой мирная германская канонерка весело пыхтит всеми своими трубами в далеком марокканском порту. А сейчас ничего не осталось, ровным счетом ничего, все, что волновало нас, превратилось в прах: нет немцев, нет канонерских лодок, нет Марокко, нет ничего. Только звезды и мы. Но, господи, отчего вы, Варенька, уехали в Гельсингфорс, ведь, (Одна из фигур оживает и начинает говорит вместе с Сокольским.) ей-богу, я не имею ни малейшего касательства к тому, что творится на этом чертовом обреченном борту. Не будьте (Оживает женская фигур, затем фигура Вершинина, Сокольский медленно уходит на задний план к прочим фигурам.) Капитан. ...столь самонадеянны. Вершинин. О! Что вы, моя самонадеянность не имеет ни малейшего касательства к тому, что происходит на этом обреченном корабле. Капитан. Неужели? Он обречен, потому что им верховодит женщина? Вершинин. Он обречен, потому что у нас команда состоит целиком из мужчин, о достопочтенная. Капитан. Не кривляйтесь. Вы забыли? У нас нет разницы между мужчиной и женщиной. Мы единые андрогины. Вершинин. Во мне говорит старая память воскрешенного. Капитан. Я полагала, что у восстановленных не сохраняется память. Вершинин. Память - это костяк души. И ничего с эти не поделаешь. Бесчисленность звезд, бьющаяся друг о друга, кометная поволока и метеорный шум. С чем его сравнить? Шум дождя, состоящий из музыки падения, из всхлипывания собственно удара об асфальт, и из звука капель, ударяющихся о... Капитан. А, вот к чему вы клоните. Любовь упразднена наряду со смертью. Вершинин. Даже наша любовь, Елена? Капитан. Отказываюсь признавать ее. Вершинин. А они кричали тебе: твой ребенок, твой ребенок? И что ты им сказала, вспоминай! Капитан. У каждого бывают казусы. Лишь для восстановленных мы боги. Вершинин. Отказываюсь признавать, черт дери. Капитан. Кстати, ты отстранен от обучения Сокольского. Вершинин. Его обучения перекладывается на раболепствующие плечи этого беса? Капитан. Не принимайте близко к сердцу, перед тем, как мы воскресим всю Землю целиком, нам необходим положительный опыт обучения. Вершинин. Елена! Капитан. Попрошу без ослушаний выполнять мои приказы. Вершинин. Я так любил тебя, так, как не любил господа бога. Елена! Капитан. Мне пора. Взрыв. Неожиданно фигуры застывают. С дальнего плана выходит Сокольский. Он сосредоточенно погружает фигуры в тележки и увозит их, изредка бормоча безумные слова на каком-то праязыке. Действие второе. Съемная комната Сокольского недалеко от Варшавского вокзала в С.-Петербурге. Посередине располагается большой стол, за ним сидят шестеро - восторженная Варенька сидит чуть поодаль вместе со скучающей Еленой Николаевной, первая одета просто, вторая по моде начала двадцатого века с позывами к оригинальности. Рядом с Варей сидит Фанфаров, блистательный мужчина во фраке и в годах, рядом с ним Сокольский, за ним - одетый в робу Волин, рядом с Еленой сидит Битюгов в паре, являющей собой нелепое смешение стилей. Варя поглощена чтением газеты. Битюгов. Елена Николаевна, вот скажите мне, отчего такие чувствительные столичные барышни, как вы, воспринимаете Богрова в таком священномученическом ореоле? Елена. Ах, право же, по вам настоящий революционер должен быть истым эсером, ему и шага вправо не дозволяется, впрочем, un point, c'est tout. Сокольский. Действительно, Битюгов, подобные разговоры нагоняют на нее скуку. Волин. Скука происходит исключительно от пресыщения. Фанфаров. О нет, дорогой мой, скука нападает на человека лишь тогда, когда он не способен воспринимать искусство. Битюгов. Все ваше нынешнее искусство - просто апчхи, Сергей Николаевич. Фанфаров. О, святые угодники, имена Арцыбашева, Вербицкой, Нагродской войдут в анналы не только русской литературы наряду с такими корифеями, как Надсон и Фофанов, но и мировой литературы, вот вам левая рука для сожжения. Волин. Достойно порицания то, что вы не включили в этот список не столь давно умершего печальника земли русской. Фанфаров. Бросьте, кондовый язык, отсутствье сюжета, доморощенное проповедничество, что еще прикажете? Варя. Ах, здесь сказано, что у Богрова осталась в Киеве невеста и что на Лысой горе она было свела счеты с жизнью. Бедная девушка! Битюгов. Революция не забудет о ее страданиях. Фанфаров. Позвольте. Да я знаю эту певичку! Особа самого легчайшего поведения. Знаете, была ночь, цыгане, медведь на цепи, и я с ней, помню-помню. Елена. Que dites-vous? Jeune fille là. Сокольский. Варенька, бросьте вы о ней печалиться, тем паче Богров-то был из инородцев. Фанфаров. Из жидов, вы хотите сказать. Битюгов. Это просто оскорбительно! Может быть, вы еще поддерживаете черту оседлости? Фанфаров. Я полагаю, что их жительство должно располагаться как можно далее от Москвы и Петербурга, да я, если хотите, выступаю за то, чтобы отодвинуть эту пресловутую линию к нашим границам с Австрией и Германией. Волин. Русский народ должен прежде всего очистится нравственно, а именно от порочной власти собственности, а затем очистить и другие народы, соседствующие с ним. Битюгов. Вот в этом вопросе, Волин, мы с вами сходимся, но вы, Сергей Николаевич, с вашей великодержавной колокольни чушь порете. Фанфаров. Это ж какая колокольня должна быть: небось каланча пожарная, как вам? Варя. А еще здесь говорят, что киевский градоначальник благословил недавний погром. Битюгов. Царизм должен пасть, так или иначе. Только тогда Россия вздохнет свободной грудью. Елена. Ах, мне дурно от ваших лозунгов. Волин. Преображение России возможно только через освобождение от греха, который переполняет всех нас. Грех собственности и грех свободы. Как человек может быть хозяином земли, как человек может быть хозяином даже малой толики той вселенной, которую создал Бог? Фанфаров. А вы только представьте, что через несколько веков мы будем владеть не только земельными наделами на Земле (Grand Dieu! pléonasme!), но также и на Луне и на планетах, находящихся от нас сейчас в таком же таинственном отдалении, в каком оные находились для древних. Варя. Елена Николаевна, помните, как в синематографе надзвездные путешественники угадили в глаз Луне? Елена. Да, отменная фильма. Сокольский. Фанфаров, вы еще скажите, что и время отменят, и смерть упразднят, и мой департамент герольдии. Битюгов. Свершившись, революция произведет такие перемены, какие и не снились самому Сен-Симону. Фанфаров. Говорят, прогорел этот ваш Сен-Симон на продаже черт знает чего. Волин. Вы, должно быть, его путаете с Фурье. Битюгов. Он не был социалистом в полном смысле этого слова. Его ключевая ошибка сновалась вследствие того, что он не признавал участия рабочих масс в историческом прогрессе. Фанфаров. Прогресс! Ну право же, ridiculе! Такого оболганного слова наш русский язык вытерпеть не может. У одной из моих (Быстро глядя на Варю.) артисток был лакей, который вечно говаривал: "Образуется да образуется". И что же? Вся нынешняя восторженная молодежь также твердит: прогресс да прогресс. Если угодно, долгогривые попы куда разумнее при читке своих молитв, чем ваши завравшиеся мальчики. Битюгов. Которые жертвуют собой и идут на эшафот ради идеи. Волин. Убиенные души, презревшие в себе истину ради мира. Фанфаров. Стало быть, убивать хорошо. Следственно, правы киевские кисейные барышни, вздыхавшие на казни этого жида? Варя. Богрова, Сергей Николаевич. Фанфаров. Вы сущий ангел, Варенька. Елена (тихо). Faiseuse d'anges, pour être précis. Битюгов. Этот, будет вам угодно, жид - невзирая на сотрудничество с охранкой - первый святой революции, ибо он избавил Россию от исчадия ада. Фанфаров. Я бы сказал, он избавил ее от человека, изобретшего новый фасон галстуков, что для нас русских, согласитесь, несвойственно. Елена. Ах, бросьте вы пустословить о политике, давайте лучше о чем-нибудь другом! Сокольский. Всем достаточно чая, или я поставлю еще один самовар? Варя. Что вы, я могу это сделать. Сокольский. Варенька, вам вовсе ни к чему... Варя. Мне не в тягость. Я очень люблю ставить самовар. Фанфаров. Ну что я говорил, разве она не ангел? Битюгов. Не нужно чая. Мы скоро отправимся по домам, как-никак десятый час. Варя. В это время Петербург такой таинственный и одновременно неуютный. Волин. Воля русской царя здесь разбилась о волю русского народа, она дала трещину - и из этой трещины родился Петербург. Фанфаров. Петрополис! Город чухонцев и остзейских немцев, город русской знати и грузинских князьков, тягающихся с своем неразумении с бухарским эмиром, боже мой! Петрополис, надрываясь, тянет за собой всю изможденную Россию с ее инородными насельниками и нашими русскими пьяными мужиками. Сокольский. Да вы правы, этот город медленно удушает, особенно после революции. Елена. В любом случае выбор шляпок в Петербурге куда более широкий, нежели в Москве. Битюгов. Поэтому революция здесь и носила характер менее ожесточенный, чем в Москве. Фанфаров. Мир вступил в благую эпоху процветания, еще несчастный Гюго в середине девятнадцатого века высказывал свою мечту о всеевропейском братстве - и вот это время наступило. Последние оттоманские события указывают на то, что на осколках бывшей восточной империи возникнет новый европейский союз, который сплотит разрозненные нынче страны, а Россия будет занимать в нем главенствующее положение. Так поднимем же последний на сегодня чайный тост за двуглавых орлов на воротах Константинополя! Сокольский поднимает стаканы вместе с Фанфаровым. Глядя на него, стакан поднимает Варя. Остальные молчат. Сокольский. Битюгов, цербер революции , отчего ты не поднял стакан? Битюгов. Когда-нибудь среди эсеров появится тот человек, который разовьет идеи некого англичанина, полагавшего все нынешние пороки наших экономических систем в наступлении империализма. Фанфаров. Позвольте, разве это несуразное понятие способно отменить орлов на вратах Константинополя, что может быть святее этого? Волин. Новая русская вера. Фанфаров. Значит эта вера направлена против пернатых на вратах Стамбула? Волин. Собственно, она зреет в недрах русского народа. Фанфаров. Наряду с ней в недрах нашего народа зреет пьянство, невежество и скабрёзности. Волин. Все равно мы не должны идти войной на отпрысков Измаила, нам следует вразумить их нашими словами и деяниями. Фанфаров. Уж это, верно, вразумит их поболе трехлинеек. Битюгов. Постойте, Сергей Николаевич, я согласен выпить с вами за социалистическую Россию, которая со временем вместит в себя целый мир. Фанфаров. Уж лучше выпить за башибузуков, чем за подобную похабность. Сокольский (укоризненно). А вы, Елена Николаевна, отчего не подняли стакан? Елена. J'ai le cœur gros. Варя. Как вы можете так говорить! Елена. А в чем, собственно, дело, дитя? Варя. Извините меня... Но у меня дух захватывает, когда я слышу разговоры этих людей, мне не хочется вмешиваться в них, но на сердце такая блажь, словно есть в этих разговорах что-то доброе, важное, а главное нужное для всех нас. Простите, я, кажется, заставила спуститься ангела в эту комнату. Фанфаров. Что вы, Варенька! Вы сами сущий ангел, я не престаю это повторять. Волин. Есть нечто грешное в уподоблении женщины ангелу, впрочем, это не имеет ни малейшего касательства к вам, Варвара Федоровна. Фанфаров. Бросьте! Не в том ли заключается конечная цель всякой эволюции, чтобы поднять данное нам существо до уровня существа искомого, так что против него прежнее существо будет смотреться глупо и нелепо? Соединить мужчину и женщину в некоторую целокупность, а затем поднять их до ангельского чина, по крайней мере до сил и властей, чем вам не божественное предначертание? Битюгов. Иными словами: социализм. Варя. Я не понимаю значение этого слова. Битюгов. Что же, Варя, социализм - это когда у вас есть душа, у вас есть душа, а остальное все общее. Варя (хлопает в ладоши). Как замечательно! Елена (гробовым голосом). C'est astap! Волин (неожиданно). Мне пора, Варвара Федоровна. Елена. А со мной вы уж не хотите попрощаться? Волин. Не хочу. Сокольский, очень рад. Фанфаров. Постойте же, позвольте я подкину вас на извозчике. Вам все равно на Мойку, Варенька, с вас Беллини нужно было писать своих мадонн, Елена Николаевна, ай-ай-ай, не будьте такой букой. Сокольский, насчет контрамарок мы столкуемся и сочтемся завтра. А, Битюгов, мое почтение и искренний пиетет перед вашей славной, но чересчур уж заносящейся головой. Битюгов. И мой пиетет пребывает с вами. Собственно, я не большой знаток искусства, как вы видите, практические науки куда более важны. Фанфаров. Надеюсь, будущее опровергнет ваши огульные слова. Сокольский. Мне так жаль, что вы столь скоро уходите, Сергей Николаевич. И вы, Иван Ильич. Волин. Прошу вас поторопиться. Варя. Как жаль, что я не смогла познакомить вас сегодня с моей матерью. Сокольский. Она хозяйка здешних квартир. Фанфаров. А, вы значит и столуетесь у нее? Сокольский. Какое это имеет значение? Варя. Я провожу вас до парадной. Битюгов. Я бы тоже отправился с вами, но у меня особая надобность до Сокольского касательно кое-каких книг. Фанфаров. Надеюсь, не революционного содержания. Сокольский. Будет вам, будет! Волин, скрывая конфуз, Фанфаров, весело балагуря, и зардевшаяся Варя уходят. Елена. Несносная девчушка. А каков этот осел! Сокольский. Отчего ты так скверно себя вела? Елена. Жизнь уходит через подобные разговоры, а тут еще эта Варенька, божий ангел, с вас бы мадонн писать, тьфу! Я лучше нее, а она в тебя влюблена. Сокольский. Враки, Елена Николаевна. Как пить дать враки. Битюгов (откашлявшись). Ich möchte etwas Wichtiges besprechen. Das versteht sich von selbst, dass Elen allerlei Teilnahme an dieser Sache und Engagement zeigt... Елена. Бросьте вы этот театр, а то загремите на Пряжку, Алексей. Кто следующая жертва? Битюгов. Вы женщина прямо не на ять, а будто через ижицу. Елена. Я вас вижу насквозь, только зачем вам Сокольский? Битюгов. Крайне важное для революции дело. После провала твоей типографской затеи, мы решили дать тебе возможность искупить свою вину... Сокольский. Постой, ты клонишь к тому, чтобы мне стать бомбистом? Это уже какие-то максималисты получаются, а не эсеры. Битюгов. Отчего бомбистом? Убей главу своего департамента. Елена. Он тебе, к слову, никогда не нравился. Сокольский. А если я откажусь? Битюгов. Послушай, тогда тебе придется заложить адские машины по всему Сенату. Сокольский. И все же? Битюгов. Тебе лучше этого не знать. Сокольский. И который срок предоставляется мне для обдумывания? Битюгов. Три дня. Сокольский. А если... Битюгов. Ежели ты собрался нечто обдумывать, то позволь мне тебе напомнить, что осознание собственной трусости, пускай однажды проявленной, вполне сойдет за наказание, не так ли? Елена. Что же здесь думать? Сокольский. Отчего ты стала столь кровожадной? Елена. Моя душа томится по герою, который отправит к чертям весь этот свет, что был ко мне неблагосклонен. Постой. Да, я допускаю, что в этом желании присутствует малая толика женского себялюбия, но тебе не кажется, что, став героем, ты сослужишь себе добрую службу передо мной? Сокольский. Бог мой, одно дело, баловаться прокламациями, другое дело пойти на убийство человека. Битюгов. Царский чиновник человеком по своему определению не является. Елена. Быть может, ты просто crains? Сокольский. Трушу, ты хочешь сказать? Господи, отчего ты меня свел с ней? Елена. Не изображай из себя стенающего пророка. Битюгов. Пожалуй, я оставлю вас, дабы не конфузить, тем более в преддверии скорой свадьбы. Елена. Очень рада, Алексей, что ты пришел к нам. Сокольский. Я обещаюсь подумать над твоим предложением, но ничего определенного покуда не смею обещать. Битюгов. Не подведи меня на этот раз. К слову, дай мне для вида какую-нибудь книжицу. Люблю совершенную конспирацию, что здесь поделаешь? Сокольский. "Северные цветы" за этот год устроят тебя? Битюгов. Вполне. Революция создается из суммы наших решимостей, помни это, товарищ. Сокольский. Будь здоров. Битюгов. Мое почтение, Елена Николаевна. Битюгов уходит, Елена бросается на колени к Сокольскому, обнимает его страстно и начинает целовать. Молчание. Через некоторое время дверь отворяется. Показывается Варя. Варя. Ой, простите, я, кажется... Сокольский. Нет, Варенька, я показывал Елене Николаевне гм... Елена. Безусловно показывал. Сокольский. Ах вот, ваша брошь, Елена Николаевна, она нашлась. Варя. Нет-нет, я все равно некстати. Я увидела, как ушел Битюгов и подумала, что... Сокольский. Что вы, Варенька, куда вы? Варя. Я пойду к мама. Сокольский. Но вы будете у себя? Варя. Да-да... (Уходит.) Елена. Она просто несносна. Сокольский. Она всего-навсего ребенок, Елена. Елена. А ты уверен, что она нас не сдаст? Я видела, как она разговаривала с околоточным. Сокольский. Разве я в чем-нибудь повинен? Не забывай я титулярный советник, служащий в сенатском департаменте герольдии. Елена. Ты ведь очень этим гордишься? Сокольский. Откуда в тебе столько злобы? Елена. Для света я гулящая дама, а может быть, до выхода в свет я была столь же непорочна, как твоя любимая Варенька. Сокольский. Изволь выйти. Пожалуйста. Елена. Ах да, я совсем забыла, что живу через дверь налево. Ты ко мне прибежишь еще и примешься вымаливать прощение на своих собачьих коленках. Как всегда, впрочем, только в этот раз я не буду благосклонна к твоим взвизгиваниям. Сокольский. Выйди вон. Елена. О да, мой повелитель. Сокольский. Немедля! Елена, изменившись в лице, уходит. Сокольский садится в кресло, затем вскакивает и начинает ходить взадвперед. Смеркается. Действие третье. Явин ходит туда-обратно и что-то бормочет. Малоосвещенная зала из первого действия. Явин. Ваджра...сарва корва ла. Вьяно пуштра лама явь. Сальма ала ярва рекс. Входит Вершинин. Вершинин. Какой язык? Явин. Да так, ведь осталась неделя лету. Вершинин. Здесь чересчур мрачно. Явин. Знаю, как успехи по преподавательской части? Вершинин. Скверно, он все силится вспомнить: и смерть свою, и венчание жизни, и прочую полюбовные дела свои. Явин. Когда отец пестовал тебя, было все то же. Вершинин. Да, я не стою и единого волоса на фаланге пальцев его. Явин. Он никогда не одобрял всеобщего воскресения, тем паче столь неизбирательным путем. Вершинин. Так значит ты звал меня по этому поводу? Явин. Осталась неделя, и мы, хилые создание - помесь машины и человека - исполним то, что должен исполнить только бог. Вершинин. Звучит чертовски торжественно, друже. Явин. Нет, скорее наоборот - грустно, очень грустно. Появляется Русских. Русских. Братцы-кролики, вы не находите, что при нынешних обстоятельствах ваши посиделки подозрительны, а? Явин. Если ты сетуешь на то, что мы тебя не пригласили, то пожалуйста - присоединяйся к нам. Русских. Ага. Может быть, мне произнести какую-нибудь клятву и плюнуть через левое плечо. Вершинин. А чего ты опасаешься, Казимир? Русских. Да того же, что и вы. С этим балаганным взрывом неизвестные мне ребята подняли на уши эту свиную тушку вместе с нашим капитаном, добром дело не закончится, здесь к гадалке не ходи. Вершинин. Это лишь половина твоего страха. Русских. Верно. Затем мне боязно от этих человеческих орд, которые будут носится по той планете. Вы же все ясно слышал приказ пророков - сбросить бомбу воскресения на Землю, а на кой черт, поди догадайся. Холодно ли самим восстановленным будет, жарко ли, это к нам касательства не имеет, мы - рубахи-парни. Только вот чем это закончится? Да и толка я в этом не вижу. Вершинин. Что же, по-твоему, ослушаться приказа великих отцов нации? Русских. Вот ты не Саянский, поэтому айда на чистоту, во-первых, эти ребята сами холодные кочерыжки, во-вторых, я и при их существовании мало понимал в них толк. Ведь мы упразднили государство, дескать, состроили вольную анархию, вольницу нашу, а тут объявились они с ихними приказами: просто атас. Да, ослушаться, Стожар. Вершинин. А кто, по-твоему, устроил эту несуразицу на борту? Русских. Кто-кто, пони в пальто. Под подозрением наша бравая четверка, капитан с тем лизоблюдом не в счет. А вообще - пару лет назад, когда мы видели последних русских людей, я мыслил о чем-то подобном в будущем: ведь поиграть в царьков над восстановленными лучше в как можно меньшей, хоть и честной, компании, дело я говорю, Иван? Явин. Я вот более чем человечец, но отчего я чувствую такую пустоту внутри себя? Русских. О, здесь тебе поможет наша комната отдыха, запусти любой сценарий - и наслаждайся вдоволь, вот чем захочешь, ей-богу, Явин. Дурман-дурман...Почему в бессмертии нет счастья? Вершинин. Это тебя груз времени давит своим весом, без той славной комнаты мы бы давно болтались в безвоздушном пространстве. Или пребывали в солнцах, тщетно желая расщепления на атомы, но смерти нет, и поэтому атомы носились бы по космосу и вопили: смерть, где твое жало, где же оно? Явин. Все-таки в них что-то есть. Постойте, мне надобно кое-что проверить! Русских. Ради бога, только возвращайся в нашу честную компанию. Явин. Два мгновенья. (Уходит.) Русских. Помешался паренек, ведь у него греза какая-то на месте мозгов. (Неожиданно.) Вершинин, можно вопрос личного свойства: ведь это был не ты? Ну, перед допросом-то? Вершинин. У меня скверное чувство, что мне это будет вменено в вину и что меня выкинут за борт на подлете к Земле. Русских. Экие дела. А моя сестрица не заступится за тебя перед этим подхалимом? Вершинин. Она вычеркнула меня напропалую из своей жизни. Даже сын... Русских. Это уж целиком и полностью моя вина: не уберег. Глупая молодость, чертенок не прожил и ста лет, и вздумал повторить выходку старых хрычей. Вершинин. И тысячью солнц зажглось его клокочущее сердце, а очи излучали мир. Русских. Жить стало долго. А я ведь дошел до мысли, отчего у древних была смерть. Вершинин. Поведай уж. Русских. Они сами ее желали, глядишь, совершит деточка сердечную нелепость в шестнадцать лет, затем призывает смертную кару на свою головку, или же ошибется старик нелепейшим образом, а тут хоп! Приди смерть, приди смерть. Вершинин. Ты говоришь о том, как об преимуществе. Появляется сконфуженный Сокольский. Русских и Вершинин переглядываются меж собой. Сокольский. Сегодня будет дознание, если я не ошибаюсь? Вершинин. Право же, ты чересчур рано пришел на это мракобесное зрелище. Сокольский. Собственно...Русских, я ведь вам рассказывал свой сон? Русских. Ну, мне об этом казусе поведал Стожар...как его там... Только и это блажь. Сокольский. Вы намекаете на странное поведение Явина? Русских. Нет, черт дери, я намекаю на расположение звезд. Пауза. Прости, с годами человек становится раздражительным, а с веками просто невыносимым. Сокольский. Ничего, Казимир. И ваше отчество, увы... Русских (Вершинину). Ну скажи ж ты ему, что и эту дрянь мы упразднили. Вершинин. Что ты думаешь насчет нынешнего нашего задания? Сокольский. Касательно воскресения всех живших? Русских. Бинго! Сокольский. Это скверная штука. Русских. Отчего же тогда ты не заламываешь руки и не вопиешь к звездам, подтанцовывая, а? Сокольский. Театральность мне вовсе не свойственна, как вам известно. Слышны голоса Капитана и Саянского. Быть может, я и надоел вам со своим сном, но я считаю, что мой сон - это не совсем сон, это воспоминание. Вершинин. А отчего ты по сию пору не вспомнил своего имени? Сокольский. Оттого, что надобно еще время. Русских. О, поверь у тебя этого добра достаточно, несколько вечностей, вот тебе крест. А вот у нас его нет, правильно я говорю? Вершинин. Что стряслось? Русских. Ничего особенного, просто надо освободить помещение для будущего дознания, а то неловко выходит, мы здесь столпились, а им вроде как дело делать. Голоса становятся все ближе. Вершинин. Благая мысль. Пойдем, Сокольский, сейчас твое образование дополнится участием в настоящем судебным процессе в духе Шемяки. Сокольский. Я знаю это имя! Вершинин. Еще бы, только не говори, что оно тебе тоже приснилось. Идем же. Скрываются в той стороне, в которой скрылся Явин. С другой стороны выходят Саянский и Капитан. Восходят на помост. Саянский. Увы, нам велит так долг, не сердце наше робкое, ведь подвержено оно слабостям, а долг, самый настоящий долг. Капитан. Я все же придерживаюсь того мнения, что эта какая-то нелепая случайность. Саянский. Да что вы! Случайно ли то, что эта случайность совпала как раз с тем самым днем, когда мы объявили экипажу о данном нам задании? Да славятся пророки. Капитан. Да, конечно. Только я не могу понять, отчего были выбраны именно мы, отчего мой корабль? Саянский. Внушительный послужной список, абсолютное принятие идеалов великих пророков. Капитан (сдерживая улыбку). Вы повторяетесь. Саянский. Когда говоришь о них, да будут славны они, невозможно повторяться. Что вы думаете о Вершинине? Капитан. Совершенно исключено. Саянский. Но даже его подопечный показал на него, вряд ли он сможет отвертеться. Капитан. Мягко говоря, это враки. Саянский. Он ненавидит пророков, он считает, что они умерли. Капитан. Ну, влетев в солнце, тяжело выжить. Саянский. Приступим к проведению заседания, все же я здесь судия. (В микрофон.) Восстановленный Сокольский вас вызывает судия. Долгая пауза. Капитан. Он еще не успел приспособиться к нашим правилам. Саянский. Восстановленный Сокольский... Сокольский входит. Сокольский. Только я не восстановленный, я воскрешенный. Саянский. Формальности, простите, перейдем к делу. Сокольский. С места в карьер. Саянский. Именно. Говорил ли вам Стожар Вершинин мерзости о пророках? Сокольский. Нет. Саянский. Как это нет? Вспомните! Это крайне важно для следствия. Сокольский. Какое это имеет значение, раз они мертвы так же, как был мертв я? Саянский. Спасибо, дознание окончено. Капитан. Вам не кажется, что вы лихачите? Саянский. У вас есть иные вопросы? Капитан. Для проформы можно было бы спросить, где он находился в то время. Сокольский. В этой зале, меж иллюзорных шахматных фигур, еще мне казалось, что те фигуры были не совсем шахматными, поймите правильно, у меня было такое ощущение, будто шахматные фигуры сочетались с человеческими. Саянский. Что ж здесь удивительного? Обычная тема для залы, а вы из этого мистику производите. Спасибо. Приглашается техник Русских. Пожимая плечами, Сокольский уходит. Надо было из более ранних восстанавливать, а то с ним теперь бед не оберешься. Русских входит. Русских. Здрасьте-здрасьте. Саянский. Что вы делали, когда на борту "Звезды" раздался взрыв? Русских. Капитан, вы не находите, что сегодня был чертовски сильный метеорный поток навстречу нашему судну? Капитан. Давайте без панибратства, отвечайте на вопрос. Русских. Ну-с, я был с начмедотела. О материях высоких беседовал. Саянский. То есть вы еще до начала официального объявления задания знали о том, что мы намереваемся сбросить бомбу воскресения на поверхность земного шара? Русских. Знаете, если бы я так витиевато говорил, то я бы скончался от смеха над собственной манерой говорения. Саянский. Кто вам об этом сказал? Русских. Это прям секрет петрушки, ой, то бишь Полишинеля, об этом все догадывались. Курс-то был проложен загодя. Саянский. Хорош экземпляр, не так ли, капитан? О чем вы говорили с Вершинином? Русских. За жизнь говорили. Саянский. И вас не смущало то, что он из восстановленных? Русских. А вас не смущает, что вы задаете идиотские вопросы? Саянский (Капитану). Видите, каково тлетворное влияние этого субъекта? Капитан (Русских). Спасибо, Казимир, вы свободны. Русских наклоняет голову, фыркает и исчезает в той двери, через которую вошел. Тотчас же возникает Явин. Явин. Прошу без излишних долженствующих осложнений. Я хочу во всем признаться, это я устроил взрыв. Саянский (всплеснул руками). Вот как! Вот теперь поподробнее. Явин. Я считал, что мы не вправе воскресить Землю, так как мы не достигли должного уровня общежительства, чтобы правильно развить душевную направленность воскрешенных. Капитан. Я не верю тебе, Явин. Явин. Тем не менее я говорю, говоря об этом. Саянский. А где же вы раздобыли взрывчатые вещества? Явин. Это было не столь уж сложно сделать, являясь начальником медотдела... вотще я боролся со своим желанием, а недавно понял, как я заблуждался, ибо мы последние атомы, понимаете, некости, составляющие души бога. Я могу продолжать? Саянский. Окажите уж услугу. Явин. И как только эти атомы-души соберутся до конца, переполнят чашу космоса, воскреснет бог, и тогда Вселенная умрет, ибо чрез ее смерть, через ее сжатие родится бог. Саянский. Некая неопределенная боготочка? Явин. Да, именно, а мы со своим воскресением только помешаем его воскрешению, главному из главных воскресений. А уж он засим и позаботится о нас. И о них. Саянский. А что если ваш бог лишен чувства меры, и мы начнем все сызнова, как какиенибудь доморощенные белки внутри древней религии? Явин. Пусть будет по сему. Но воскрешать народы для того, чтобы они удостоверились в завершении человечества, преступно. И молвить им: мы вас воскресили, поелику не в силах остановить сжатие Вселенной, смерть мы отменили вместе со временем, но пространство все равно побеждает нас. Как им это объяснить? Саянский. Ясное дело. Сектант! Как же это пошло! А Вершинин случайно при вас не отзывался некоторым критическим образом о пророках? Явин. Некоторым - отзывался, но это не имеет ни малейшего отношения к содеянному мной. Саянский. Прекрасно. Капитан, вы не отведете подсудимого в камеру для дальнейшего допроса? Увы, я должен для проформы допросить Вершинин? Капитан. Идемте, Явин, я поражена в самый мой костный мозг. Капитан и Явин уходят. Саянский вызывает Вершинина, тот входит из двери, в которую увели Явина. Вершинин. Как это понимать? Ужели помешанность служит доказательством того, что он даже в мыслях не совершал? Ужели у тебя душа так очерствела - до подкорковых чертиков? Саянский. Успокойся, Вершинин. Если ты не будешь бегать по зале и спокойно встанешь передо мной, я тебе все объясню. Вершинин. Только, пожалуйста, без твоего лизоблюдства и заискивания перед властными мертвецами. Саянский. Золотые слова. Вершинин. Хватит растягивать канитель, что ты имеешь сказать? Саянский (учтиво). Перестань кипятиться, и подойди сюда. Вершинин. В освещенный чертовым прожектором круг? Саянский. Именно. Вершинин. Ну, выкладывай. Саянский (торжественно). Советник Стожар Вершинин, вам выдвинуто обвинение в подготовке террористического акта на борту "Звезды" и растлении души восстановленного г-на Сокольского... Действие четвертое. Сад перед дачей Фанфарова на одном из петербургских островов. Слева - увядшие яблони, за ними виднеется корт, с противоположной стороны - веранда с креслом-качалкой, перед крыльцом разбросаны теннисные ракетки вперемежку с мячами различных формы и цвета. Стрелки часов над входной дверью движутся в обратном направлении. Слышны возгласы, какие обычно бывают при игре в теннис. Присмотревшись, за яблонями различаешь фигуры, играющие в теннис. Битюгов. Варенька, государственная дума спасет Россию. Какая подача! Варя. Как вы обратились в трудовика? Битюгов. Аут! Но ничего! Что вы говорите? Варя. Почему вы изменили вашим убеждениям? Битюгов. Подаю! Я их не менял, я по-прежнему верю в революцию...Ах! Варя. В мою пользу. Битюгов. Вы стали изощренным игроком. Революция победит. Понимаете...Вот! Варя. Нынче славная осень. Битюгов. Не сезон! Аут! Черт подери! Варя. Не расстраивайтесь, вы подаете, точно мой муж. Битюгов. Подаю! У эсеров должен быть хоть какой-то представитель в Думе. А трудовики... Варя. Как вы говорите! Битюгов. Трудовики... Варя. Вот и сет. Последний! Я выиграла! Битюгов. Только не произносите вслух счет. Варя. Сергей! Хватит там копаться! Поздравь меня с победой! Фанфаров показывается в окне второго этажа. Фанфаров. Ты моя казеннокудрая Эос, ты случайно не видела кой-какого клочка бумаги, на котором стоял штемпель? Варя. Спускайся, Сергей, будет тебе заниматься канцелярщиной. Фанфаров. Увы, без этого никуда, Варенька, я должен поправить мои финансовые дела, у меня ни эмеритуры, ни пенсиона нет, я всю жизнь посвятил искусству. Впрочем, сейчас спущусь. (Исчезает.) Битюгов. Вы, я вижу, очень счастливы в браке? Варя. Как вам сказать...Боюсь, я не сумею этого выразить. Битюгов. Только мы с вашим мужем никогда не сходились во взгляде на будущее России. Варя. Даст бог, даст бог, я никогда не имела ни малейшего прилежания входить в ваши разговоры. Фанфаров (выходя из двери). Какой воздух, бог ты мой! Говорят, в Риме и в феврале благостная погода. Битюгов. Вы отбываете сухопутным путем? Фанфаров. Чугункой до Берлина, а там уж путем Гете до самой Италии. Варя. Отчего же я не слышу поздравлений, darling? Фанфаров. Если бы болгары играли подобным образом в теннис, то они восстановили бы былую славу их древнего царства, одолев и турок, и румын, и греков. А, Битюгов, что вы полагаете в отношении последней войны, у нас весь театр только о ней и говорит, доходят до того, что договариваются до большой европейской войны. (Подмигивает Варе.) Это же нонсенс! Битюгов. Отчего же сразу и нонсенс? Она ускорит воплощение наших идеалов в жизнь нашу и плоть. Фанфаров. А я думал в Таврическом подобные разговоры не ведутся, мне было бы печально созерцать, как Европа повторяет путь своих античных пращуров, да и бессмысленно нам это: на кой ляд нам нужна объединенная Польша или закавказские земли? Куда ни шли проливы, да и там беда с турками: куда их денешь, не переселять же их в Центральные губернии? Битюгов. У вас государственный взгляд на вещи. Фанфаров. Который вам не по душе. Варя. Дорогой, я вам, пожалуй, не стану мешать. Фанфаров. Конечно, милая моя Эос. Варя (Битюгову). С вас должок за неповоротливость. (Уходит.) Фанфаров. Понимаете, какое дело, (Садится в кресло.) тебе что-нибудь известно об одном лондонском обществе, что добывает золото на Лене? Битюгов. В Сибири? Фанфаров. Нет, не так, позволь тебя попросить сегодня не отходить ни на шаг от Вареньки, потому что я, кажется, банкрот. Битюгов. А как же итальянское путешествие? Фанфаров. Великие актеры уходят с блеском. Никому нет дела до того, что этот блеск перемежается с ложью, что руки их сведены подагрой, что в боку у них колики, что глаза слезятся от воспаления, кому до этого есть в сущности дело? Битюгов. Тогда зачем вы устраиваете нынешний прием? Фанфаров. Громко сказано: прием! Да и не ходить же по воскресеньям в церковь, когда есть благоприятная возможность провести этот день на островах. Битюгов. У вас тоже не сложились отношения с длинногривыми? Фанфаров. Боюсь, и об этом я буду жалеть, ведь в нашем православном пантеоне нет никакого божка, никакого святого, что заменил поруганного Мамону. Впрочем, (Перестает качаться и привстает.) говорят, что ты связался с охранкой. Битюгов. Враки, Сергей Николаевич! Фанфаров (продолжает качаться в кресле). Значит пустое болтают, на то и салопницы, чтобы разносить по миру всеразличные наветы, слушай, вон к нам спешит Волин, присмотри покамест за Варенькой, будь добр, а я уж его повстречаю. Битюгов уходит, оглянувшись, Фанфаров встает с кресла и идет в сторону увядших яблоней. показывается Волин. Как рад, боже ты мой, сколь вьюжных зим, сколько знойных лет! Волин. Оставь, нам не должно так говорить. Фанфаров. А отчего ты не на моем экипаже прибыл: признавайся, на то были свои причины? Волин. Были, я не могу выносить эту женщину, от нее звероядиной веет. Фанфаров. Да о ком ты? постой-ка, неужели ж она была без Сокольского? Бог с тобой! Вот конфуз вышел! Волин. Как есть, я остался несловесным перед ней. Фанфаров. Извини, Волин, французский язык, а там и известная легкость обхождения, а тут и вражда былая, как я мог вас всех в один экипаж, дал я маху, ничего не скажешь. Волин. А где Варвара Федоровна? Фанфаров. Пойдем в дом, прошу тебя, позволь загладить повышенной мерой страннолюбия мою оплошность. Фанфаров и Волин уходят. На корте показывается Явин, затем Вершинин. Явин. Что сказал капитан? Вершинин. Елена сказала, что меня отправят в солнце вместе с тобой. Явин. Но как же начальствующие? Вершинин. Ты про ЦУП? Брось, наверняка они связывались с ними, и наверняка, кипя праведным гневом и устроив бровное трясение, они ответили: ату его, ату, знаем мы этих восстановленных, пускай вкусит разложение во второй раз. Явин. Но что же делать со смертью? Вершинин. О да, ты, верно, надеялся, что тебя умертвят, но здесь вышла незадача: кто тебе может гарантировать, что с сожжением твоего тела ты умрешь? Явин. Но ты же сам - ничтоже сумняшеся... Вершинин. Я зубоскалил, бессмысленно, кипятил воздух вокруг себя, тщетно пускал стрелы подлейшего цинизма для раззадоривания всех и вся, разлагал... Явин. Растлевал... Вершинин. Верно, расковыривал заусенцы в душе, снимал бардовую корочку, а за ней бередил сукровицу. Явин. Я не предполагал, что мое признание станет и для тебя прещением. Вершинин. Брось, под меня давно копали, а теперь изыскали благовидный предлог для отправки к отцам. Явин. Как это умирать без смерти? в голове не укладывается! Окно второго этажа распахивается. Варя грудным голосом говорит: "Зря вы так о Сокольском. Не желаете еще сет?". Вершинин. И тему для камеры выбрали резоннейшую, дабы нам не было скучно, постарались на славу, ничего не скажешь. Явин. А мы не помешаем...этим теням? Вершинин. Это мы скорей с тобою тени, какого черта! И точно в голове не укладывается. Явин. Разве мы не можем повлиять на них? Вершинин. Можем, отчего же и нет? Правда, у меня нет никакой охоты поступать подобным образом, отойдем дальше в сад, чтобы не мешать пляске мертвых, надо же уважать мертвых больше чем живых. Живым на черта уважение? У живых есть жизнь, а у мертвых и смерти нет. Вершинин и Явин уходят далее в сад. Через некоторое время дверь распахивается, и из нее появляется Варя, спускается на крыльцо и ищет ракетку. Варя (напевает). Как страсть луны, как радость солнца Ты мне сияла из глубин Пустого сердца. А стрекозы Уж отлетали в иной мир. Уж осень отливала бронзой, И тлел шмелиный остов крыл. Из сада показывается Елена. Елена (приблизившись). Je nage dans la joie! vous êtes toujours le même! Варя. И вы, я вижу, ничуть не изменились. Елена. Bien aise de vous voir! Варя. Как вы поживаете? Елена. Bien! ça baigne! Comment ça va? Варя. Лучше не бывает, только прошу вас при мне не разговаривать по-французски. Елена. Вас маменька не успела доучить этому славному языку? Варя. Прошу вас не поминайте втуне мою матушку. Елена. Что вы! Она была бы вне себя от радости, когда бы узнала, что вы составили себе такую партию. Это вам не зашоренный титулярный советник. Сельский поп и то выше его. Варя. С чем вас и поздравляю. Елена. О, зря я заметила, что вы не изменились: вы, Варенька, стали роскошной чопорной красавицей, почти grande dame! Варя. Простите, я вынуждена... Елена. Постойте, я не хочу, чтобы вы воспринимали меня как некую салопницу, хуже того! Разлучницу! Да поймите вы, я же ради вас старалась! Теперь ты вы понимаете, на сколько голов ваш муж выше Сокольского? Варя. Я очень ценю вашу заботу и в будущем постараюсь отблагодарить вас должным образом. Елена. Ах, Варя, так ты чопорна, надменна и ломлива! Варя. Я рада, что ваш русский язык в смысле синонимов богаче французского. А теперь прошу простить меня. Елена. Attends! Варя уходит за дом, Елена улыбается ей в след и усаживается в кресло-качалку. Почти сразу же появляется Битюгов. Битюгов. Ба! Я думал, этот старый дуралей все же не пригласит тебя. Елена. Тсс... Битюгов. Будь покойна, она наверняка поплелась изливать свою душу спятившему толстовцу, они с Фанфаровым в конюшне. Кстати, про него рассказывают, будто в молодости он был страшным вертопрахом. Елена. Тот самый, что года два назад так нелепо вспылил из-за меня? Битюгов. Именно, mein Schatz. Елена. Не забывай, я еще обручена с ним. Битюгов. Революция не забудет его подвиг. Елена. Я всего лишь хотела подвига от любимого мужчины, а теперь я получаю нечто больше. Вернее, подвиг от нелюбимого мужчины, а затем в придачу любимого мужчину. Битюгов. Я доказал тебе, что способен на подвиг, и не один раз. Елена. Не понимаю, отчего боевая организация не устранила тебя в тот год. Битюгов. Я нужный человек, не какой-нибудь там расстрига-Гапон, и кроме того не забывай, я депутат. Елена. Ах да, в этой обезьяньей вольере. Битюгов. С мной чуть было не стрелялся Пуришкевич. Елена. Ах, дай я тебя обниму, (Обнимает Битюгова, пристально смотря в сторону.) а что если он не решиться сегодня сделать это? Он уже два года пытается, пытается и пытается пристрелить того шпика. Битюгов. Всего-навсего год, если быть точным. Прежде он не решался устроить покушение в сенате. Елена. Он сделает это? Битюгов. Даже если не сделает, то за него это сделаю я. А у тебя будут развязаны руки, ведь ты поставила ему условие, невыполнение которого влечет за собой расторжение помолвки. Он помается, помается, да прыгнет в Мойку. Елена. Было время, и я его страстно любила. Битюгов (басом). "Стало вре-мя, и я разлюби-ла е-го" . Елена. Ну иди ко мне, мой оперный певец. Как только Битюгов склоняется над Еленой, дверь распахивается - и на веранду входит Фанфаров. Фанфаров. А, Елена Троянская, я так рад, так рад, как ваша матушка Леда поживает? Что это вам одному дозволено ей руку поцеловать? Дозвольте мне, (Целует Елене руку.) ни слова, ни слова, вы год от года все краше. Елена. А ваши усы все чернее год от года. Фанфаров. Так они нафабрены, натуральной нашей петербургской краской. Меня за них знаете, как прозвали? Елена. Je suis au bout de mon latin. Фанфаров. Прошу вас, Михаил Семенович, сделайте шаг в сторону, вы загромождаете пространство. Дозвольте-дозвольте. (Он склоняется к Елене и что-то ей шепчет на ухо.) Елена (сквозь смех). Ах, боже мой, браво! Что за чувство юмора у вас! Фанфаров. Старая выучка гвардейского штабс-ротмистра. Битюгов. Вы тоже, я вижу, отдали дань службы царизму. Фанфаров. Какая уж там дань! Дань азартным играм, выпивке и актрискам. Но зато из-за них я по-настоящему полюбил искусство. Вот чему нужно не переставать платить дань. Битюгов. То есть царизму подати платить не нужно? Фанфаров. Царизм вечен настолько, насколько вечны православие и Россия. Так уж образовалось, что сильна в нас византийская властная жилка, только сильна не хитростью своей, но по природной своей склонности и силе. Битюгов. Правильно я понимаю, что революции больше не будет? Фанфаров. Еще как будет, после этого чертового расстрела на Лене и сгорания моих акций революция просто обязана случиться в России, но главное - с Россией, но царизм останется, его ничто не способно сломить Елена. На меня капает! Боже мой! накрапывает! Фанфаров. Пройдемте в дом, там и продолжим разводить наши гимназические рацеи. Позвольте взять вашу ручку. Битюгов (подходит к краю веранды и отводит руку, длинными пальцами будто поддерживая небо, затем одергивает кисть). И действительно, краплет. Все уходят в дом. Из-за дома выходят Волин с Варей, поднимаются на крыльцо. Варя. Повремените со входом, я не смогу себя сдерживать. Волин. Но вы продрогли, не делайте из себя мученицу, Варвара Федоровна. Варя. Отчего так, скажите мне, отчего так? Отчего он пригласил сюда эту женщину? Отчего скрывает от меня свои закладные? Отчего каждый божий день только и говорит, что об Италии. Волин. Успокойтесь, быть может и вас сподобит бог когда-нибудь уразуметь всю суетность нашей человеческой доли. Варя. Где был ваш бог, когда смерть отняла у меня моего первенца? В каких кущах он пребывал, когда умирала моя мать? Волин. Роптать непозволительно, вы лучше на себя ропщите. На женскую гордыню и забвение смыслов. Варя. О, поверьте, женской гордыни во мне ни на йоту не осталось, когда я умоляла на коленях Сокольского увезти меня, когда я рисовала перед ним все ужасы жизни с этой женщиной, он не послушал меня, он поднял меня с колен и знаете, что он сказал? "Варенька, давайте выпьем чаю"! Волин. Он пошел по дурной стезе, но всякая стезя дурна по сравнению с большаком веры. Варя. Вы так утешали меня в детстве! Пророчили мне судьбу богородицы, помните? Так и говорили? А что из меня вышло? Вы думаете, я не знаю, что я окажусь на улице ни с чем, но лишь с обузой на плечах в виде моего нелепого мужа. Мужа! Я пошла за него только потому, что осознала: он без меня пропадет. А измены! А актриски! Разве я не знала? Что там за прелюбодеяние установлено? Волин. За всякий грех грех и установлен. Ведь грех - это наказание в виде деяния. Варя. Как справедливо! Но если бы он даже сейчас явился передо мной и сказал: "Варенька, пойдемте пить чай!", - я бы бросила эту несносную жизнь, я бы пошла в швеи, гладильщицы, телеграфистки. Простите, я такая непоследовательная. Волин (суетится, задевает ногой ракетку). Я вижу, вы решили предаться английской забаве. Варя. О, единственно от нечего делать. Волин. Нет-нет, вы оставайтесь, Варвара Федоровна, а мне надобно в дом. Варя. Отчего вы меня бежите? Волин. Не хочу быть филистимлянином, право слово. Перед верандой останавливается Сокольский. Он в шинели, он промок и дрожит. Волин еле заметно кивает ему, затем скрывается за дверью. Варя будто пригвождена божественными гвоздями к деревянному полу веранды. Молчание. Варя. Вы промокли, прошу вас взойдите на крыльцо. Сокольский. "Ты ли, подруга желанная, всходишь ко мне на крыльцо?". Варя. Я очень любила Блока. Сокольский. Я и не переставал его любить. Варя. Откуда вы? Сокольский. С одной дачи, что на соседнем острове. Помог объезжать камелопарда. Варя. Вы смеетесь надо мной? Сокольский. Над господом богом готов смеяться, но над вами нет. Варенька! Варя. Я не могу. Сокольский. Постой. Я... Варя. Нет-нет, прошу вас. Я не в силах сделать то, что вы желаете от меня. Пауза. Сокольский. Говорят, ты уезжаешь в Италию. Насовсем. Варя. Мой муж банкрот, только не говорите ему об этом. Сокольский. Всенепременно. Варя. Откуда вы? Только не шутите надо мной. Сокольский. Хотите дознаться до правды. Так вот вам она. Я хотел убить одного человека, потому что любил одну женщину, но не убил, и эту женщину я разлюбил. Почти стих. Варя. Нет-нет, не может быть. Сокольский. Я вам отвратителен? Варя. Прошу вас, дайте мне уйти. Сокольский. А хотите еще одну правду? Варя. Нет-нет, прошу. Сокольский. Да стой же ты. Варя. Отпустите меня. Сокольский. Одну тебя я любил, и никого больше, ни-ко-го. Выше бога, безмерно, пойми ты. Внезапно Елена выходит с сигарой из дома, Битюгов следует за ней. Варя срывается с места и убегает за дом. Битюгов. А потом где-нибудь у театра "Феникс" я сниму комнаты для нас двоих... (Останавливается. И смотрит вокруг с изумлением.) Ба! Можно тебя поздравить с революционным подвигом? Сокольский. Пожалуй, можно. Битюгов. И тебя не схватили: как же ты вырвался оттуда? Сокольский. Попросил городового поймать мне извозчика. Битюгов. Я вижу, ты крайне возбужден от содеянного, что ты говоришь, вдумайся? Елена. Неужели ты это сделал? Ты - жалкий титулярный советник - сделал это ради меня? Сокольский. Я, жалкий титулярный советник, не сделал это ради тебя. И в этом мой подвиг. Битюгов. Ты сделал это ради революции? Сокольский. Изволь подать мне платок, я весь вымок. Я не сделал этого вообще. Елена. О, напускная храбрость, картонное сердце, а в нем клюквенный сок? Сокольский. Именно так. Битюгов. Постой, ты хоть понимаешь, какой ущерб ты нанес нашему общему делу? Сокольский. Вне всякого сомнения он сообразен ущербу, какой наносили столыпинские галстуки. Битюгов. Да что ты в этом понимаешь? Сокольский. Очень даже многое: бессмысленность чеканных фраз, вроде: революция святое дело, или наше общее дело, или - того требует долг и настоятельная революционная необходимость. Елена. Cela veut dire: rupture! Сокольский. Именно об этом я и хотел тебя попросить. Битюгов. Теперь ты понимаешь, что мне ничто более не препятствует раскрыть некоторые детали в отношении одной подпольной типографии. Сокольский. Ради бога, я знал, на что иду. Елена. Suivez-moi! Сокольский. Постой, Битюгов, я знаю, куда она уходит от меня, так что позволь ей наедине сказать несколько слов. Прощальных и грустных слов. Елена. Froussard. Впрочем, ради любопытства я готова на мерзость пребывания с тобой. Битюгов. Я не могу ей воспрепятствовать. Елена, ты уверена в том, что мое присутствие не является обязательным? Елена. Уверена. Битюгов, презрительно усмехнувшись и подняв свою теннисную ракетку, уходит. Сокольский. Я почти убил этого человека. Елена. Враки. Сокольский. Постой, мне сегодня приснился чудной сон: будто я умер, а затем меня воскресили. Елена. Ты вздумал мне перед разлукой рассказать свои скучные сновидения? Сокольский. Поскольку они помогают мне объяснить мой поступок, то с них я и начну. Итак, меня воскресили - но не бог! А странные люди, они все до единого были надеты в придворные мундиры, они сказали мне, что я должен исполнить нечто крайне важное, они мне дали гусиное перо, но я странным образом забыл свое имя. Нет! Уж не упомню. Затем образовался провал, вслед за которым я увидел эти странные часы, что висят здесь и идут обратнейшим образом в сравнении с обычным часовым ходов. Да, взгляни, они идут в обратную сторону. (Указывает на настенные часы.) Елена. Какое это имеет значение, когда ты не смог меня сделать счастливой? Сокольский. Смерть человека могла тебя сделать счастливой? Елена. Конечно, нет, но мое сердце так жаждало подвига. Сокольский. Ты подобное мне говорила и во сне. Елена. Уволь меня от выслушивания этой теософии. Сокольский. А хочешь знать, чем закончился мой сон? От чего я вскочил с постели и дал себе зарок не убивать того шпика? Елена. Какое это имеет значение? Сокольский. Ну же. Кровожадность и любопытство обвивают душу каждой женщины. Елена. Хорошо, если ты настаиваешь, то будь столь любезен: расскажи окончание твоего сна. Сокольский. Подайся сюда, милая моя Елена. Елена. Зачем ты меня так называешь? Ты вынимаешь сердце из моей груди. Сокольский. Ближе, дай я тебе прошепчу этот сон. Елена (приблизившись вплотную). Прошу тебя... Сокольский. Вот что там было... Сокольский достает из кармана револьвер и прежде, чем Елена успевает вскрикнуть, производит выстрел. Затем бросает его в сторону и сквозь утихающий дождь убегает без оглядки прочь. Елена без движения лежит на крыльце. Из-за угла дома на к веранде приближаются Явин и Вершинин. Вершинин безучастно склонился над Еленой. Вершинин. Посмотри на нее: казалось бы, она должна была побледнеть, ее лицо должно было вдаться в отвратительную синеву вперемежку с глухим зеленым оттенком, ан нет: прекрасна и румяна, по-прежнему, хотя из всей этой кутерьмы она мне не нравилась больше всего. Отчего же, черт подери, жалко ее эдакой завистливой и заискивающей жалостью, а, Явин? Явин. Быть может, потому, что к ней пришла смерть, а к нам она уже не придет, как бы не соревновали ей в этом? Вершинин. Любопытно, отчего кровь не пошла у ней ртом, отчего это багровое пятно залило ей весь живот, разлилось по половицам, а лицо так блаженно, нетронуто и спокойно, будто перед смертью ей пели колыбельную. (Пытается напевать, но фальшивит.) "За печкою сидит сверчок, угомонись, не плачь, сынок..." Явин. К ней немедля пришла смерть? Вершинин. Судя по всему нет, сперва от страха упала в обморок, а затем просто-напросто не вышла из обморочного состояния. О, ты не женщина, ты бытие. Надобно, ей хоть глаза прикрыть? Явин. К чему? Вершинин. Последняя дань условностям, на которых зиждились миры. Явин. Я давно тебе хотел сказать. Вершинин. Я знаю, что завтра нас выкинут в солнце, что мы будем им опалены, а затем разорвемся на части, но не умрем, затем расщепимся на атомы, но не умрем, черт подери, вот где после этого наша жизнь сосредоточена? Явин. Это не я устроил взрыв на "Звезде", бог - свидетель, не я... Молчание. Вершинин, качая головой, уходит в сад. Явин остается перед телом Елены, наклоняется к ее лицу, убирает выбившиеся локоны с висков и нежно начинает улыбаться. Действие пятое. Играет первая часть из "Stabat mater" Перголези. Мостик звездолета, по бокам виднеются светящиеся приборы, за ними никто не сидит. В окнах видна громадная желтая Земля. На мостике двое, долгое время они молчат. Капитан. Вам не кажется, восстановленный, что все прекрасное, что человек когда-либо сотворил своими скудными силами, остается навеки, даже если его произведения утеряны? Сокольский. На подобные мысли вас навела музыка? Капитан. Мы неправильно поступили с ними. Сокольский. Мне, признаться, странно на душе, потому что теперь, совершая поступок, мы совершаем его без веры. Капитан. О да, вера есть внутренняя красота, так считали в ваше время? Сокольский. Так считали всегда. Капитан. Не говорите подобной крамолы перед Саянским. Сокольский. Неужели после того, как он отправил в Солнце вашего... Капитан. Да, именно любовника, не бойтесь громких слов. Сокольский. Как вы можете оставить безнаказанным его поступок? Капитан. Совершенный без веры? Сокольский. Действительно таковой. Капитан. Он до последнего думал, что я отведу корабль в Солнце и не стану воскрешать все эти языки. Сокольский. Тем самым вы упраздните последнюю надежду человека. Надежду на бога. Капитан. Бог нас для того и создавал, чтоб вместо него делать все самые трудные и мерзкие дела. Сокольский. А что если был прав Явин? Капитан. То есть нам нужно лишить тех людей, что лежат на Земле и в земле, надежды на новую жизнь. На жизнь без лжи, без смерти и без мучительных поисков в себя в бессмысленном потоке космоса. Сокольский. Мы бы имели право утверждать подобное, если бы сами избавились от всего вышеперечисленного. Капитан. Смерти у нас, по крайней мере, нет. Сокольский. А вы никогда не думали, что смерть стоит выше недостойной жизни? Капитан. Нет, никогда не думала. Сокольский. Понимаете, какое дело, мы безусловно умнее воскрешенных, красивее и выносливее, многие по воскресении наверняка останутся такими же, какими они были ранее, глупыми, завистливыми богоотступниками, но неужели то, что они ниже нас позволит нам говорить то, что мы лучше их? Капитан. А как же иначе? Сокольский. Душу выедает равным образом как умный грех, так и греховный ум. Капитан. Ах, вот к чему вы клоните. Так что же вместо воскресения? Солнце? Конец? Сокольский. Еще несколько лет - и вселенная начнется заново. Капитан. То есть отнять эти несколько лет у сотен миллиардов людей? Сокольский. Вы знаете латынь? Капитан. Да, он пел на латыни. Сокольский. Когда я услышал слово "lacrimosa", я понял, что и я оплакиваю нашу невозможность дать им ничего более, кроме жизни. Капитан. Вы уже отняли жизнь, судя по вашим сновидениям, которые вы мне рассказываете. Сокольский. Право, здесь нет никакой взаимосвязи. Капитан. И имени своего вы не можете вспомнить? Сокольский. По-прежнему, не могу, но какое это имеет значение, Елена? Капитан? Капитан. Действительно, никакого, забудьте, Сокольский. Сокольский. Куда вы направляетесь? Капитан (уходя). Оставайтесь на дежурстве, вас заменит Русских. Сокольский. Куда вы, капитан? Куда ты, Елена? Куда же? Сокольский бросается ей вслед, но неожиданно наталкивается на Волина со стаканом чая в правой руке. Мостик тотчас же преображается в узкую комнату, заставленную книгами, с двумя лежаками посреди них. Волин. Паки она снилась? Сокольский. Что? Где капитан? Куда вы ее дели? Нам нужно воскресить их всех! Волин. Ну тише ты, не лягайся, утихомирься, ужели подобное твое возбуждение происходит единственно от сна? Сокольский. Иван Ильич, неужели я очнулся у вас? Волин. Выпей чаю. Сокольский. Благодарю. Но, господи, всю ночь на улице была стрельба, я, кажется, только отошел от трехнедельной дороги, а здесь снова волнения. Волин. Будоражат народ, и казенные наши постарались на славу, обуянные властолюбием и трусостью. Сокольский. Целых три недели на поездах - от Томска до Петрограда, а там... Волин. Пей-пей, от чая рассудительность не отнимется. Сокольский. Постойте, а еще от Нарыма до Томска в распутицу! Волин. Чем же ты вместе с другими ссыльнопоселенцами пробавлялся? Сокольский. Вместе с политическими крыс топил, а со своими, стыдно говорить, Волин, если позволите, я не стану распространяться. Волин. Дело оно хозяйское. Богу-то молился? Сокольский. Разучился, впрочем, я вас должен отблагодарить за место в министерстве. Волин. Государственного призрения? Ну, это ты должен благодарить имярека, сделавшего тебе чистый паспорт. Плохо, что богу-то не молился. Сокольский. Я убил человека. Волин. Ты полагаешь, что тем самым ты лишился воскресения и новой жизни? Сокольский. Волин, я не хочу об этом говорить. Волин. Знаешь, что я тебе поведаю? Нет такого греха, который бы можно было искупить. Смерть мушки - дрянной, казалось бы, грех, ан нет, и его мы не в силах искупить. В душе мы раскаиваемся, но какой в том толк? Все дело в том, чтобы раскаяние превратить во вдохновленность, тогда не будет новых грехов. Это единственное, что нам должно быть совершенно. Сокольский. Сегодня я вновь воздержался от службы. Волин. Не хочешь слушать меня? С годами я становлюсь все более болтливым. Сокольский. Только представлю то, что вытворяет матросня на улицах, и мне становится гадко. Волин. Этого ты не в силах изменить. Сокольский. Но что же я тогда в силах сделать? Волин. Собирайся, покуда я принесу наши шинели. Сокольский. Куда мы направимся? Волин. Спасать жизнь той, который ты не был безразличен. Сокольский. Варенька? Волин уходит туда, куда прежде ушел капитан. Русских внезапно врывается на мостик с противоположной стороны. Русских. Ну, что, служивый, с кем тараторил только что? Сокольский. С бесплотными духами. Пустое. Русских. Прекращай ты подобную хмарь , чего попусту пугать капитана? Сокольский. Я полагал, что это момент станет самым торжественным в жизни всей вселенной. Русских. Чего ради, спрашивается? О да! Картинные обрастающие плотью скелеты, вздымающие глазницы к небесам? Сокольский. И это в том числе. Русских (подходя к окну). Вот смотрю я на этот пыльный шар, а ведь знаю, что и его поглотит сжатие, а все равно зудит внутри чертенок: воскреси людишек, перебери их праведной рукой, проведи под жезлом, дескать. Сокольский. Неужели ты ни в чем не согласен с Явиным? Русских. Мне от его метаний становилось дурно, он был моим другом, закадычным и таким, без которого неделя - тягостный год, но вот эти сердцеметания сводили меня с ума. У него вместо ума была мечтательность - не хилое свойство, но на любителя. Сокольский. То есть воскресить и обмануть народы? Русских. Ну это с тебя либеральная гиль прет. По большому счету мне наплевать: всем наплевать такой голубой слюной. Сокольский. Но в этом заключается и весь ужас положения. Русских. В этом заключается единственно наше русское наплевательство на все и вся. Сокольский. А если случится так, что капитан вопреки Саянскому направит корабль прочь? Русских. Я верный пес, я последую за ней. И не буду кочевряжится. Сокольский. Оттого, что она твоя сестра? Русских. Потому, что она лучше меня знает, что делать с кораблем, вот и все дела. (Садится за один из приборов) А, впрочем, может быть в самой глуби своей души - запачканной и замаранной я согласен с Явиным. Или постой! Может быть, это страх перед тем, что эти воскресшие двуногие человеки просто не поверят нам, что мы пришли творить над ними Страшный суд. Сокольский. Или тебя пугает то, что они лучше нас? Русских. Ого-го-го, вот тогда я посмеюсь, сыграю с ними партейку в шахматы, какую игрывал с тобой, еще раз посмеюсь и обниму их. (Вертится на кресле, нажимая на приборы.) А все-таки чертовски приятно, что лишь русским это удалось, просто душа согревается. Голос Саянского. Техник Русских, жду вас в главном отсеке. Русских. У-у-у, злыдень, недолго тебе осталось звать по мою душу. Бывай, Сокольский! Заменю тебя, никуда не убегу, не бойся. Сокольский. Прощай. Русских уходит. Сокольский садится в кресло, которое тот занимал прежде. Пока Сокольский смотрит на желтую Землю, мостик обращается в большую комнату, в углу которой лежит Фанфаров, стены комнаты оклеены афишками, кое-где виднеются следы от снятых картин, большое место занимает пустой шкаф, к постели Фанфарова приставлен изящный стул, на котором располагается Варя. Подле нее стоит Волин и подбадривающе кивает Фанфарову. Фанфаров. Понимаете, что нынче ставят? Я всю жизнь отдал искусству. Да, заблуждался, да, шел непроторенной дорогой, но зритель! Как он обмельчал! Ему подавай современную шелуху! Ему мало летнего наступления, мало корниловского мятежа и обуянных толп женского пола, гремящих в свои кастрюли. Понимаете, Волин, в современности нет ничего эстетического, нет аттического вкуса и спартанской умеренности. Варя. О да, я очень люблю Аттику, очень, я пчелка, я аттическая пчелка. А ты совка. Из Афин. Фанфаров. Вот что сделал зритель с моей Варенькой, понимаешь, Иван Ильич! боготворил ты русского мужичка! А этот мужик не просто свергнул царя, он и чувство прекрасного образованного русского человека ниспровергнул в такой провал, откуда его сам Люцифер не вытянет. Волин. Зря вы на лукавого замахиваетесь словом. Фанфаров. Да он мне являлся несколько раз. Варенька подтвердит. Косматый такой, с глубочайшими глазницами, эдакий экзальтированный взгляд. Вроде Андреева. И говорит: с молоком нынче беда в Петрограде! Баста! А я ведь так любил кофей с молоком поутру, что даже на него вспылил. Варя. Вам принести чего-нибудь? Волин. Не стоит труда, Варвара Федоровна. Варя. Нет, я уже давно себя продаю, так что мне это ничего не стоит. Пауза. Фанфаров (шепотом). Совсем помешалась, бедная моя девочка. (Варе.) Варечка, я так виноват перед тобой, если бы не вино, не актриски, не чертовы кутежи я бы, Варя, как царицу содержал, ты слышишь меня? Варя. Не убивай меня, о, Алкмеон! Фанфаров. Последняя моя постановка, что-то из современной подделки под греческую суть. А собственно, если позволите, (Отворачивается к стене и что-то выпивает.) может оно и лучше без Керенского, говорят, он повторил подвиг Меттерниха во время весны народов. Только все равно жжет здесь. (Хватает руку Волина и прижимает к сердцу.) Вы обещаете мне? Волин. Не заставляйте меня божиться, покуда октябрь будет оставаться октябрем, я не отойду от нее ни на единую сажень. Фанфаров. Как славно! Как славно! А какие сны мне снятся! Томливая будущность, эдакая погруженность в негу, сходящиеся с мировой пляске звезды - и я! Я не просто здоров, но и воскрешен, будто на остов мой сызнова натянуты все фасции и мышцы - все, все до единого! Варя. Холодно! Волин. Вам холодно, Варвара Федоровна? Варя. Всем холодно. Фанфаров (шепотом). Ей лучше, право слово. (Громко.) А что же вы, Сокольский, забились так далеко? Поверьте, ваше прегрешение нынче сойдет за революционное рвение, не так ли, Иван Ильич? Сокольский. Не стоит попусту томить истаивающую душу. Фанфаров. А кто пожалеет душу поэта! Разве что моя аттическая пчелка, к слову, Варенька, ты узнаешь нашего прежнего друга? Он две недели назад возвратился из Сибири. Варя (глядя в стену). Амфиарай, дюжь колесницу! Пеплос куплен! Фанфаров. О чудо! Разве это видано, чтобы какая-нибудь жена читала строки из древнегреческих драматургов? Хоть что-то мне греет сердце. Волин. Варвара Федоровна, каково ваше самочувствие? Варя (так же). Меня не воскресят, я Эрифилла! Я женщина! Я неподсудна воскресенью, боги! Фанфаров (шепотом). Зря беспокоитесь. (Громко.) А теперь что-нибудь для дальнего гостя. И баста! Варя (с безумным лицом Сокольскому). И я тебя любила, и ты меня любил. Но разве это было, но разве это было? Достаточно ли было? Ведь был младенец твой, а я его - убила... На то и Эрифилле сосков немая дрожь... Сокольский (срываясь с места). О, господи, Варенька, я тоже... Замешательство. Варя подбегает к Сокольскому, обнимает его, затем отталкивает, так что тот снова падает на сиденье перед приборной доской, и убегает, распахнув двери, прочь. Фанфаров. Это так ты обещал мне, Иван Ильич, беречь ее пуще зеницы? На улицах матросня, боже мой! Волин. Идем, Сокольский. Фанфаров. Она на улицу выбежала, вот вам крест, чертовы дворники! Быстрее же, верните ее, она полоумна! Волин и Сокольский уходят. Фанфаров снова достает бутылку и отпивает из нее. Пока он вяло говорит, его комната превращается в мостик "Звезды". За приборами сидят Русских и Сокольский, Капитан стоит посредине, затем входит Саянский. Нет, зря я втравился в это дело. Хмарь какая-то...Россия - это сон, двуглавый грифон, а тут Варечка убежала... Пускай я останусь здесь, пускай не будет заботы, зато и не будет этих жирных, унавоженных бессмысленностью петроградских снов... Саянский (входя). Что это? Немедля выключите! Вы понимаете, что никогда человек, единственно взятый, не был так велик? Капитан. Что же, о, наш духовный вождь, пора уж скинуть эту бомбу на Землю. Саянский. Не понимаю вашего сарказма, капитан, духовный вождь! Нет, растворенный во всех вас эон, а вы растворены во мне, неужели вы забыли реченное пророками? Капитан. Я отдаю приказ. Саянский. Постойте, я понимаю, что наше долгое путешествие к Земле было не столь легко, как вы, быть может, ожидали. Да, на нашем борту были недостойные высокого предназначения предатели. Да! Мы не получали духовных извещений от пророков, но мы достигли своей цели, потому что не достичь ее мы просто-напросто не могли. Русских (тихо). Пока вы треплетесь, эта штука сгниет, так и не выпав к чертям собачьим. Саянский. Что вы сказали, техник? Да, вы тоже не понимаете всего величия этого акта, самоотверженного акта всего собранного воедино человечества. Бомба воскресения! Только представьте, сколько народов она воскресит, сколько славы она распространит о нас? Об экипаже этого славного корабля, вдохновленного пророками на такие подвиги, на какие прежде не был способен человек. А теперь исполнилось! Капитан, вы готовы? Капитан. Всегда готова. Саянский. Остальные члены экипажа? Русских. Я сейчас заною от торжественности. Саянский. Значит все готовы. Постоим еще минуту, храня молчания. Русских. На меня сейчас нападет приступ икоты, что делать? Саянский. Прошу вас, молчите, техник. Русских. Минута уже прошла? Саянский. Погодите, ощутите молчание вселенной и напряженность ее вещества. Капитан. Кончилось. Итак? Саянский. О, пророки, сделается по изреченному. Сбрасывайте, капитан? Капитан. Готовы, Сокольский? Сокольский. Пожалуй. Капитан. Открывайте люк. Сокольский. Сделано. Пауза. Саянский. Почему ничего не слышно, отчего бомба не разорвалась? Капитан. Оттого, что всё это ваш сон, Саянский. Саянский. Как вы смеете? ЦУП дал вам на этот счет весьма определенные указания. Капитан. Да что вы говорите? Саянский. Капитан, отчего вы не сбросили бомбу? Капитан. Оттого, что не захотела. Саянский. К чему этот фарс? Техник, замените капитана на его посту, он болен. Капитан. Действительно, техник, встаньте и подойдите сюда. Русских (подходя). Что прикажете, капитан? Саянский. Смените ее! И довершите начатое! Именем пророков! Капитан. Слушайте меня внимательно: Андрей Саянский, вы обвиняетесь в устроительстве взрыва на борту "Звезды". Саянский. Что? Да она сошла с ума! Вы все здесь сбрендили! Капитан. Русских, возьми его под стражу, пускай подумает о содеянном. Саянский. Вы мне ответите! Русских. Ну, пойдем, злыдень, чего ты кривишься? Мостик корабля внезапно обращается в небольшую петроградскую улочку недалеко от Троицкого собора. Трое матросов с ружьями - один долговязый, другие - умеренного роста - стоят рядом с Волиным и Сокольским. 1-ый матрос. Ну будто сразу и ответим. 2-ой матрос. А ты балакаешь, за революцию в Нарыме бавил? 3-ий матрос. Да ты че, штыхом-то тычешь, брось оно! Сокольский. Я говорю вам, я прибыл в Петербург всего две недели назад. 2-ой матрос. А отчего-то документики эти у тоби знашлись? Сокольский. Иван Ильич, скажите им, что министерство призрения... 3-ий матрос. Слышь! Я те дам презрения! Эвоны, че-то! Волин. Бросьте с ними говорить, бог нас рассудит, мы дождемся кого-нибудь из начальствующих, а затем, рассудив все недоразумения, найдем Вареньку. 2-ой матрос. Ну-ка еще пошукаю. (Роется в бумагах Сокольского.) 1-ый матрос. Ну, так-то оно и лучше, щас придут ребята из Совета, а потом решим, что с вами делать. 2-ой матрос (читая с южнорусским акцентом). "Осознав, что бог всесилен, я понял, что даже если человечество достигатиме того предела, за которым будет возможно воскресение всех..." Вот достоту из министерства. Волин. А ты говорил, что богу не молился. Сокольский. Положим, не молился, но это же не мешает о нем думать? Господи, быстрее бы все это разрешилось! У меня такие черные мысли бродят в голове касательно до Вареньки. Волин. Пустое, пускай тебя лучше вера обуяет. Сокольский. А я ведь до сих пор отказываюсь в это верить. 1-ый матрос. Ну, недолго уж осталось, недалече! 3-ий матрос. Ой, яблочко, завета нового! Про Исуса читать - мне хреново так! 2-ой матрос. Безверники. 1-ый матрос. Слышь, на тебя бочку-то катят. 3-ий матрос. Да, пёсенка такая, слышь ты, чё ты сразу? Из-за угла появляется Битюгов. Он отпустил бороду и потучнел. 1-ый матрос. Тихо, падаль. Товарищ уполномоченный депутат! Мы задержали этих двоих, подозревая их в пособничестве буржуям. Битюгов. Так-так, молодцы! Революция вас не забудет! Волин. Дмитрий Николаевич, неужели вы нас не признаете? Битюгов. Вишь, как контра заговорила! Чему нас учат большевики! Бить эту падаль! Тогда и мир, тогда и земля будут наши! Волин. А, вы записались в большевистские пророки? Битюгов. Ткни-ка его прикладом по его буржуйскому пузу! Вишь как заговорил! 2-ой матрос (ударяя прикладом Волин, подбегает к Битюгову). Вот що мы выявляли! (Протягивает бумаги Сокольского.) Битюгов. Молчишь ведь! А вы знаете, кто перед вами. 3-ий матрос. Из министерства этот! Битюгов. Вот-вот! Я сам видел, как он собственноручно вешал борцов за революцию! Это сын Столыпина! Кровопийца! 1-ый матрос. Да неужели! Битюгов. А этот, что валяется теперь, он же помещик-толстосум, крестьян у себя в деревне вешал! Вот кого вы поймали, добрые молодцы! Революция вас не забудет! 3-ий матрос. Так чё их кончить? Битюгов. А вы как думаете? (Сокольскому.) Это тебе в память об Елене. О революционерке, которую он замучил. Сокольский плюет в лицо Битюгову и набрасывается на него. Матросы бьют его прикладами ружей, поднимают Волина и ставят обоих к стене дома. Волин. Одумайтесь! Битюгов. Ну-ка, молодцы, поднимайте ружья! Сокольский. Я тебя презираю и всю твою революцию. Волин. Воскресение будет! Не пресечь вечную жизнь! Битюгов. Чего вы их слушаете, этих буржуев? 1-ый матрос. Приготовились! Целься! 2-ой матрос. На душе погано! Не можу! 3-ий матрос. Ну че ты дрейфишь? Волин. Вечная жизнь! Россия все равно будет миром! Битюгов. Да кончайте же их! 1-ый матрос. Пли! Да пли же! Сокольский. Бог... Тьма покрывает улочку вместе со всеми людьми. Звуки выстрелов. Плач Вареньки. Сумятица. Крики. Из тьмы рождается мостик "Звезды", на мостике двое, что находились там прежде. Сокольский. Ты знала, Елена? Капитан. Да, я знала, что это он устроил взрыв. Сокольский. Но как же... Капитан. Молчи. Сокольский. Так мне воскресить их всех? Капитан. Слушай мой приказ: увести "Звезду" к Солнцу. Сокольский. К Солнцу? Капитан (улыбаясь). В Солнце, любимый, в Солнце! Занавес.