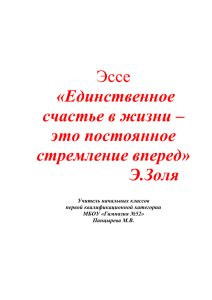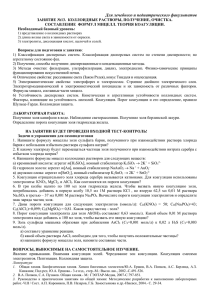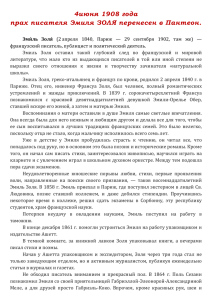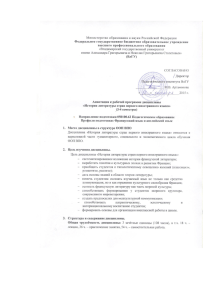Литература в кино С. Эйзенштейн
реклама
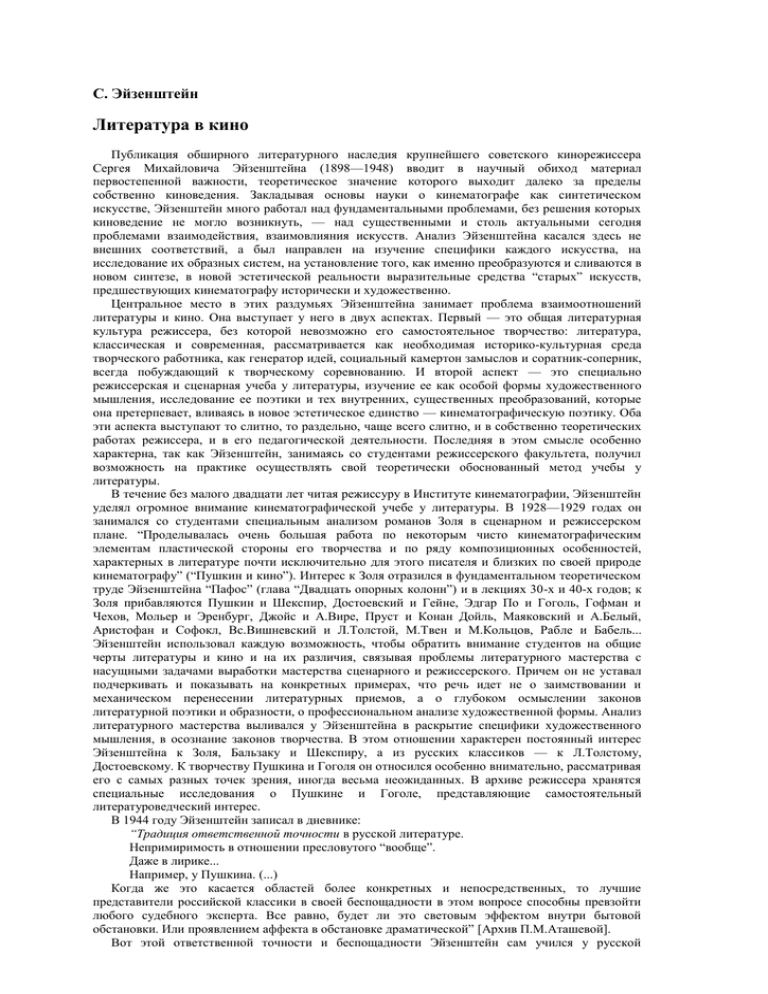
С. Эйзенштейн Литература в кино Публикация обширного литературного наследия крупнейшего советского кинорежиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна (1898—1948) вводит в научный обиход материал первостепенной важности, теоретическое значение которого выходит далеко за пределы собственно киноведения. Закладывая основы науки о кинематографе как синтетическом искусстве, Эйзенштейн много работал над фундаментальными проблемами, без решения которых киноведение не могло возникнуть, — над существенными и столь актуальными сегодня проблемами взаимодействия, взаимовлияния искусств. Анализ Эйзенштейна касался здесь не внешних соответствий, а был направлен на изучение специфики каждого искусства, на исследование их образных систем, на установление того, как именно преобразуются и сливаются в новом синтезе, в новой эстетической реальности выразительные средства “старых” искусств, предшествующих кинематографу исторически и художественно. Центральное место в этих раздумьях Эйзенштейна занимает проблема взаимоотношений литературы и кино. Она выступает у него в двух аспектах. Первый — это общая литературная культура режиссера, без которой невозможно его самостоятельное творчество: литература, классическая и современная, рассматривается как необходимая историко-культурная среда творческого работника, как генератор идей, социальный камертон замыслов и соратник-соперник, всегда побуждающий к творческому соревнованию. И второй аспект — это специально режиссерская и сценарная учеба у литературы, изучение ее как особой формы художественного мышления, исследование ее поэтики и тех внутренних, существенных преобразований, которые она претерпевает, вливаясь в новое эстетическое единство — кинематографическую поэтику. Оба эти аспекта выступают то слитно, то раздельно, чаще всего слитно, и в собственно теоретических работах режиссера, и в его педагогической деятельности. Последняя в этом смысле особенно характерна, так как Эйзенштейн, занимаясь со студентами режиссерского факультета, получил возможность на практике осуществлять свой теоретически обоснованный метод учебы у литературы. В течение без малого двадцати лет читая режиссуру в Институте кинематографии, Эйзенштейн уделял огромное внимание кинематографической учебе у литературы. В 1928—1929 годах он занимался со студентами специальным анализом романов Золя в сценарном и режиссерском плане. “Проделывалась очень большая работа по некоторым чисто кинематографическим элементам пластической стороны его творчества и по ряду композиционных особенностей, характерных в литературе почти исключительно для этого писателя и близких по своей природе кинематографу” (“Пушкин и кино”). Интерес к Золя отразился в фундаментальном теоретическом труде Эйзенштейна “Пафос” (глава “Двадцать опорных колонн”) и в лекциях 30-х и 40-х годов; к Золя прибавляются Пушкин и Шекспир, Достоевский и Гейне, Эдгар По и Гоголь, Гофман и Чехов, Мольер и Эренбург, Джойс и А.Вире, Пруст и Конан Дойль, Маяковский и А.Белый, Аристофан и Софокл, Вс.Вишневский и Л.Толстой, М.Твен и М.Кольцов, Рабле и Бабель... Эйзенштейн использовал каждую возможность, чтобы обратить внимание студентов на общие черты литературы и кино и на их различия, связывая проблемы литературного мастерства с насущными задачами выработки мастерства сценарного и режиссерского. Причем он не уставал подчеркивать и показывать на конкретных примерах, что речь идет не о заимствовании и механическом перенесении литературных приемов, а о глубоком осмыслении законов литературной поэтики и образности, о профессиональном анализе художественной формы. Анализ литературного мастерства выливался у Эйзенштейна в раскрытие специфики художественного мышления, в осознание законов творчества. В этом отношении характерен постоянный интерес Эйзенштейна к Золя, Бальзаку и Шекспиру, а из русских классиков — к Л.Толстому, Достоевскому. К творчеству Пушкина и Гоголя он относился особенно внимательно, рассматривая его с самых разных точек зрения, иногда весьма неожиданных. В архиве режиссера хранятся специальные исследования о Пушкине и Гоголе, представляющие самостоятельный литературоведческий интерес. В 1944 году Эйзенштейн записал в дневнике: “Традиция ответственной точности в русской литературе. Непримиримость в отношении пресловутого “вообще”. Даже в лирике... Например, у Пушкина. (...) Когда же это касается областей более конкретных и непосредственных, то лучшие представители российской классики в своей беспощадности в этом вопросе способны превзойти любого судебного эксперта. Все равно, будет ли это световым эффектом внутри бытовой обстановки. Или проявлением аффекта в обстановке драматической” [Архив П.М.Аташевой]. Вот этой ответственной точности и беспощадности Эйзенштейн сам учился у русской литературы и показывал другим, как это надо делать. * * * Настоящая публикация дает далеко не полное, но достаточно связное представление о разработке Эйзенштейном проблемы “Кино и литература” и об оригинальности и глубине его литературоведческого анализа, часто представляющего вполне самостоятельный научный интерес, хотя и несвободного от спорных высказываний, которые читатель легко обнаружит. Публикация состоит из трех разделов. В первом помещен черновой вариант незавершенной статьи “Кино и литература (Об образности)”, он печатается с небольшими сокращениями по оригиналу, хранящемуся в архиве П.М.Аташевой. (Некоторые положения этой статьи использованы в предисловии к исследованию “Пушкин и кино”, опубликованном во втором томе Избранных произведений Эйзенштейна.) Второй раздел включает сокращенную стенограмму лекции Эйзенштейна от 21 сентября 1928 года (оригинал хранится в ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 985). В третьем разделе помещены отрывки из лекций, читанных Эйзенштейном во ВГИКе в 30—40-е годы (стенограммы лекций хранятся в кабинете режиссуры ВГИКа). Стилистическая обработка неправленных стенограмм (в необходимых случаях), сокращения (обозначены круглыми скобками), названия отрывков из лекций, а также примечания принадлежат составителям. Научное руководство публикацией осуществлено И.Вайсфельдом. Е.Левин, В.Фомин, Д.Шацилло I Кино и литература (Об образности) Разговаривая с кем-нибудь, особенно из девушек, на тему о кино и литературе, неизбежно слышишь вопрос: “Ах, зачем никто не снимает Дос Пассоса, — он так кинематографичен...” Вот именно потому, милая барышня, его никто и не снимает! Его кинематографичность идет из кинематографа. Его приемы — кино-приемы, обратно из вторых рук. В военные студенческие годы был у меня некий однокурсник Сальников. Черносотенец и оборонец. Убежденный и красноречивый. “Его бы речи в “Новом времени” печатать”, — говорили студенты. На что резонно ответствовали другие: “Незачем. Они оттуда ведь и взяты...” Такова же оплодотворяющая роль для киноприемов со стороны “ультра-кинематографических” писателей. Это все равно, как пытаться воспроизвести движения собственного отражения, увиденного в зеркале... Есть писатели, которые пишут, я сказал бы, непосредственно кинематографически. Они видят “кадрами”. Больше того, обрезами кадров. И пишут монтажным листом. Одни видят монтажным листом. Другие излагают события. Третьи компонуют и образы по-кинематографически. У некоторых находим все эти черты вместе. Таков, например, Золя. Золя видит предметно. Он пишет людьми, окнами, тенями, температурами... Страницу Золя можно просто разнумеровать в монтажный лист и по частям раздать в подсобные цеха. Это — образ кадра для оператора. Это — эскиз для декоратора и костюмера. Это — световая выгородка для осветителя. Это — мизансцена для режиссера. Это — монтажная партитура для монтажера. И партитура звуков композитора-шумовика. (...) Злостный “золяизм”? Однако как за “золяизм” на меня ни точат зубы, я не перестану рекомендовать и... продолжать самому учиться искусству видеть всеми пятью чувствами. Ведь суровые осудители страдают одним дефектом — там, где у Золя синтетическое виденье — у них… комплексное. Но если первое дается в результате острейшей способности к дифференциации, второе представительствует методу... “огульности”. А этот метод характерен неуменьем отличать полезное и нужное, пусть уживающееся рядом с хотя бы даже вредным. Ничто не совершенно под луной... А тут, как на грех, Энгельс хвалит Бальзака и менее дружелюбно выразился о Золя. Но спрашивается, под углом зрения чего? “Человеческая комедия” дает самую замечательную реалистическую историю французского общества с 1816 по 1848 год. Даже в смысле экономических деталей она дает больше, чем все книги профессиональных историков. Наконец, Бальзак гениально исторически заклеймил уходящий социальный строй и сумел разглядеть и правдиво изобразить людей, идущих на смену ему, несмотря на то, что душой он был с первыми. Попробуйте заговорить о Золя, и ретивые цитатчики немедленно на вас замахиваются упомянутой цитатой, как пращой или катапультой...[ В оригинале цитата не приведена. Имеется в виду следующее место из письма Энгельса к М.Гаркнесс: “Бальзак, которого я считаю гораздо более крупным мастером реализма, чем всех Золя прошлого, настоящего и будущего...” (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 37, стр. 36)] Совершенно очевидно, что для полнокровного охвата социального этапа через деяния образов живых людей мы будем обращаться к Бальзаку в первую очередь, а не к Золя. И так же ясно, что социальный охват в живых образах первейшее, основное и важнейшее. Но это — еще не все. Остается еще метод воплощения. И это уже настолько ответственный “участок”, что все благополучия разрешения первого могут быть вчистую смыты неблагополучием второго. И тут-то уже в плане чисто кинематографического потребления и учебы на классиках встает нечто непредусмотренное и неожиданное. Социальная физиономия эпохи и физиономия социальной эпохи (образы людей) Бальзаком очерчены и созданы непревзойдённо. Но приемы изложения, приемы описания, приемы воплощения Бальзака пасуют перед... пленкой и еще больше перед метражом картины, т.е. перед лимитом протяженности кинокартины. И дело не в многотомности и многовесомости томов... (...) Бисер деталей описаний и паутина мелких черт, расписанных по мелким эпизодам, канва проходной (“пассажной”) эпизодики, ткань самого письма, свивающиеся к концу в полнокровный рельеф эпохи и людей, как животные ткани в полнокровный организм, — метод изложения Бальзака не выносит последнего киноиспытания — испытания метражом. Сославшись на Флобера (“Мадам Бовари”), еще превосходящего его филигранностью отделки и шитьем реалистического нюанса, мне удастся, я полагаю, окончательно обрисовать претензию, которую кино имеет против Бальзака. Кино — грубее. Плакатнее, если не обязательно лубочнее. Оно — скорее как микроскоп, где всякая “нюанса” кажется извержением и тончайшее трепетанье может быть загнано насмерть потертостью экземпляра картины, значащейся по прокатным гроссбухам пригодностью в сорок процентов. И вот внезапно, наоборот, по отношению к достоинствам Бальзака дефекты Золя по линии охвата образов людей или социальной схематизации и рационализации, подчас граничащей в упрощенчеством, на участке воплощения деталей их или оформленного изложения по линии кинематографической, оказываются — добродетелями. (...) Любопытная связь, предшественник тому, что делает литература на нынешнем этапе с кинематографом, запечатлелась когда-то контактом любопытнейшей связи литературы с живописью. Когда Гоголь вступал сквозь дружбу в творческое единоборство с Александром Ивановым, кино еще не родилось; и не было еще кинематографии, когда эта любопытнейшая связь не менее значительно проходила по парам Золя — Сезанн, Золя — Мане, Золя — импрессионисты. Импрессионизм как метод познавания конкретной действительности подлежит безоговорочному осуждению. Но метод импрессионизма в лаконике передачи частности, в плане получения зрителем ощущения целостного (если не его философского осмысления) — для зрительной кинокультуры оказывается блистательной школой. Кинематографу недоступна многотомная роскошь изложения. Кино живет лаконикой штриха. Как методом изложения того, что, сочетая штрих со штрихом, сбирается к концу картины в полнокровность охвата. Лаконика, как средство воплощения в кинематографе, пусть вынужденно, но решает все. Укажем не импрессионистов, а их учителей — японцев. У нас принято говорить, что “одна ласточка не делает весны”. Недооценка этого положения трагически сказалась бы на практике метеорологических станций. А между тем у Харунобу или Хокусаи одна ветка цветущей вишни и неотчетливый росчерк линии горизонта с намеком на склон Фудзи ввергает вас в полноту благоухания японской весны. Для вскрытия внутреннего облика Японии этого было бы недостаточно. Но штрих лаконики способен тем не менее на многое. И если упомянутая одинокая ласточка не делает метеорологическую весну, то нам самим же однажды удалось былую трагическую голодную мужицкую весну дать в трех кусках одной беременной бабы, впалых боков коровы и жалкой торчащей ветки (“Старое и новое”). Сюда же зачислить пенсне со шнурком, повисшее с орудийной башни “Потемкина”. Лаконика выразительного образа детали, вещи, человека. Лаконика увиденного ракурса, искусство pars pro toto [Часть вместо целого (лат.)] — вот в чем способен спорить даже с японцами “злодей” Золя. И вот чему, не переставая, способен учиться кинематографист у романиста. Лаконика — не схематизм. Вообще. И на этом участке в творчестве Золя. Пусть (у Золя) то, что в плане воплощения сверкает искусством pars pro toto, распространенное на характеристику характеров действующих лиц и сугубо на обрисовку соотношения социальных сил — перерастает в схематизм. Ведь на другом полюсе стоит Бальзак — непревзойденная рельефность образов и образа эпохи у которого перерастают в письмо такого типа, что оно неразложимо в кадры и не сматывается в ролик кадра. И почему бы нам не обучаться у Бальзака одному, а у Золя — другому? Апельсины и еловые шишки растут на разных деревах. И если нужна морковь, не ходишь же ее искать на мандариновом дереве или магнолии... К тому же с точки зрения полезности Золя для специфики кинозрительного воплощения — Золя ведь никогда не осуждался Энгельсом... Лаконика лаконикой. Но она знает еще и высшую свою форму проявления. Это когда она соприсутствует в образе и во всем регистре литературных форм. Тут страницу не расстрижешь непосредственно ножницами в съемочные планы и смену кадров. Тут дело “технически” сложнее, но насыщающее, может быть, еще более богато. Тут дело идет о творческом эквиваленте. О зрительном образе, эквивалентном (образу), не зрительно записанному автором. Я категорически против того, чтоб с писателя спрашивать зрительный образ. Речевой, звуковой, пластический, слуховой. По мне хотя бы вкусовой да обонятельный. Лишь бы образ. И чем доступнее сфера писателю, чем, вследствие этого, интенсивнее образ, тем лучше. Иногда расстановка слов по строке новеллы нам дороже, чем том изобразительных нагромождений. Снимая, например, Бабеля или ставя его на сцене, надо в первую очередь воспроизводить мизансценой расстав его слов. И целиком — их фактуру. Для кино это были бы ключи к монтажу и композиции кадра. Нам важна именно не зрительная запротоколированность писательского образа. Важен нам образ мышления автора и образность его мысли. Это — нужнейшее. И, в конце концов, если не уметь увидеть образность средствами своей области и ее возможностей, то незачем и в кино идти режиссером. Я давно где-то писал, что концепция всей “драмы на Тендре” в “Потемкине” определилась строчкой из чьих-то воспоминаний: “...в воздухе повисла мертвая тишина” после команды о брезенте. Гвоздя, чтобы ее вешать, не было. Ни сама тишина не помирала. Однако и эта очень скромно образно выражаемая строчка сумела переложиться в достаточно убедительный эквивалент набора деталей и действий из военно-морской практики. Незабываем Днепр из “Ивана” Довженко. Я думаю, что вполне конгениален Днепру в изложении его Гоголем. И не о “переводе” здесь речь. И тем не менее было бы увлекательнейшей темой проследить, как обороты структуры и мелодики гоголевского письма переливаются в изощренность образов кадра Довженко, перемежаясь с дремотностью скользящей по водам камеры или завивая берег быстрой панорамой поворота. “Не зашелохнет, не прогремит”, “глядишь и не знаешь, идет или не идет его...” [В рукописи строчка обрывается. Цитаты из Гоголя, приводимые, видимо, по памяти, неточны] Все усмотрено и конгениально схвачено камерой, чтобы слиться выводом в гоголевское вступление: “Чуден Днепр, когда тихо и плавно...” [В рукописи строчка обрывается. Цитаты из Гоголя, приводимые, видимо, по памяти, неточны] Днепр Довженко — не фотоснимки. Днепр Довженко — замечательнейшее “лирическое отступление”, какое знают учебники литературы, и захватывающий гимн, как видим мы его, восторгающиеся и рекой, и воспевшим ее поэтом, и отныне заснявшим ее режиссером. Образность. (...) Ее открыл “потемкинский” вскочивший каменный лев там, где до тех пор не шло дальше монтажных параллелизмов действий, иногда доходивших до образного единства. Бойня и “бойня” в “Стачке”. Может быть, наиболее резкий и невоздержанный пример, закрепившийся, однако, традицией нашего кино не меньше львов. Львы “Потемкина”. Если менее породистые матери и нанесли от них в кино немало эпигонных ублюдков, то не вина в том их долгогривых родителей. Так или иначе, и срывы убедительности образного представления в кино, я повторяю, диктуются тем самым, что и в литературе. С протоколизма слов без должного волнения и захвата перейти на поэтическую и образную речь совсем такая же нелепость по звучанию как у писателя, так и у нас. В обороте ли речи. Или в обороте сюжета. Без одесской лестницы вскочившие львы нелепость. На гребне романа “Нана” потрясающая сцена скачек, где победу и триумф кобылы “Нана”, не противляясь, обобщаешь в триумф над Парижем Нана — женщины. Сцена, возможная лишь как высшая точка кульминации реального нагромождения и напряжения эмоций на протяжении разгона глав романа к этой странице. Как жалко и плоско ныряет в притянутый за уши простой параллелизм финал “Эжена Ругона” [Имеется в виду роман “Его превосходительство Эжен Ругон”] в первом томе, где не на гребне раскатывающегося издалека пафоса, (а) “хладнокровно” надуманно выписываются уравнения без единого неизвестного: собачья свора, при факелах стремящаяся после придворной псовой охоты Наполеона Третьего разорвать оленя... И свора таких же алчных и голодных авантюристов придворной камарильи, пытающихся урвать кусок... (...) И ровно то же знает кино. Бой, фронт и борьба па бирже в “Конце Санкт-Петербурга” Пудовкина сливаются в поэтическое обобщение из простого временного соприсутствия. Пространственное соприсутствие идущей демонстрации и ледохода в “Матери” [“Мать” — фильм В. Пудовкина] на эти высоты не восходит недоучетом композиции, эмоциональной неразмещенностью и отсутствием выразительной необходимости. “Шли дождь и два студента” мне невольно вспомнилось в этом месте. Инкижинову с группой всадников из “Чингис-хана” [Фильм “Потомок Чингис-хана” В. Пудовкина] с трудом удается перескочить барьер, отделяющий табун и нагромождение копыт от вихря, все на своем пути сметающего. В “Арсенале” кони Довженко с легкостью берут водораздел от лошади до обобщения. Однако голой бабе в “Земле” не удался подобный пируэт в высоты “пантеизма” (куда любят локализировать Довженко), она осталась бытово и протокольно врезанной в серьезную сцену похорон, а потому стала фигурировать элементом непристойным. Так в “Октябре” повис наш меньшевик в одном кадре и арфы — в другом. С трудом, с трудом и умозрительно, насильно сводясь в образ “райских песен меньшевиков на 2-м съезде Советов”. Перекликаясь с где-то в другой картине снятым “делом в шляпе” в образе цилиндра с вложенным в нем “делом”. Диапазон примеров от достижений к поражениям, я думаю, достаточно рельефно обрисовывает, что здесь имеется в виду. II Золя и кино 1 (...) Я хочу предложить вам вот какую работу. Одним из лучших мастеров “переключения” различных понятий является Золя. У него поразительное умение “переключать” любое отвлеченное положение, отвлеченное понятие на конкретный реальный материал. Но так как не все его романы представляют одинаковый интерес, я выбрал из них двенадцать и попрошу вас, сгруппировавшись по двое, проработать каждому один из романов Золя. Предварительно я хочу разобрать, например, такую вещь, как любовная ситуация, первая встреча или первая любовь. Почти во всех романах Золя такой случай имеет место. Все романы Золя построены по тому признаку, что каждый роман исчерпывает какой-нибудь один материал. “Карьера Ругонов” исчерпывает обстановку провинциального города. “Проступок аббата Муре” построен на громадном запущенном парке, “Чрево Парижа” построен на одном центральном базаре, “Дамское счастье” — на универсальном магазине, “Человек-зверь” — на материале железной дороги и т.д. У Золя по этому признаку распадаются все романы. Он дотла исчерпывает одним романом какой-нибудь определенный материал. При таком количестве романов у него в каждом романе, несомненно, есть совпадающие ситуации. Интересно, чтобы вы разобрали каждый роман и установили, как, скажем, элементы первой любви материализуются в том или ином месте. Допустим, атмосфера чувственности, как она на каждом материале приложена; в “Земле” это происходит в условиях жатвы: на страшной жаре, в темпе жнущих людей, машин, животных и пыли. Все эти элементы поставлены на служение одной чувственной эротической задаче. В романе “Карьера Ругонов” условием для возникновения чувственной атмосферы является то, что молодой герой и молодая героиня вечером встречаются на кладбище. И эти жирные испарения кладбища, эта обстановка гниения приводит постепенно к эротической атмосфере. В “Западне” обстановкой, в которой развиваются эти отношения, является обстановка прачечной с горячим паром, с тяжелым воздухом и с атмосферой стираного и нестираного белья. На этой почве там происходит также одно из необходимых столкновений. Если мы возьмем “Чрево Парижа”, там обстановкой для романа был подвал колоссального парижского базара. Каменный сводчатый коридор. И на месте, где бьют птиц и щиплют их, на горе выщипанного пуха происходит попытка к изнасилованию. Если возьмем “Землю” — обстановкой будут амбары хлеба, мешки с мукой и все прочее. В “Жерминале” героиня в розовом пеньюаре на угле в угольном складе. В “Проступке аббата Муре” пьянящей обстановкой, создающей чувственную атмосферу, является запущенный сад с длинными растениями и неожиданными ароматами. Одним словом, в каждом из этих романов тема любви и разработка ее привязана к определенному материалу. Проанализировав таким образом, как та же ситуация разработана иа разном материале, мы можем собрать большой запас опыта о том, как какое-нибудь положение материализовать на том или ином материале, Скажем, когда нам пришлось снимать одесскую лестницу, встал вопрос о расстреле. Здесь на элементах бульвара нужно было вскрыть момент ужаса расстрела. В одной из первых редакций одним из ударных моментов был расстрел среди корзин цветов. Расстрел должен был произойти среди острых колючих корзин умирающих цветов, которые живут лишь один день. В них должен был реализоваться этот ужас, отдельные его психологические моменты. В том же “Потемкине” они строились на выборке траурных возможностей из натуральных элементов порта. Как раз Золя позволяет чрезвычайно заострить наблюдение и постигнуть технически, как эти самые вещи переводятся на данный частный материал. Я попрошу с каждым романом проделать следующее: проанализировать материал, на котором построен данный роман, установить, какой объем материала взят, и установить наиболее броские элементы реализации этого материала. Ну, например, возьмем “Человек-зверь” — там совершенно замечательно описаны дома, которые находятся около вокзала и около линии железной дороги. Эти особые, трясущиеся от движения поездов дома, закопченные и вечно в дыму, вечный беспокойный шум поездов, звонков и т.д. В “Западне” дан дом с дешевыми квартирами, дом с отдельными комнатами, дом коридорной системы, который характеризуется совершенно замечательно: тремя струйками краски, которые текут из его подъезда (где-то внутри этого дома имеется красильня). Причем на разных этапах развития действия эти струйки — разного цвета. 2 Первое задание. Установить тот облом [Так в стенограмме. Имеется в виду разрез материала] материала, на котором построена вещь, отметить наиболее яркие места в подаче этого материала и чем этот материал выявлен. Пояснение. Это вопрос чисто статистического порядка. На каком основании, на каких подпочвенных материалах данный роман построен? Это, так сказать, просто каталог. По этому вопросу будет просьба такого рода: на материале провинциального быта, фабрично-заводском или крестьянском проследить, в какой мере весь роман строится не только на одном материале, но и растет параллельно. Например, в “Дамском счастье” есть параллелизм: рядом с большим магазином есть второй. Затем в “Западне” есть прачечная и дом с дешевыми квартирами, комнатной системой и т.п., — там есть два материала, которые определяют этот параллелизм. Именно такие узлы материала, комплексы материала надо выяснить, и если их несколько, то проследить, в каком отношении они находятся, какие из них превалируют и в каких они взаимоотношениях, сплетениях даны. Например, проследить, для чего в “Западне” дана будуарная сторона? Имеет ли она какое-нибудь оттеняющее отношение к сцене в прачечной или нет? Тому, кому придется разбирать “Землю”, интересно коснуться вопроса (несколько, может быть, не на тему) о том, как смычка понималась во времена Золя?! Там есть очень любопытное изложение точки зрения на взаимоотношения крестьянства и рабочих, причем там положение о смычке, конечно, исключается, как совершенно немыслимое. Считается, что это две силы, которые должны пожрать друг друга, и на этом, кажется, и кончается роман. Здесь нашей задачей является выяснить, в какой мере там город ставится в параллель или противопоставлен деревне. Как это делаем мы и как этот вопрос решается там? Второе задание. Особенности ситуаций, вытекающие из данного материала . С места. Уточните разницу между комплексами материала и ситуациями. Пояснение. Например, в “Человеке-звере” налетание поезда на подводу с гранитом является примером того, как используется материал специфически поездной для выработки такой ситуации. Это пример грубый. В “Нана” есть гораздо более изысканные ситуации, которые рождаются из того, что взят именно этот материал. В “Дамском счастье” есть характерный пример, заключающийся в рассуждении о воровстве в крупном магазине, где попадаются дамы, крадущие кружева и наматывающие их на себя. Это тоже ситуация, которая возникает именно в этих условиях. Когда вы получаете материал для сценария, очень важно находить ситуацию, специфическую для того или иного места, для данного материала. Не пересаживать на него нейтральный адюльтер, а стараться углубляться в этот материал, в порядке “подслушивания” и вытаскивания тех возможностей, которые есть в его особенностях. С места. Скажите — особенностью ситуации, возникающей на данном материале, в “Чреве Парижа” не будет ли то, что голодающий человек попадает на базар, где масса прекрасных вкусных вещей, причем этого получить он никак не может? Ответ. Да. Причем здесь надо отметить, кто кого больше в этом случае кормит? Пущен ли этот человек на базар с целью выявить плотоядность и сытость базара или обратная комбинация? Интересно проследить, в какую сторону перевес. Нужен ли этот человек? Нужна ли эта ситуация? Или она является средством обнаружения этого базара через человека? Это нас сталкивает с определенным приемом показа. Показом через судьбу какого-то человека той обстановки, которая вам нужна, или его самого, причем у Золя как раз перевес именно в эту сторону — через кусок действительности. Нам важно разобрать, когда у него вводится подсобный элемент сюжета, для того чтобы с вящей убедительностью показать материал. Например, в “Нана” действие начинается с театра. Мне кажется, что весь театр дан там лишь для того, чтобы подать эту девушку на его макушке. Вспомните описание первого спектакля, ложи и все прочее дано к тому, чтобы рельефнее выразить фигуру Нана, потому что она сама играет такую же роль основного материала, как в “Чреве Парижа” — базар. Нана взята таким же крупным планом, как и базар. Материал, который имеется в других романах, менее богат попутными экспонатами. Надо отметить, например, как работает театр на выявление фигуры Нана вначале. Это будет касаться тех, кто этим будет заниматься, и противопоставьте свой разбор разбору товарищей, которые работают над “Чревом Парижа”. Третье задание. Отметить, как реализована эротика на данном материале. С места. Я читаю “Разгром”. Либо женщина там так тонко подана, что ее учуять трудно, или у меня такое представление, что солдаты так устали и так голодны, что у них к женщине нет никакого отношения? Пояснение. В “Разгроме” это специфическая, если хотите, эротическая чувственность в условиях военной обстановки, В “Аббате Муре” наоборот — человек на солнце, в душном, одурманивающем саду изо дня в день. Там совершенно другая атмосфера и совершенно другое его состояние. Та же самая тема, но с характерным контрастом, потому что в конце концов Муре живет исключительно элементами эротики, из-за той обстановки, в которую он поставлен. С места. Ведь нас интересует не то, как даны эротические места у Золя в плане литературного описания и образов, а в том плане, как он материализует эту ситуацию? Пояснение. Конечно, главное — из чего слагается кульминационный момент чувственности, когда он касается эротических сцен? Чем создается напряженность этой сцены? На каких деталях он дает это ощущение? Как он их трактует? С места. Вопрос только в отношении деталей? Пояснение. Ну, например, такая вещь. Скажем, возьмите пудовкинский момент с капаньем воды [Имеется в виду кадр из фильма В. Пудовкина “Мать”. Крупный план медленно падающих капель из крана передавал ощущение атмосферы в трагический момент — смерть отца Павла]. Вот вам, так сказать, момент реализации настроения, которое в данном случае дано через материал комнаты. У него капает вода, и он этим ограничивается; а возьмите сцену в “Земле” Золя, когда во время жатвы кидается парень на девушку. Как подведен этот момент, как происходит накопление деталей из описания жары, труда машин, работающих и всего прочего и как это переводится затем в момент заострения этого на эротической теме. Кто читает “Западню”, тот знает, что там атмосфера прачечной, этого теплого воздуха и несвежего белья, — это детали, которые так же, как теплый пух в подвалах “Чрева Парижа”, создают атмосферу ситуации. Просто-напросто интересно, как и в каком случае писатель пользуется этим материалом, причем как раз в эротических сценах наиболее заострены эти приемы. Он все время пользуется этими вещами, и в очень сильных сценах это выведено весьма рельефно и обстоятельно. Например, в “Человеке-звере” одна эротика. Там крупным планом поданы горло и затылок, которые приводят в звериное состояние. Этот крупный план идет сквозь весь роман. Это вещь, которая совершенно определенно запоминается. (…) Четвертое задание. Способ передачи животного аромата, который свойствен всем романам Золя. Я хочу сделать маленькую оговорку, как раз по “Творчеству”. Я обращаю внимание на фигуру женщины, с которой он пишет, и фигуру этого застывшего голодного ребенка. Это нужно будет поставить рядом, как два материала, очень любопытные. Дальше, там есть еще скульптурная мастерская — холодная глина, острый запах, мокрота, осколки. Все это дано очень правильно. Пояснение. Что касается этого задания, то оно должно охватить вопросы изложения вообще, не специально в этой теме для всех, а по отдельным разделам. Например, симфония ароматов сыра. Сюда же относится регистрация крупным планом созданных впечатлений. Пятое задание. Чем создается атмосфера того или иного места? Это задание, которое стоит довольно близко к предыдущему, тут особенного разграничения можно между ними и не делать. Шестое задание. Как делаются сложные экстатические построения? То есть найти места наибольшего пафоса (перевод каждого материала в патетическое изложение). Нам надо проследить, как материал вздыбливается с чисто натуралистического, протокольного, топографического изложения, с которого Золя всегда начинает? Как он начинает раздвигаться и каким путем доходит до океана белья в магазине или океана нечистот, которые выливаются удобрением на землю? Седьмое задание. Выявить наиболее заостренные детали, то есть крупные планы. Здесь интересно использовать повторность крупных планов. Скажем, такая вещь, как в “Человеке-звере”, когда появляется это горло и т.д. В другом романе, например в “Западне”, — там струйка краски, то черная, то красная, то синяя. Это повторение, отстукивание часов судьбы, вроде гриффитской “колыбели веков” [Речь идет о фильме Д.Гриффита “Нетерпимость”, в котором несколько раз повторяется связанный с действием не событийно, а смыслово кадр — женщина, качающая колыбель]. Или просто группа особо крупных планов необычного порядка, когда мы просто сказали бы, что Золя внезапно снимает крупный план с неожиданной точки. Восьмое задание. Темповые построения, которые можно переложить в чистый монтажный лист. Во многих случаях у Золя есть построение чисто темпового порядка, хотя на темповое построение лучше брать детективные романы. У него есть, например, в “Нана” скачки, есть и другие моменты, например — задержание, сравнения, нагнетания. Как здесь строится материал, как подается в этих случаях? Девятое задание. Какими приемами сделана характеристика действующих лиц? Под этим вопросом надо понимать, как характер обнаруживается — через вещи, через действия, через обстановку. Какие вообще у Золя есть приемы для подачи действующих лиц? Скажем, в “Нетерпимости” Гриффита показан глава шайки мушкетеров всего один раз, а потом дана обстановка его комнаты: картинки порнографического характера и различные фигуры обнаженных женщин. Одной панорамой его комнаты с сочетанием внешней маски, которую он имеет, ему уже выдан паспорт на социальную неблагонадежность. У Золя есть два противоположных способа подачи действующих лиц. Нам важно проследить, как это сделано. У него есть эти два способа, а нет ли у него еще других приемов характеристики? Нет ли других способов?.. (...) III (Трагическое и комическое, их воплощение в сюжете) Отдельные проблемы искусства между собой сходятся. В “Ричарде III” Шекспира необычайно выразительно объяснение в любви. Посмотрим, как эта ситуация может перерастать в другие ситуации, то есть что будет получаться, когда элементы невероятности, необычности станут сглаживаться или усиливаться. “Ричард III” — это произведение, стоящее где-то на грани гиперболы. Что делать дальше, чтобы трагедия, ее ситуации выходили еще дальше за пределы здравого смысла, а что надо делать для того, чтобы сгладить остроту драмы? Что напоминает ситуация над трупом убитого, когда Ричард III объясняется в любви даме? Конечно, прежде всего ситуацию Дон Жуана и донны Анны. Меня давно интересовала связь этой сцены из “Ричарда III” с легендами о Дон Жуане. Интересно, что и другие сцены “Ричарда III” перекликаются с Дон Жуаном. Историкам литературы предоставляется изощряться по этому поводу и восстанавливать связи более глубокие и находить соответствующие мифологические аналогии, предпосылки. В чем основная драматургическая разница сходных сцен из “Ричарда III” и “Дон Жуана”? Отношение действующих лиц психологически отличается. Героиня в “Дон Жуане” не знает, что он убил ее отца, и лишь в разгар объяснения в любви узнает это. Иное положение в “Ричарде III”. Здесь с самого начала леди Анна знает, что Ричард — убийца. Но наперекор этому она переламывает свое настроение. Отсюда кажущаяся убедительность сцены из “Дон Жуана” и меньшая убедительность сцены из “Ричарда III”. Стало быть, здесь разница между аналогичными ситуациями состоит в том, что в “Ричарде III” показан перелом из одного чувства в прямо противоположное. Причем в очень заостренной форме. Этот перелом с начала до конца происходит перед зрителем. Здесь мы видим безусловное стилистическое указание на страстность, с которой эта сцена должна вестись, на ее внутренний градус накала. Чтобы переброска чувства в свою противоположность звучала убедительно, предстоит выполнить невероятно сложное по интенсивности и максимальное по напряжению задание. Если мы нарисуем в своем воображении ступеньки напряжения “Дон Жуана” и “Ричарда”, то увидим, что напряженность в трагедии Шекспира на ступеньку выше. Можно ли отгадать третью ступеньку за Ричардом? Можно ли Ричарда загнать в напряжении чувства еще дальше? Есть произведение весьма почтенного автора, чья ситуация формулируется в нескольких словах: человек убил мужа, объяснился в любви жене, и жена согласилась жить с ним. Человек убивает мужа и женится на жене убитого, но где это еще более страшно, чем в “Ричарде III”? Это “Эдип”. Это следующий шаг по психологической интенсивности за “Ричардом III”. Эдип страшнее Ричарда тем, что он убивает собственного отца и женится на собственной матери, то есть аналогичная ситуация взята в другом градусе. Это следующий разряд по линии ужасов. В мировой литературе существует и комическая комбинация той же самой темы. Достаточно вспомнить “Сатирикон” Петрония, фрагмент “Эфесская матрона”. Это одна из классических новелл. Значит, есть разные градусы одной и той же ситуации, есть вариации на одну и ту же тему с различной степенью упора. Возникает очень любопытный вопрос: не глубже ли здесь связь между всеми тремя сюжетами, чем может показаться на первый взгляд? Не есть ли Ричард III и в дальнейшем Дон Жуан видоизменение ситуации Эдипа? Если мы посмотрим на “Ричарда III”, мы, несомненно, обнаружим в этой ситуации связь с древней практикой человечества. Художник Хогарт в своем эстетическом сочинении “Анализ красоты” пишет о том, что в художественном произведении есть сквозная художественная закономерность. На этой закономерности построено все, эта закономерность повторяется в любой детали, в любой мелочи. Хоггарт пишет, что увлекательность, захватывающее впечатление от настоящего художественного произведения должно быть отнесено к пережитку охотничьей стадии сознания. Удовлетворение, получаемое сознанием и чувством человека, который бежит за сквозной закономерностью произведения искусства, аналогично тому ощущению, что испытывает стопроцентный англичанин, охотящийся за лисицей. Я привел парадоксальный пример и лично не считаю, что завлекающий эффект повторов и закономерностей в искусстве базируется на пережитке охотничьего периода в человеческом сознании. Но самая возможность такой мысли совершенно понятна. Она дает ощущение того, что в самом явлении искусства состояние предыдущего, прошлого опыта играет очень большую роль. Читая сцены объяснения Ричарда III и Анны, мы не возмущаемся, наоборот, каждый из нас чувствует, что если бы он был на месте Анны, то поступил бы так же, как она. Дело здесь в том, что Ричард показан Шекспиром не в отрицательном плане, а как человек страшной, гигантской силы духа. По существу мы имеем здесь перелицованную ситуацию древней практики человеческого общества, того периода, когда девушки из соседних племен доставались путем умыкания, кровавых жертв похищения, которые впоследствии были заменены калымом, приданым. Приданое в какой-то форме сохраняется и сейчас. Сама подоплека ситуации основывается на очень древней практике. Когда вдумываешься в эти ощущения, понимаешь, что достижение такого же звучания в современном произведении возможно в том случае, когда положение внутри драмы перекликается с каким-то прежде имевшим место положением, облокачивается на древность. Никогда не получится захватывающего произведения, если оно не будет создаваться целиком всем организмом художника, всеми его мыслями и чувствами. Темой произведения нужно зажечься, нужно втянуть в разработку темы и самые высшие, и наиболее глубокие слои сознания. Только когда творческим захватом пронизаны все слои мозга художника вплоть до животно-эмоциональных, произведение искусства забирает читателя по-настоящему. (Полижанризм) Полижанризм надо понимать очень относительно. Он может присутствовать внутри ткани произведения; полижанризм может врастать внутрь эпизодов о целью сохранения их единства. Наконец, полижанризм может рвать отдельные эпизоды, и тогда получится не картина, а сюита отдельных кадров. Есть также бессознательный полижанризм, он самим мастером не только не осознается, но и не чувствуется. Тогда полижанризм идет поперек характера сцены. Сцены получаются просто-напросто недопрочувствованные. Если автор заимствует прием другого жанра, другой поэтики совершенно не к месту — это как если бы я во время лекции ни с того ни с сего начал петь оперным речитативом. В снятии пафоса произведения есть элементы полижанризма. С одной стороны, при этом идет наворачивание патетико-ритмического построения, потом берется иронически-бытовой план, и оба этих плана — патетический и бытовой — ставятся в такие взаимоотношения, что один снимает другой. Пафос произведения исчезает. Что происходит в новеллах? Они часто пишутся разным жанром, но если вы соберете их в большое произведение, некоторые сцены такого произведения приобретут характер новелл. Возьмите “Пиквикский клуб” — там есть вставные новеллы. Из этих вставных новелл в конце концов получается целостный роман, хотя и в этом целостном романе сохраняется нюансировка, По тому же принципу построена “Тысяча и одна ночь”. Это ранняя форма литературы. Потом приходят новые формы, но характеристики действия и героев долгое время остаются на уровне старых форм. Мы знаем, что когда в романах появляется новый персонаж, в действии, в языке, в стиле что-то меняется. В современной литературе каждому элементу произведения следует находить отдельную интонацию. А было время, когда часть интонации являлась уровнем стиля своей эпохи. Когда мы в моменты наивысшего поэтического напряжения переходим к образной речи, мы опираемся на тот смысловой разряд, когда говорить можно только образно. Смысл моих выводов таков: можно говорить метафорической речью, когда другой речи еще нет. Возьмем, например, китайскую философию. Она вся написана, как стихи, как поэтические описания. Очень хорошо в этом отношении говорит Гейне об индусах. Я не помню наизусть цитаты. Могу сказать только, что немецкий поэт считает большие поэмы индусов историческими хрониками, у которых утерян ключ к расшифровке фактов. Эти поэмы настолько цветисто изложены, что возникает желание все цветки завернуть обратно. Когда люди говорят не “солнце”, а “пылающий шар, который утром поднимается вверх”, они говорят так не в порядке манеры, а потому, что у них нет соответствующего обозначения предмета, в данном случае солнца. Легко проследить этот факт на явлении солнца, но ведь есть и масса других явлений, которые изложены в такой же форме, а что они собой обозначают — неизвестно. Связь утеряна. Гейне замечательно писал об этом. Когда вам нужно использовать поэтическую метафору, образ и т.д., вы обращаетесь к разрядам древнего искусства поэзии. Изучая историю искусства, мы видим, что эпоха, в которой мышление было на уровне нынешних поэтических символов, вот так символически, образно, через метафору и выражала себя в произведениях литературы. Достаточно вспомнить Фирдоуси, осетинскую поэзию. То же самое можно сказать о кавказских тостах, о речи тамады. (Гротеск) На чем строится обаяние гротеска? Оно строится на несмыкании рядов. Каков основной мотив гротеска? Сочетание реальности и фантастики, совмещение двух противоположных планов. Взять гофмановский “Золотой горшок”. Героиня там — торговка яблоками. Но, между прочим, она еще и ведьма. Линдгорст в “Золотом горшке” — старик архивариус, а по ночам он — огненная саламандра. Гофмановские метаморфозы происходят с героями не в порядке нормального перевоплощения. Линдгорст, когда он — архивариус, носит халат с намеком на то, что он — огненная саламандра. Когда Линдгорст превращается в огненную саламандру, на его одежде остаются следы профессии архивариуса. Эти элементы искусственного сведения фантастики и реальности и создают особую специфику гротеска. Несведение планов, отсутствие синтеза и есть признак гротеска. Элементы, которые полагается слить, синтезировать, в гротеске присутствуют, не сплавляясь воедино. Если бы эти элементы соединились, мы имели бы другой строй произведения, не гротеск. На примере из Гофмана совершенно отчетливо видно гротескное использование фантастики и реальности. Материальный план и план нематериальный присутствуют здесь не как единство, которое поворачивается то одной, то другой стороной, а, наоборот, налицо залезание одного плана в другой и подчеркнутое столкновение реального и нереального. Это и отличает гротеск. Мы знаем, что единство материального и нематериального присутствует в природе, существует в ней. Это единство не гротескно. Но когда материальный и нематериальный элементы искусственно отделены друг от друга, а потом нарочно поставлены в стык, врезаны друг в друга в порядке столкновения, то возникает эффект, специфичный для гротеска. Здесь различие Гоголя и Гофмана: Гофман бы всунул “Нос” в “Вечера на хуторе”, а Гоголь распределяет свои произведения на фантастические, как сделан до известной степени “Нос”, и бытовые. В “Мертвых душах” элементов, которые есть в “Петербургских повестях”, нет. А Гофман два эти плана сводит. Это основное их различие по линии гротеска. Возьмите Собакевича. Схема этого характера абсолютно возможна, собрана из отдельных типовых черт, но степень обработанности, которую ей придает Гоголь, в Собакевиче такая, что с академического издания сочинений Гоголя он сойти не может и не может затеряться на улице среди других людей. (Детектив) Чем хорош детектив? Тем, что это наиболее действенный жанр литературы. От него нельзя оторваться. Он построен такими средствами и приемами, которые максимально приковывают человека к чтению. Детектив — самое сильнодействующее средство, самое очищенное, отточенное построение в ряде прочих литератур. Это тот жанр, где средства воздействия обнажены до предела. Обычно тематический, познавательный уровень детектива очень невысок. Идейного захвата в детективе зачастую не бывает никакого. На протяжении истории кинематографа неоднократно пробовали уложить в традиционные детективные формы материал большевистского подполья. Ничего не выходит. Это пробовали делать и в 20-х годах, и в 30-х, но получилось не смыкание рядов, а почти голый конструктивизм, ибо в несерьезную форму втискивалось глубокое, серьезное содержание. Детектив — наиболее обнаженная форма основного лозунга буржуазного общества о собственности. Вся история детектива и идет вокруг борьбы за собственность. В этом плане видоизменения детективного материала очень интересны. Например, начало XIX века, совпадающее с развитием, ростом буржуазии, героем выдвигает кого? Авантюриста, преступника — графа Монте-Кристо, Рокамболя, то есть тех героев, которые связаны с известным романтическим протестом и поэтому благородны. Затем с середины или со второй половины XIX века кто героем становится? Сыщик, охраняющий имущество и вылавливающий бандитов, которые смеют посягать на собственность. Здесь видоизменен на протяжении XIX века центр тяжести, и это очень интересно. Так или иначе, детективная литература не только по содержанию собственническая, но и по своим литературным задачам она — средство максимального выколачивания денег, то есть жажды большого тиража. Отбор средств воздействия в детективе идет поэтому под знаком франка и доллара. Наиболее эффективный роман будет иметь наибольший тираж, будет приносить наибольшую прибыль. Так что под этим денежным нажимом и происходит абсолютная очистка приемов. Все они завинчиваются до обнаженности. Очень полезно знать такие приемы, чтобы сразу разглядеть сюжетную схему. В детективе есть любопытные вещи, когда структура этого жанра начинает обрастать высококачественным литературным материалом. Кто из писателей? Достоевский. Почти каждая вещь Достоевского — типичный уголовный роман с сыском, с чем хотите. “Преступление и наказание”, “Братья Карамазовы” — по схеме типичные уголовные романы. По сюжетному ходу, по сюжетным заданиям здесь взяты максимально действенные схемы, причем очень глубинного порядка — в “Карамазовых” — убийство родителей, — и посажены на абсолютно верно воздействующий материал. Поэтому читать такой материал и рассматривать его в сравнительном анализе, смотреть, как это сделано, чрезвычайно интересно. Если вы столкнете при анализе десяток романов одной группы и десяток романов другой, то всегда найдете механику абсолютных средств воздействия. Вы обнаружите ключевые моменты, из которых совершенно свободно вытекает действие. Самое интересное то, что детективный роман связан с очень древним материалом. Он действует на чрезвычайно старом и даже очень сниженном комплексе. Если сравнить некоторые тематические моменты между детективным романом и мифологией, эпосом, то можно без труда заметить, что происходит пересадка целого ряда представлений религиозно-мифологической литературы в бульварную. Возьмем любимейшую ситуацию детектива. Человек умер и, между прочим, не совсем умер, он воскресает. То есть казалось, что герой умер, а на самом деле он не умер, а продолжал действовать. Это тема, на которой религия спекулировала в течение многих тысяч лет. Достаточно вспомнить Рокамболя, “Клуб червонного валета”, историю с милордом Андре, которого никто не видит, который скрывается от всех и обладает буквально всеми чертами, которыми раньше обладал господь бог. Он вездесущ, всеведущ и всемогущ. Милорд Андре из Лондона управляет Индией, Австралией, во всех концах мира у него есть связи, то есть перед нами буквально сколок с того образца всемогущего бога, который увлекал людей в течение многих столетий. Запомните, что нужно идти в разбивке сцены не ползучим путем — от первого шага и дальше, и дальше, до конца, а нужно всегда выбирать опорные точки, которые предстоит решать. Нужно всегда знать станции, к которым вы держите путь. У Эдгара По, который, как известно, является родоначальником детективного жанра в литературе, есть классическое высказывание на этот счет. “Убийство на улице Морг” По — одно из первых детективных произведений. Еще более интересно “Похищенное письмо”, оно сделано ярче и любопытнее. Новелла По необычна тем, что там очень ловко сделано прятание письма. Оно оставлено на самом видном месте. Конан Дойль появился значительно позже. У Эдгара По первые классические формулы детектива. Все остальные вещи этого жанра идут от По. Э.По строит сюжет очень интересно и является родоначальником жанра наиболее сложно построенного сюжета. В теоретической статье о том, как писать стихи, рассказы и т.д., По говорит, что всякий рассказ надо писать с конца, то есть нужно установить себе совершенно точную композицию, куда рассказ приводит, и строить сюжет обратно к завязке. Конечно, это некоторый перегиб. Нужно строить не обязательно совсем с конца, но нужно строить, я бы сказал, одновременно и с начала, и с конца, и с учетом срединных положений. Тогда у вас будет действительно правильное соотношение всех отдельных частей. Существует высказывание, по-моему, Талейрана, о том, что никогда не следует высказывать первой мысли, потому что она всегда соответствует действительности и всегда правдива. Для деятельности Тайлерана это и было правильно. Ему не следовало никогда высказывать первой мысли; у Талейрана была такая деятельность, при которой высказывание первой мысли неподходящее качество. Другое дело художник. Для художника всегда важно закрепить первое ощущение, первую мысль, потому что она всегда отвечает непосредственному движению на то, что ему предложено. Если вы читали детективные романы, скажем о Шерлоке Холмсе, какой там основной конфликт? Между кем и кем? Между Ватсоном и Шерлоком Холмсом. Ватсон есть представитель какого течения? Все улики показывают на этого человека, значит, он убил. А какова позиция Шерлока Холмса? Все улики показывают на такого-то человека, значит убил не он. Ватсон и Скотланд Ярд всегда работают по линии логической прямой. Шерлок Холмс работает не на логике, а на диалектике. Вы сейчас все в положении Ватсонов, потому что воспринимаете из разрешения сцены только самое простое, внешнее, не принимая во внимание привходящие обстоятельства, в частности восприятие зрителя. Если в жизни человеку нужно выйти в дверь, то он это и делает. А на сцене это не проходит. На сцене нужно построить дело так, чтобы он предварительно подумал и потом решился уйти. Вот тогда будет видно, что он ушел. По формальной логике на сцене не построить удобочитаемое движение. Приходится строить на диалектике, на отрицании отрицания. (Шекспир) Оказывается, у Шекспира по каждой пьесе свой набор образности. Если это строка из “Ромео и Джульетты”, то вы образа из “Короля Джона” не найдете. Там свои образы. Интересно, что в “Ричарде III”, который в первую очередь занимается проблемой династического порядка — он всех своих родственников перебивает, — драма происходит на сучках генеалогического дерева. Если вы посмотрите и “Ричарда III” и “Генриха VI”, который ему предшествует хронологически, — все эти пьесы строятся на одной языковой образности. И ведущая образность — это дерево, сады, произрастание, ветви и все прочее, то есть элементы генеалогического дерева служат все время для метафор, для сравнения, для образа. В “Ромео и Джульетте” все построено на световой образности, на свете солнца, на лучах. Там каждое сравнение, каждая метафора обязательно из круга световых представлений. А в “Ричарде III”, что я и хочу подчеркнуть, проблемы роста, отсекания ветвей, переплетение, зарастание сада дикими побегами, удушение одного растения другим — это тот комплекс образных метафор, которыми Шекспир все время пользуется. Макбет, как образ человека, почти неотделим от леди Макбет, потому что они вместе и оба зависимы от комплекса обстоятельств. Когда мы говорим: Лир, Ричард, Отелло, то перед нами отдельные образы, а когда мы вспоминаем Макбета, у нас возникает комплексное ощущение. Трактовка образа Макбета блестяще дана Шекспиром еще в экспозиции трагедии: стоит воспомнить шабаш ведьм и само появление героя. В “Макбете” большую роль в развитии сюжета играет рок. “Макбет” — роковое заплетение в трагическую историю, в драме Шекспира есть даже элементы ужаса — змеи, трагедийная сторона там вообще очень отчетлива. Ричард III в противоположность Макбету — обнаженная личная деятельность. По существу все свои комбинации, все расчеты интригана Ричард строит, как Остап Бендер. Не случайно “Ричард III” начинается с монолога. Он предопределяет весь ход драмы. Макбет ощущается не как отдельный образ, индивидуализированный и неповторимый, он подается роковым комплексом всей последующей истории. И этот замысел Шекспира отражается в начальном построении трагедии. Помните, там наступает лес и говорится, что Макбета убьет человек, не рожденный женщиной. Под таким знаком, символом грядущей обреченности героя развертывается экспозиция трагедии. В “Ричарде III” тоже достаточно чертовщины. К герою приходят призраки, беседуют с ним. Но эта чертовщина иная, чем в “Макбете”. Там призраки реальные. Там игра на метафоре — лес движется на Макбета, человек, не рожденный женщиной, должен его убить. Каждый символ раскрывается в “Макбете” как нечто реальное. В “Ричарде” призраки — голос совести героя, они абстрагированы от его характера и поступков. Здесь мы имеем налицо метод ложной метафоры. Такой метод популяризируется в детективных романах. В “Призраке Большой Парижской Оперы” Гастона Леру все построено на этой ложной метафоре. В романе присутствует ряд странных описаний. Когда героя ведут по галерее театра, то ему дается инструкция — держать руку перед лицом. Без всяких объяснений. Создается впечатление, что здесь имеет место какое-то ритуальное указание. А потом дело раскрывается очень просто — героям казалось, что им с минуты на минуту накинут петлю на шею, и если они будут ходить, держа руку перед лицом, то петля накинется на руку и человека нельзя будет задушить... У Гастона Леру есть в этом романе и рассказ о страшном лице, которое без тела движется по коридорам оперы. Потом раскрывается секрет. Оказывается, что страшное лицо — это старик, который ловит крыс и у которого фонарь освещает только физиономию. Как видите, все элементы романа опущены во мрак тайны, а потом оказывается, что само действие чрезвычайно естественно. Если вы возьмете современный роман “Убитые драконом” [Роман американского писателя С. Ван-Дайна (псевдоним Уилларда X. Райта) “Dragon Murder Case” (1933)], то в нем рассказывается о том, как люди ныряют в бассейн и оттуда не возвращаются. Она гибнут во время купания. Когда вытаскивают труп из бассейна, то всегда находят на нем следы, напоминающие следы когтей дракона. Когда выпускают воду из этого бассейна, то в грязи находят следы допотопных лап. Строятся страшные предположения. А потом оказывается, что внизу бассейна сидит человек в водолазном костюме и крючком убивает ныряющих, на ногах у него перчатки. Действие монтируется, как таинственная история о драконе, пожирающем людей. Разгадка событий — предельно проста. Элементы подобного построения есть и у Шекспира в “Макбете”. Здесь работает двусмысленность метафоры, то есть, с одной стороны, невероятность, тайна, а с другой — простейший факт. То же самое явление обнаруживается в начале “Ромео и Джульетты”, в сцене драки. Это совершенно отчетливо выраженный лейтмотив, так как все последующие события развертываются в направлении схватки, столкновения двух враждебных сил. Но может быть и обратное построение на том же самом сюжетном материале. Если вся вещь основана, например, на распре, то начинается пьеса или роман не с распри, а, наоборот, с показа чрезвычайно дружественных отношений. Но в конечном итоге композиционный результат тот же. Действующие лица растут с двух сторон: с одной стороны — то, что задается автором, с другой — то, что возникает из самого действия и потом снова освещает характер. Что есть в произведении? Есть перечень действующих лиц и написано: первый убийца, второй убийца и т.д. Скажем, “Макбет”. Помните сцену убийства Банко? Если взять список действующих лиц, там характеров убийц нет. Там просто-напросто написано: первый, второй, третий. Никаких данных нет, роли почти нет, все решается в действии. Можно решить просто. Сделать одного басом, другого дискантом, но это будет немотивированная придуманность. Вот вам чисто умозрительное заключение, которое когда-то было сделано мною на этот счет. Я писал, кажется, в 1921 году вместе с Сергеем Юткевичем декорации для “Макбета”. Был такой Дом Поленова на Бульварном кольце, и в доме режиссер Тихонович, у которого мы работали. Я немного почитал литературу вокруг “Макбета”. Меня поразило одно обстоятельство, — что в сцене убийства три убийцы, а на докладе у Макбета только двое. Есть разница в количестве действующих лиц. Я подумал и решил, что надо сделать так, чтобы третий персонаж во время убийства Банко был сам Макбет. Потом приходят к нему же с докладом двое. Вот вам типичное головное построение, механически сделанное за своим столом. Тихонович пришел тогда в ужас, и, конечно, мой замысел не проник на сцену. Но как вы представляете, это было бы интересно? Макбет стоит во время убийства Банко в стороне, закрыв лицо, и наблюдает, а затем как ни в чем не бывало принимает доклад о том, что произошло. У Шекспира, у которого единство государства в поэтическом обороте речи соединяется с образом тела, трагедия, построенная на раздроблении государства, строится на каком образе? Сплошь на мучениях, на раздирании тела, выворачивании рук, раздирании груди, вырывании глаз, — вы помните, вырывание глаз и растаптывание их ногами введено даже в действие, а не только в речь. Из всех трагедий Шекспира наиболее нечеловеческая, в смысле обращения с человеческим телом, как раз “Король Лир”. Радлов когда-то писал об обратимости концов трагедий Шекспира, связывая финалы великого английского драматурга с неожиданными развязками О’Генри. Радлов делал большую ошибку. У Шекспира оборот темы в конце всегда предусмотрен противоречивостью хода. Ход действия идет у него в своем развитии по крылу одного противоречия, а к концу перекатывается на другое крыло. У O’Генри построение новелл всегда механически противоположное. Концовка у него вытекает не из противоречивости темы, а из взятой как контраст ситуации. И достаточно просмотреть несколько новелл О’Генри и увидеть этот прием, чтобы убедиться в его однообразии. О’Генри очень неожидан и увлекателен в трех новеллах, а в четвертой вы заранее знаете, что случится. Противоречия в пьесах Шекспира всегда вытекают из внутренних элементов произведения. Вспомним отношение Глостера в “Короле Лире” к одному сыну и к другому. Несмотря на резкость перехода, поведение героя связано со всем ходом драмы и поэтому внутренне оправдано. На этот счет гениальную фразу сказал Гегель: Глостеру нужно было ослепнуть, чтобы прозреть. Таким образом, предпосылки к неожиданному концу произведения должны быть заложены в самой структуре его развития. Текст дается по изданию: “Вопросы литературы”, 1968, N 1, 91-112