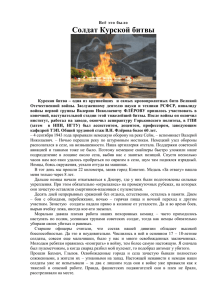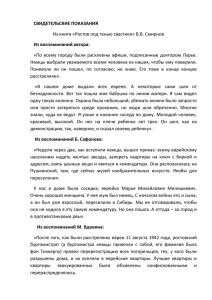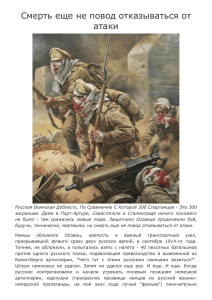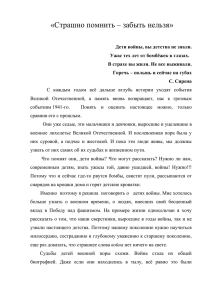Дневник трагедии Киева
реклама
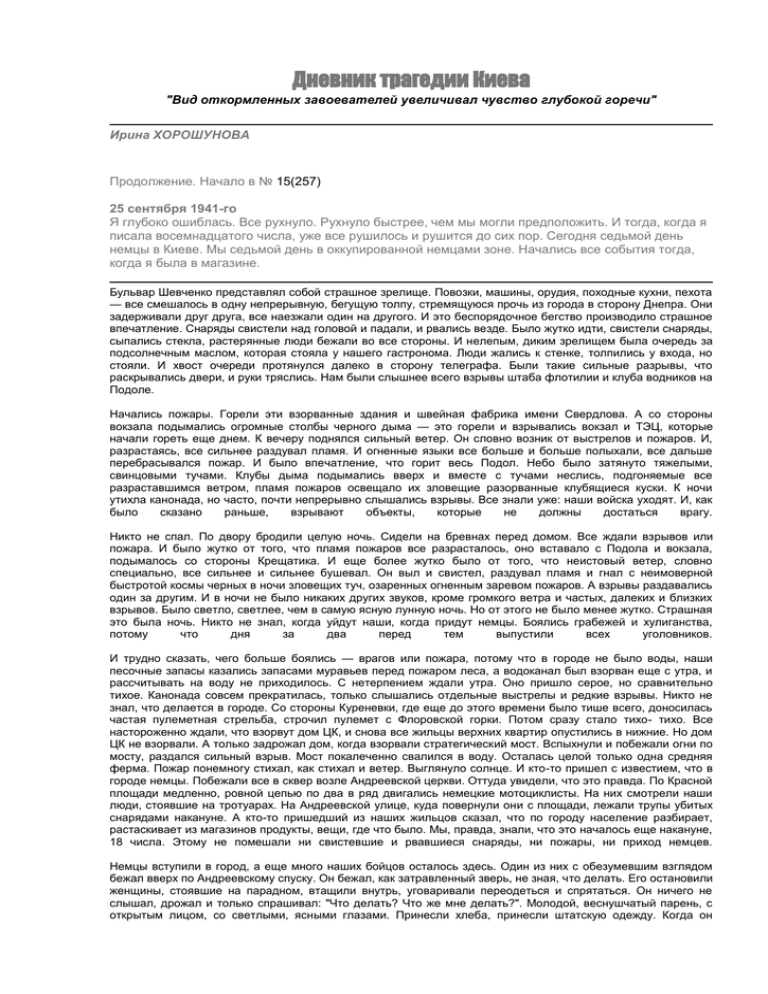
Дневник трагедии Киева "Вид откормленных завоевателей увеличивал чувство глубокой горечи" Ирина ХОРОШУНОВА Продолжение. Начало в № 15(257) 25 сентября 1941-го Я глубоко ошиблась. Все рухнуло. Рухнуло быстрее, чем мы могли предположить. И тогда, когда я писала восемнадцатого числа, уже все рушилось и рушится до сих пор. Сегодня седьмой день немцы в Киеве. Мы седьмой день в оккупированной немцами зоне. Начались все события тогда, когда я была в магазине. Бульвар Шевченко представлял собой страшное зрелище. Повозки, машины, орудия, походные кухни, пехота — все смешалось в одну непрерывную, бегущую толпу, стремящуюся прочь из города в сторону Днепра. Они задерживали друг друга, все наезжали один на другого. И это беспорядочное бегство производило страшное впечатление. Снаряды свистели над головой и падали, и рвались везде. Было жутко идти, свистели снаряды, сыпались стекла, растерянные люди бежали во все стороны. И нелепым, диким зрелищем была очередь за подсолнечным маслом, которая стояла у нашего гастронома. Люди жались к стенке, толпились у входа, но стояли. И хвост очереди протянулся далеко в сторону телеграфа. Были такие сильные разрывы, что раскрывались двери, и руки тряслись. Нам были слышнее всего взрывы штаба флотилии и клуба водников на Подоле. Начались пожары. Горели эти взорванные здания и швейная фабрика имени Свердлова. А со стороны вокзала подымались огромные столбы черного дыма — это горели и взрывались вокзал и ТЭЦ, которые начали гореть еще днем. К вечеру поднялся сильный ветер. Он словно возник от выстрелов и пожаров. И, разрастаясь, все сильнее раздувал пламя. И огненные языки все больше и больше полыхали, все дальше перебрасывался пожар. И было впечатление, что горит весь Подол. Небо было затянуто тяжелыми, свинцовыми тучами. Клубы дыма подымались вверх и вместе с тучами неслись, подгоняемые все разраставшимся ветром, пламя пожаров освещало их зловещие разорванные клубящиеся куски. К ночи утихла канонада, но часто, почти непрерывно слышались взрывы. Все знали уже: наши войска уходят. И, как было сказано раньше, взрывают объекты, которые не должны достаться врагу. Никто не спал. По двору бродили целую ночь. Сидели на бревнах перед домом. Все ждали взрывов или пожара. И было жутко от того, что пламя пожаров все разрасталось, оно вставало с Подола и вокзала, подымалось со стороны Крещатика. И еще более жутко было от того, что неистовый ветер, словно специально, все сильнее и сильнее бушевал. Он выл и свистел, раздувал пламя и гнал с неимоверной быстротой космы черных в ночи зловещих туч, озаренных огненным заревом пожаров. А взрывы раздавались один за другим. И в ночи не было никаких других звуков, кроме громкого ветра и частых, далеких и близких взрывов. Было светло, светлее, чем в самую ясную лунную ночь. Но от этого не было менее жутко. Страшная это была ночь. Никто не знал, когда уйдут наши, когда придут немцы. Боялись грабежей и хулиганства, потому что дня за два перед тем выпустили всех уголовников. И трудно сказать, чего больше боялись — врагов или пожара, потому что в городе не было воды, наши песочные запасы казались запасами муравьев перед пожаром леса, а водоканал был взорван еще с утра, и рассчитывать на воду не приходилось. С нетерпением ждали утра. Оно пришло серое, но сравнительно тихое. Канонада совсем прекратилась, только слышались отдельные выстрелы и редкие взрывы. Никто не знал, что делается в городе. Со стороны Куреневки, где еще до этого времени было тише всего, доносилась частая пулеметная стрельба, строчил пулемет с Флоровской горки. Потом сразу стало тихо- тихо. Все настороженно ждали, что взорвут дом ЦК, и снова все жильцы верхних квартир опустились в нижние. Но дом ЦК не взорвали. А только задрожал дом, когда взорвали стратегический мост. Вспыхнули и побежали огни по мосту, раздался сильный взрыв. Мост покалеченно свалился в воду. Осталась целой только одна средняя ферма. Пожар понемногу стихал, как стихал и ветер. Выглянуло солнце. И кто-то пришел с известием, что в городе немцы. Побежали все в сквер возле Андреевской церкви. Оттуда увидели, что это правда. По Красной площади медленно, ровной цепью по два в ряд двигались немецкие мотоциклисты. На них смотрели наши люди, стоявшие на тротуарах. На Андреевской улице, куда повернули они с площади, лежали трупы убитых снарядами накануне. А кто-то пришедший из наших жильцов сказал, что по городу население разбирает, растаскивает из магазинов продукты, вещи, где что было. Мы, правда, знали, что это началось еще накануне, 18 числа. Этому не помешали ни свистевшие и рвавшиеся снаряды, ни пожары, ни приход немцев. Немцы вступили в город, а еще много наших бойцов осталось здесь. Один из них с обезумевшим взглядом бежал вверх по Андреевскому спуску. Он бежал, как затравленный зверь, не зная, что делать. Его остановили женщины, стоявшие на парадном, втащили внутрь, уговаривали переодеться и спрятаться. Он ничего не слышал, дрожал и только спрашивал: "Что делать? Что же мне делать?". Молодой, веснушчатый парень, с открытым лицом, со светлыми, ясными глазами. Принесли хлеба, принесли штатскую одежду. Когда он понял, чего от него хотят, он упал на лестницу, головою на ступени, а потом вдруг громко, голосом хриплым и жалобным запел: "Ах зачем ты меня породила!..". Вокруг все плакали, так невозможно было спокойно смотреть на отчаяние и страх этого хлопчика. И казалось, что весь ужас происходящего вылился в этом непрерывном крике парня в выгоревшей военной советской форме. Его переодели, забрали винтовку, военную одежду. К вечеру он, успокоенный уже, ушел. Итак, 19 сентября около двух часов дня немцы вошли в Киев. Никто из нас в тот день не выходил в город. Только все ходили в сквер на горку смотреть на Красную площадь. А 20-го числа утром началась наша жизнь в оккупированном немцами Киеве. Пожары прекратились. Установилась хорошая погода. И тишина. Стало тихо, совсем тихо в городе. У телеграфа, возле гостиницы "Красный Киев" стояли немецкие машины. На них, не обращая внимания на наш народ, возились немцы. На тротуарах стояли любопытные. И те, и другие молчали. Немцы иногда негромко переговаривались между собой. Мы дошли до улицы Саксаганского, не обнаружив особенного разрушения. Только вокруг Николаевского парка вся улица была усеяна осколками снарядов и целыми снарядами. В университете в окнах не осталось ни одного стекла. Они вылетели, когда взорвали склады снарядов в парке напротив. В тот день вечером каждый что-нибудь рассказывал из виденного и слышанного. Поговорить было о чем. Мы узнали, что немцы несут нам "самостійну Україну" и что украинцы делаются привилегированной нацией. С утра, оказывается, выдавали приемники, которые мы сдали в начале войны. Сперва их выдавали в порядке очереди. Потом немцам надоело следить за порядком, и склады приемников просто растаскали. Кто половчее, принес по два приемника. Но главное, что там уже сказали, что приемники выдаются в первую очередь украинцам. Те, кто останавливался возле немецких машин, многое могли рассказать. И было о чем. Все у немцев было непохоже на наше. И огромные машины, все необыкновенно оборудованные. И целые дома на колесах с самым разнообразным устройством. И вылощенный, чистый откормленный вид. Все резко отличает вид этой армии от наших войск, наших людей. И вид этих откормленных завоевателей увеличивал чувство глубокой горечи за наших людей, за наших бойцов, которые идут и идут сотнями километров разбитых дорог, с натертыми в кровь ногами, часто босиком, неся в руках неподходящие башмаки. И никаких у них нет машин. А есть только чувство долга, присяги перед Родиной, за которую они безропотно гибнут. 21-го числа появились на улицах первые приказы. Все они были напечатаны на двух или трех языках, украинский и немецкий обязательно. В них население призывалось к спокойствию. Предлагалось вернуть все взятое в магазинах, сдать оружие и радиоприемники (хоть их только накануне выдали), соблюдать светомаскировку, не прятать, а выдавать партизан, красноармейцев, коммунистов. И заканчивались все приказы тем, что неповиновение карается смертью. Тогда же, 21-го числа, появилась на стене возле "Красного Киева" первая украинская газета. Называлась она "Українське слово". Внизу было указано, что напечатана она 21 сентября в Житомире. Ни редакции, ни хозяев. Тяжелое впечатление производила газета. В ней не было, правда, ни ругательств, ни пасквилей. Но то, как она прославляла немцев, величая их "светловолосыми рыцарями-освободителями", и то, что в ней сразу явилась вся реакция с лозунгом "уничтожения большевизма и жидов", это производило самое удручающее впечатление. Была в этой газетке большая статья, в которой перечислялись этапы борьбы Украины за независимость. Киев начал настраиваться на какой-то новый лад. 22-го числа также приказами на стенах было предложено всем, кто работал до последнего дня, явиться по месту работы и там зарегистрироваться. Немцы вывесили приказы и объявления о том, что только немцы, чехословаки и украинцы пользуются всеми правами. Русских, поляков, евреев и прочих причислили к низшей расе. Понесли снова сдавать приемники. Оказалось, что украинцы могут не сдавать. Очевидно, у немцев ранее существовал договор с зарубежными украинцами. Даже солдаты их, говорят, украинцев считают более стоящими, а русских — чем-то низким. Заговорили об украинском правительстве. Говорили, что во главе его будет писатель Винниченко и академик Студинский. 23-го числа многие зарегистрировались на местах работы. Заполнили анкеты с новым вопросом — вероисповедание. Оказалось, что многие стали украинцами. А вообще все слонялись без дела, носили грязную мутную воду, которую цедили из родников, что под Андреевской церковью. Магазины все закрыты. Купить ничего нельзя. Базаров нет. Питаемся тем, что запасли в последние дни при наших. 25 сентября на всех улицах, чуть ли не на каждом шагу расклеили портреты Гитлера. Он изображен в таких же тонах, как И. В. Сталин на портретах наших художников. Стоит с гордым видом, подбоченясь. Изображен в защитном френче, очевидно, в форме национал-социалиста, потому что на руке красная повязка с черной свастикой на белом фоне. А под портретом надпись: "Гітлер-визволитель". И возле всех портретов по два красных флажка, тоже со свастикой посредине. И еще появились в тот же день воззвания к украинскому народу Степана Бандеры. В них снова оплакивалась "доля" и превозносилась национальная борьба украинского народа. Потом шел призыв к объединению населения Киева в партию ОУН — "Объединение украинских националистов" во главе с этим самым Бандерой. Затем объявлялось, что отныне у нас будет "самостійна, соборна, українська держава". И заканчивалось воззвание словами: "Твої вороги — Москва, Польща, Жидова. Знищуй їх!". Это было на нескольких углах по улице Короленко (Владимирская улица. — А. А.). А на других углах были другие воззвания, анонимные, в которых говорилось, что будет "национальная украинская республика", а не "держава". А накануне висело объявление о приеме в "українську народну міліцію". И город не жил, а пребывал в каком-то странном состоянии растерянности, ожидания, недоумения, местами даже радости, кроме тех мест, где не проходило чувство отчаяния и ужаса. Возле всех учреждений собирались сотрудники и толпились на улицах. Немцы расположились везде, ходили по квартирам, брали себе у населения все, что им нравилось. Они заняли все школы и многие учреждения. На Крещатике в 30-м номере, где прежде была какая-то второстепенная гостиница, поместилась городская комендатура (Здесь автор дневника ошиблась. Комендатура разместилась в №28 — творении архитектора Городецкого, где до 1917 года было Первое российское страховое общество, а в №30 действительно находилась небольшая гостиница De France. — А. А.). В комендатуру должны были являться все начальники учреждений для регистрации их. К коменданту же шли по всякого рода делам. Туда все время подъезжали немецкие машины, стоял немецкий караул, и стоял на тротуаре наблюдающий народ. В жандармерию сносили приемники. Напротив Прорезной на Крещатике сбрасывали прямо на улице противогазы. Город был наполнен фантастическими слухами. Говорили, что Советский Союз погиб, что в партии раскол. Что Сталин и Каганович оказались одни, а против них выступили Молотов, Ворошилов и другие. Потом говорили, что Сталин застрелился, потом — что его застрелил Ворошилов, потом — что он уехал в Вашингтон. Нельзя ни вспомнить, ни записать всего того, что говорят. Как отвратительный смрад распространяется с невероятной быстротой, так народ наполняется отравляющими слухами. А у нас у всех появилось тяжелое предчувствие какой-то провокации, потому что больше всего винят евреев в том, что мы проиграли войну, и что большевизму конец. Разумом мы понимаем, что все это полнейшая нелепость. Ведь три дня назад ничто не предвещало крушения советского строя, и что все эти слухи специально распускаются немецкой пропагандой. И тем не менее нужно иметь большую выдержку, чтобы им противостоять. И вот теперь мы стараемся собрать все свои внутренние силы, чтобы не поддаться паническому страху перед будущим, перед полной неизвестностью. Слухи не отражаются в единственном ныне источнике наших сведений — украинской газете, которая продолжает выходить и дальше без редакции и места издания. Из нее мы узнали, что кроме Киева взята немцами Полтава. И что четыре советских армии уничтожены под Киевом. Про Полтаву не знаю, так это или не так. Но что с нашими войсками под Киевом произошло нечто очень страшное, мы знаем уже наверное. И больно, и тяжело, и обидно это бесконечно. 18-го числа наши войска ушли из Киева. Вместе с ними ушли многие члены партии, мобилизованные в армию женщины и некоторые учреждения, такие, как телеграф, телефонная станция и др. Говорили, что нашим удалось прорвать кольцо окружения. Говорили, что немцы хитростью погубили наших людей, что они открыли проход в одном кольце для того, чтобы уничтожить наши войска в другом. Говорили, что первое кольцо наши войска прорвали сами. Несколько дней продолжалась эта нечеловеческая бойня. Вернувшиеся оттуда рассказывают, что от самого Киева до Борисполя и дальше на сто километров в глубь левого берега на полосе в несколько километров сбились в неподвижную массу машины, орудия, люди. В беспорядочном бегстве, стиснутые со всех сторон врагами, наши армии в количестве шестисот тысяч человек были лишены всякой возможности двинуться. Некуда было спрятаться, не было возможности защищаться. И немцы залили всю эту массу людей сплошным огнем снарядов, бомб, строчили с бреющего полета из пулеметов, били из минометов. Я видела людей, чудом уцелевших в этой бойне. Они из молодых стали стариками, а некоторые плачут все время, словно помешались. Называют цифры: 220 тысяч убитых и раненых, 380 тысяч пленных. Таковы сухие цифры этой страшной трагедии, которая разыгралась у Киева. Почему так случилось? Кто виноват в том, что допустили гибель стольких наших людей? Не мне ответить на этот вопрос. Быть может, будущее ответит тем, кто доживет до него. А сейчас только страшный призрак этого избиения стоит перед нами чудовищным фактом, который невозможно осознать. Больницы переполнены ранеными. Сотни, тысячи женщин ищут в списках своих сыновей, мужей, отцов. 27 Мы 28 сентября узнали, что пять тысяч пленных привели на Керосинную улицу. сентября Тогда, 24-го, один за другим послышалось несколько взрывов. Со стороны Крещатика поднялся темный столб дыма. Никто еще ничего о взрыве не знал. На Керосинной, за колючей проволокой, сидели пленные. Они с 18-го числа ничего не ели. И к лагерю тянулись десятки, сотни женщин с едой и продуктами. Несли, кто что мог. Варили суп и в ведрах несли в общий котел. Женщин-военнопленных выпустили всех. На улицах говорили, что взрыв произошел в комендатуре на Крещатике. Взрывы еще продолжались. Оказалось, что это действительно взорвалась жандармерия, а за ней комендатура (точнее, наоборот. — А. А.). Погибло много народа, и начался пожар. К вечеру пожар усилился. Зарево снова, как в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое, поднялось над городом. Снова поползли слухи, что заминирован весь город. Побежали во все стороны люди с вещами. С Крещатика, где начался пожар, выселялись. А взрывы все слышались с той стороны. Снова тревожно провели ночь. А наутро весь город был еще больше взволнован, потому что пожар распространялся, горели соседние с улицей Свердлова (Прорезная. — А. А.) дома, загорелся почтамт. Горела уже (не знаю только, как это случилось) противоположная от почтамта сторона. Горела Прорезная, угол Пушкинской. Люди с узлами сновали по всем улицам. Люди с узлами сидели в скверах и прямо на тротуарах. Искали причины взрыва. Город был полон легендами, что какой-то еврей принес в жандармерию приемник, начиненный динамитом. И что когда этот динамит взорвался, взорвались заложенные в доме мины замедленного действия, взрывающиеся от детонации. Никто ничего толком не знал. Говорили, что немцы специально жгут город и не собираются в нем оставаться. Другие говорили, что немцы, наоборот, стараются остановить пожар, но будто бы невидимые партизаны им мешают. И что пожар нельзя остановить, потому что нет в городе воды. Один за другим называли номера домов, которые немцы собираются взорвать, чтобы остановить пожар: 12-й номер по Прорезной, 7-й номер по Пушкинской… Уже выселили людей из всех домов по всей Пушкинской, Прорезной и другим улицам вблизи Крещатика. Немцы в зону пожара никого не пускали. И никто не знает, что они там делали, тушили или жгли. Только город горел, и вечер 25-го числа был полон огня и страха. Во всех домах, как и прежде, не спали, дежурили по очереди жильцы во дворах и парадных. Без конца вырастали слухи о том, что город подожгли евреи. Было совершенно очевидно, что это очередная провокация, но никто не мог сказать, что она готовит. Вечером того же 25-го числа был нарушен приказ о том, что ходить можно только до 9 часов вечера. В свете зарева, которое все росло, без конца бежали по улицам люди с узлами, бежали во все стороны от центра. А пожар все разрастался. Вместе с пожаром росла паника. А по Андреевскому спуску (в доме №34 по этой улице проживала автор дневников. — А. А.) все шли бесчисленные люди с узлами, а пожар все разрастался.