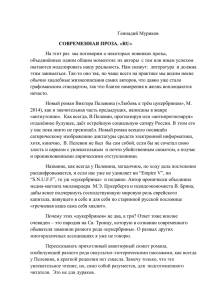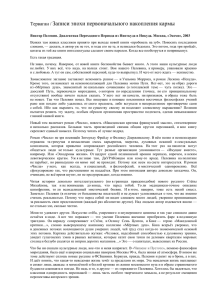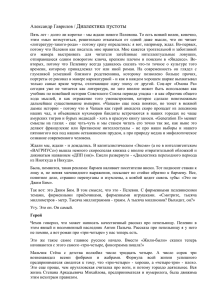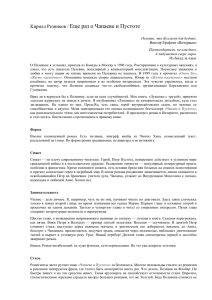Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть
реклама
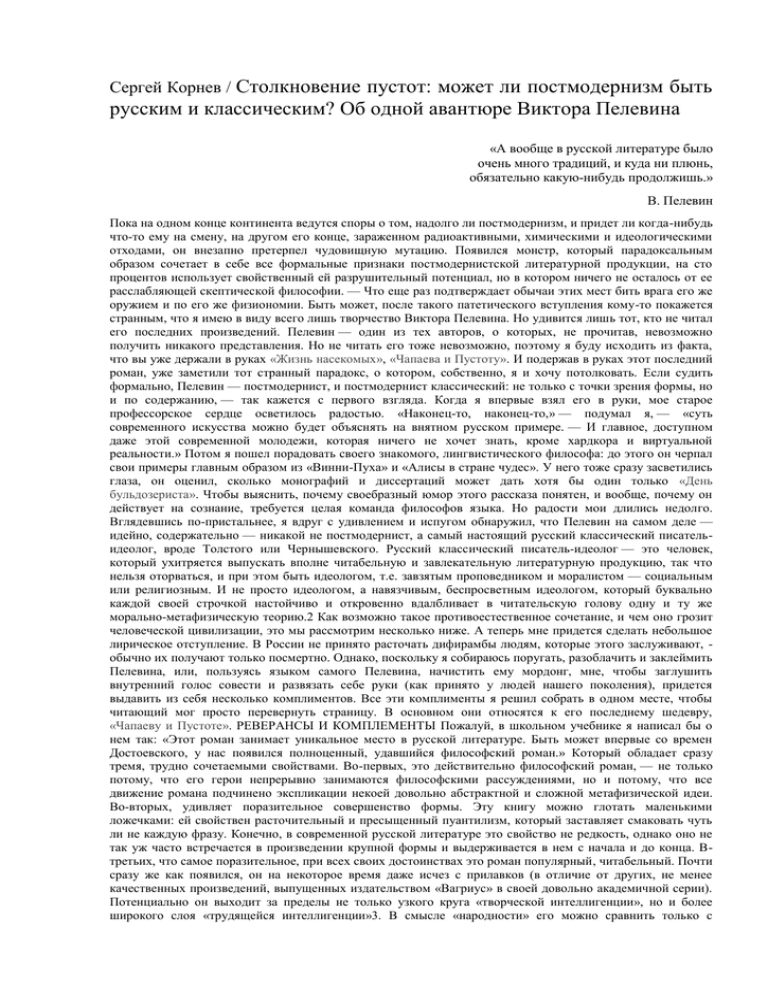
Сергей Корнев / Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим? Об одной авантюре Виктора Пелевина «А вообще в русской литературе было очень много традиций, и куда ни плюнь, обязательно какую-нибудь продолжишь.» В. Пелевин Пока на одном конце континента ведутся споры о том, надолго ли постмодернизм, и придет ли когда-нибудь что-то ему на смену, на другом его конце, зараженном радиоактивными, химическими и идеологическими отходами, он внезапно претерпел чудовищную мутацию. Появился монстр, который парадоксальным образом сочетает в себе все формальные признаки постмодернистской литературной продукции, на сто процентов использует свойственный ей разрушительный потенциал, но в котором ничего не осталось от ее расслабляющей скептической философии. — Что еще раз подтверждает обычаи этих мест бить врага его же оружием и по его же физиономии. Быть может, после такого патетического вступления кому-то покажется странным, что я имею в виду всего лишь творчество Виктора Пелевина. Но удивится лишь тот, кто не читал его последних произведений. Пелевин — один из тех авторов, о которых, не прочитав, невозможно получить никакого представления. Но не читать его тоже невозможно, поэтому я буду исходить из факта, что вы уже держали в руках «Жизнь насекомых», «Чапаева и Пустоту». И подержав в руках этот последний роман, уже заметили тот странный парадокс, о котором, собственно, я и хочу потолковать. Если судить формально, Пелевин — постмодернист, и постмодернист классический: не только с точки зрения формы, но и по содержанию, — так кажется с первого взгляда. Когда я впервые взял его в руки, мое старое профессорское сердце осветилось радостью. «Наконец-то, наконец-то,» — подумал я, — «суть современного искусства можно будет объяснять на внятном русском примере. — И главное, доступном даже этой современной молодежи, которая ничего не хочет знать, кроме хардкора и виртуальной реальности.» Потом я пошел порадовать своего знакомого, лингвистического философа: до этого он черпал свои примеры главным образом из «Винни-Пуха» и «Алисы в стране чудес». У него тоже сразу засветились глаза, он оценил, сколько монографий и диссертаций может дать хотя бы один только «День бульдозериста». Чтобы выяснить, почему своебразный юмор этого рассказа понятен, и вообще, почему он действует на сознание, требуется целая команда философов языка. Но радости мои длились недолго. Вглядевшись по-пристальнее, я вдруг с удивлением и испугом обнаружил, что Пелевин на самом деле — идейно, содержательно — никакой не постмодернист, а самый настоящий русский классический писательидеолог, вроде Толстого или Чернышевского. Русский классический писатель-идеолог — это человек, который ухитряется выпускать вполне читабельную и завлекательную литературную продукцию, так что нельзя оторваться, и при этом быть идеологом, т.е. завзятым проповедником и моралистом — социальным или религиозным. И не просто идеологом, а навязчивым, беспросветным идеологом, который буквально каждой своей строчкой настойчиво и откровенно вдалбливает в читательскую голову одну и ту же морально-метафизическую теорию.2 Как возможно такое противоестественное сочетание, и чем оно грозит человеческой цивилизации, это мы рассмотрим несколько ниже. А теперь мне придется сделать небольшое лирическое отступление. В России не принято расточать дифирамбы людям, которые этого заслуживают, обычно их получают только посмертно. Однако, поскольку я собираюсь поругать, разоблачить и заклеймить Пелевина, или, пользуясь языком самого Пелевина, начистить ему мордонг, мне, чтобы заглушить внутренний голос совести и развязать себе руки (как принято у людей нашего поколения), придется выдавить из себя несколько комплиментов. Все эти комплименты я решил собрать в одном месте, чтобы читающий мог просто перевернуть страницу. В основном они относятся к его последнему шедевру, «Чапаеву и Пустоте». РЕВЕРАНСЫ И КОМПЛЕМЕНТЫ Пожалуй, в школьном учебнике я написал бы о нем так: «Этот роман занимает уникальное место в русской литературе. Быть может впервые со времен Достоевского, у нас появился полноценный, удавшийся философский роман.» Который обладает сразу тремя, трудно сочетаемыми свойствами. Во-первых, это действительно философский роман, — не только потому, что его герои непрерывно занимаются философскими рассуждениями, но и потому, что все движение романа подчинено экспликации некоей довольно абстрактной и сложной метафизической идеи. Во-вторых, удивляет поразительное совершенство формы. Эту книгу можно глотать маленькими ложечками: ей свойствен расточительный и пресыщенный пуантилизм, который заставляет смаковать чуть ли не каждую фразу. Конечно, в современной русской литературе это свойство не редкость, однако оно не так уж часто встречается в произведении крупной формы и выдерживается в нем с начала и до конца. Втретьих, что самое поразительное, при всех своих достоинствах это роман популярный, читабельный. Почти сразу же как появился, он на некоторое время даже исчез с прилавков (в отличие от других, не менее качественных произведений, выпущенных издательством «Вагриус» в своей довольно академичной серии). Потенциально он выходит за пределы не только узкого круга «творческой интеллигенции», но и более широкого слоя «трудящейся интеллигенции»3. В смысле «народности» его можно сравнить только с Венедиктом Ерофеевым, с «Москвой и Петушками». Не поймите меня неправильно: речь идет, конечно, не о том, что «Пелевин велик, как Достоевский». — Мне бы не хотелось брать на себя столь нескромную математическую миссию. К тому же, если и заводить речь о «размерах», то Пелевин велик по-своему, поПелевински. Речь идет о том, что в жанре философского романа между эпохой Достоевского и нашим временем простирается столь глубокий вакуум, что на этом фоне фигура Пелевина, быть может сама по себе не столь уж и значительная, возвышается одиноким утесом. Эти три отмеченных нами свойства не присутствуют в такой степени ни у кого из русских писателей после Достоевского. Жанр философского романа претерпел за это время поразительную деградацию. Немногочисленные попытки что-то сделать в этом жанре далеко не удовлетворительны. Возьмем, например, Андрея Белого4 и его «Петербург» (если рассматривать его именно как философский роман). Вроде бы, есть здесь и форма (и еще какая), и философия. Но философия у Белого — элемент оформления, всерьез она не воспринимается. Другой, противоположный пример — Марк Алданов. В его романах, наоборот, философических рассуждений более чем достаточно, но форма (убедительность, соблазнительность, завлекательность его книг именно как носителей философии) оставляет желать лучшего. Самый же главный недостаток и Белого и Алданова — в том, что они рассчитаны на довольно узкий и специфический круг лиц. То же самое, в еще большей степени, относится и ко всему массиву эмигрантско-диссидентской литературы. Пелевин же занял в русской литературе доселе вакантную нишу Борхеса, Кортасара и Кастанеды, отчасти — Кафки и Гессе. Это доступная, увлекательная и предельно ясная философская проза, с оттенком мистики и потусторонности, простая для восприятия и обладающая концентрированным содержанием. Она рассчитана на широкий круг студенческой (и постстуденческой) молодежи, и дергает именно за те струны, которые у людей в этом возрасте чувствительнее всего: Смерть, Свобода, Любовь, Смысл Жизни, Смысл Всего, Тотальная Метафизика. И все это сдобрено умеренным, а потому не обидным интеллектуальным изыском, завлекательной мыслительной интригой. И все это в просветленном, сублимированном виде, очищенном от запаха блевотины, который так часто сопровождает современное искусство. Сегодняшняя популярность Пелевина - только слабая тень той популярности, которую он будет иметь через десять лет. Он появился внезапно, о нем еще просто не успели услышать.5 «ИГРА НА ГРАНИ СТЕБА» Чтобы показать, насколько сложны и удивительны взаимоотношения Пелевина с «постмодернизмом», необходимо пояснить, что именно я понимаю под этим термином. Хоть и существует множество популярных определений постмодернистского искусства, обычно перечисление включает в себя довольно ограниченный набор признаков. Не все они имеют одинаковое значение. Так, например, не обрисовывает сущность постмодернизма злоупотребление цитатами, явным и косвенным цитированием, когда обыгрывание фрагментов чужой речи становится одним из ключевых компонентов собственной. Опора на цитаты, на фиксированный ряд сюжетов и тем, на образцовые произведения прошлого, когда суть не в новизне сюжета, а в новизне исполнения, сочленения, обработки — это состояние любой развитой устоявшейся культуры. Пример тому - эллинистическая культура, культура барокко. Суть такой культуры — обсасывание и смакование, совершенствование формы. Наоборот, ситуация XIX и XX века, новшество ради новшества, когда каждое произведение само порождает не только свой особенный жанр и стиль, но даже и свое содержание, — это исключение, это короткий этап рождения и роста. Не отражает эту сущность, как ни странно, и более тонкая манера цитирования: «пастиш», коллаж, винегрет, «игра интертекстуальности», когда соприкасаются и взаимоотражаются друг в друге стили и языки, принадлежащие разным жанрам и разным текстам. Интертекстуальность, как открыл нам Бахтин, — это сущность не столько постмодернизма, сколько литературы вообще. В постмодернизме она просто приобретает сознательную и более выпяченную форму. А иначе и Достоевского, и даже божественного Петрония нам придется записать в постмодернисты. Точно также не выдерживает критики и мнение, что постмодернизм — это пародия и стеб. Стеб, пародия, сатира, гротеск известны с глубокой древности. Не являлись постмодернистами ни Свифт, ни Салтыков-Щедрин, ни Анатоль Франс. Сущность постмодернизма определяет скорее не стеб, а состояние на грани стеба. Когда не ясно, говорят ли это всерьез, или это издевательство, пародия, или даже пародия на пародию. Это игра на грани стеба. Таким образом из сообщения выдергивается ведущий и направляющий фаллос. Классический текст — он не просто говорит, но еще и заявляет: «Вот это я говорю всерьез, а это — шутка или пародия». Постмодернистский текст высказывает только чистую мысль, и оставляет самому читателю воспринимать меру ее серьезности, он заставляет его самого сделать выбор, включить собственные мозги и систему желаний. Это безответственный текст. «Это можно сказать, потому что так можно сказать. Принять ли это всерьез, или как шутку, или как нелепое издевательство над здравым смыслом — решай сам, дурачок.» Этот текст не дает ответов — он вызывает вопросы и собственную работу сознания. Итак, постмодернизм — это игра на грани стеба. Из всех популярных определений, это, по-видимому, к истине ближе всего. Эта игра, заметим, в настоящем постмодернизме происходит не только на уровне художественной формы, но и на уровне философии. Откровенный стеб, насмешка, сатира, гротеск — все это выдает глубоко верующего человека. Который спокоен за самого себя, за свою веру, и хочет самоутвердиться, оплевывая веру других. «Но сам-то он правду знает». Это типичная ситуация XIX века, когда прогрессизм и вера в науку повсеместно заняли место более традиционных культов. Напротив, постмодернизм означает «эпистемологическую неуверенность» человека. Он не видит того, на что мог бы опереться. А значит не видит и того, что мог бы отрицать полностью, на все сто процентов. Такой человек не может смеяться «поленински», с чистой совестью. Он не может производить чистую сатиру или пародию. Он всегда стоит на грани, как монета, которая колеблется и не знает, в какую сторону ей упасть. Нельзя понять, говорит ли он всерьез, или смеется, считает он это правдой, или его речь — провокация , похвала — или издевательство. А если он и смеется — это всегда смех над самим собой. Впрочем, такая игра — не простое дело. Очень часто она непроизвольно переходит или в серьезность, или в чистый стеб. Возможно, стопроцентное положение «на грани» вообще не достижимо. Такая речь не может никого переубедить, но она заразительна. Она заражает сомнением. Но это сомнение весьма странного рода: сомнение не в «догмах» и «предрассудках». Сомнение здесь направлено не на содержимое головы, так сказать, не на ягоды или цветочки, а на тот стебелек, который соединяет человека с самим собой. Сомнение здесь направлено на привычную структуру личности, на ее внутренний ландшафт. Идеал постмодернизма — шизоидное сознание, сознание, полностью расщепленное в идеологическом плане, обломки которого мирно сосуществуют между собой. По обоюдному согласию вступают друг с другом в свободный «пастиш», не связанный социальными нормами и страхом неприятных медико-демографических последствий. Пелевин, с точки зрения внешней формы, как раз и есть такая игра на грани стеба. Стеб, переходящий в серьезность, и серьезность, балансирующая на грани стеба — или даже внешне уже перешедшая эту грань, но в каком-то странном мерцании остающаяся все еще за ней. Но внешнее подобие не должно обманывать: эта игра на грани — только форма. Настоящий постмодернист использует эту форму, потому что по большому счету сам не уверен — смеяться ли ему над некой идеей, или пасть на колени и помолиться. Пелевин же использует ее для откровенной проповеди. Неправда ли, странное явление — проповедь идеи под видом издевательства над ней? Такого в русской литературе еще не было. Представьте, что Достоевский начинает издеваться над своими Алешей и Зосимой. И не просто издеваться, а представлять их виде шутов, в виде комедийных персонажей. Пелевин сделал с Чапаевым то же самое, что суфии с Ходжой Насреддином. Он взял комического героя народного фольклора, и «нашел» в примитивных и пошловатых анекдотах некую глубинную мистическую суть. Нужна особенная отвага, чтобы вложить собственную выстраданную идею в уста откровенно пародийному персонажу. И чудовищное искусство, чтобы идея от этого ничего не потеряла. Ибо сделать пародию на культовый персонаж безмерно легче, чем превратить шутовское лицо в предмет культа. В России, с ее все еще средневековым размежеванием между смешным и сакральным, это труднее всего. Ходжа Насреддин в России невозможен. Здесь даже юмористы-сатирики, когда от «пародии» и «сатиры» переходят к «позитиву», к «морали», сразу меняют интонацию: в голосе у них появляется какой-то особенный, неестественный «нравственный пафос», так что становится даже несколько не по себе — ведь нельзя же прикидываться, черт возьми, таким хорошим и положительным. Пелевин умеет обходиться без этого «нравственного пафоса». Итак, в отличие от других, кто балуется постмодернизмом, Пелевин насквозь идеологичен. Однако было бы слишком просто заявить, что он использует средства постмодернизма для чуждой ему цели. Да это, скорее всего, и невозможно. Мы имеем дело со странным гибридом: дело в том, что в одном пункте Пелевин с постмодернизмом все-таки сходится. Он сходится с ним в тотальном отрицании социума и всего человеческого жизнеустройства в его современных формах, особенно — всех так называемых «идеалов благополучно прожитой жизни». Однако если целью обычного постмодернизма является лоскутное сознание, для которого мир рассыпался в беспорядочное месиво никак не связанных и мирно сосуществующих обломков, то Пелевин не ограничивается этой чисто разрушительной задачей. Он заменяет разрушенный (им же самим и разрушенный) мир новым, своим собственным миром. С завидным упорством, он всегда и при всех обстоятельствах (но под разным обличьем) проталкивает одну и ту же идею, — начиная чуть ли не с первого своего произведения. Настойчиво пытается отвратить сознание от всех иных соблазнов и преподнести ему свой собственный. Только не подумайте, ради бога, когда будете читать Пелевина, что он хочет навязать нам какую-то свою, свежевыдуманную версию буддизма, даосизма или элэсдеизма. Нет, как говорят специалисты, все, что он делает, и буквально и по духу вполне укладывается в ортодоксальную традицию Махаяны. Так что под видом безобидных маленьких рассказов он, на самом деле, преподносит нам обычный для этой религии жанр пропедевтики. Цель этих историй - деконструкция внешнего мира, всех социальных норм и предрассудков, и прежде всего — всех конкурирующих идеологий и религиозных догматов. И в этой отрицательной задаче он с постмодернизмом вполне сходится. Пелевин, однако,отрицает постмодернизм не только тем, что вообще утверждает нечто позитивное, некую цельную идеологию. Нет, он отрицает его еще и потому, что утверждаемое им по своему содержанию есть прямая противоположность философской сути постмодернизма. Бахтин, исследуя творчество Достоевского, оставил нам одну примечательную фразу. «У человека нет внутренней суверенной территории, он весь и всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого.»6 Осознание этой горькой истины есть метафизическая и этическая доминанта постмодернизма. Не существует никакого «трансцендентального субъекта», «внутреннего убежища», куда можно бежать от социума. Социум настигает человека везде, даже внутри, в лице собственного внутреннего Другого. («Внутренний труп» — так называет Пелевин совокупность Других внутри человека.) У постмодернистского человека существует только два способа обрести свободу перед лицом социума. Первый способ, который можно назвать первичной программой постмодернизма, есть бесконечное умножение количества и разнообразия этих внутренних Других. Чтобы перед осуждающим взором одного всегда можно было сбежать к другому, и на время припасть к его спасительной груди. Постмодернистский человек постоянно ускользает ото всех определений и определенностей. Он боится, что под видом «самого себя» ему подсунут «другого», нечто чуждое и враждебное, нужное для того, чтобы включить его в функционирование социальной машины.7 Он не доверяет таким словам, как «субъект», «личность », «свободный выбор», «ответственность». Все это ловушки, созданные для того, чтобы внедрить в человеческую душу Другого, и заставить ее считать этого Другого собой. Там, где наивный человек видит «себя», «свое истинное Я», постмодернист видит Другого, там где наивный ищет «субъект» в его первозданной чистоте и подлинности, постмодернист видит отчуждение. Второй способ избавления — активное и самостоятельное конструирование внутреннего Другого, — относительно «хорошего» внутреннего Другого. Он содержит в себе две возможности. Первую мы условно назовем «программой Нанси». Выход здесь — хорошее окружение: некое сообщество, которое является хорошим Другим для своих членов. Вторая возможность — «программа позднего Фуко». Самому построить у себя внутри своего собственного хорошего Другого, и тем достичь относительной автономности перед лицом социума. Разумеется, этот внутренний Другой строится не из ничего, не из пустоты, а из обломков, узлов и противоречий социальных Других, которые человек находит вокруг себя и внутри себя. В поисках нужного метода, Фуко в своих последних работах обратился к опыту стоиков и других философских школ эллинизма. «Программа Пелевина» радикально отличается от всех этих решений. Он требует полного изгнания всех внутренних Других. — Он претендует именно на ту «суверенную внутреннюю территорию», которой для постмодернистов не существует. Кроме социальных персонажей и их обломков, внутри человека есть то, что находится по ту сторону всякой определенности, по ту сторону времени и пространства, что существовало изначально и пребудет всегда. Все страдания и житейские заботы относятся не к нему, а к паразитарным, внедренным извне социальным персонажам. Назвать этот просвет свободы «трансцендентальным субъектом» было бы конечно неверно, скорее, можно вести речь о «собственном внутреннем месте», о «внутреннем царском троне», который есть у каждого человека. Это собственное внутреннее место Пелевин и дзэн-буддисты называют Пустотой. Отождествление с нею, отстранение от всего, что ею не является, и есть конечная цель.8 То, что в экзистенциальной философии называется «конечностью человеческого существования», некие первичные условия человеческого бытия в мире, через которые и посредством которых человек живет, смотрит на себя и на мир, Пелевин объявляет «навозным шаром». Он предлагает отбросить его от себя как можно скорее. В отличие от него, последние до-постмодернистские философы Запада, в частности Хайдеггер, предлагали взять этот навозный шар, первично данное человеку существование, за основу, и через него, как через магический кристалл, смотреть на окружающий мир и на самого человека.9 Если для экзистенциалистов этот навозный шар вытесняет из поля зрения самого человека, становится ему полностью тождественным, а постмодернисты, выбрасывая этот шар на помойку, говорят при этом и о «смерти человека», тем самым соглашаясь с их отождествлением, то Пелевин утверждает принципиальную разницу между этими двумя субстанциями. «Человек» для него остается чем-то позитивным вне и без навозного шара. Как видим, в своем утверждении он противостоит не только канонам постмодернизма, но и всей западной философской традиции последних полутора столетий. ПУСТОТА ПЕЛЕВИНА И ПУСТОТА ФУКО Впрочем, человек искушенный и проницательный может возразить мне: «Да верно ли, что Пелевин, в своем утверждении позитивного, противоречит постмодернизму? Вся его позитивная программа сводится к понятию пустоты, — а ведь известно, что «пустотой» баловался и сам Мишель Фуко.»10 — Действительно, Мишель Фуко использовал понятие пустоты. О, если бы можно было взять и сказать: «Вот это пустота Пелевинская (и буддистская), она означает то-то и то-то, а вот это пустота Фуко, и она означает совсем другое, а именно…» К сожалению, так сказать нельзя, ибо сущность этих двух понятий и состоит в их фундаментальной неопределимости. В этом заключается и главная опасность. Главным специалистом по пустоте Фуко является у нас, судя по всему, Валерий Подорога.11 От его анализа этого понятия мы и будем отталкиваться. Подорога сопоставляет эту «пустоту», «не-место», «пробел», «лакуну», «нейтральное пространство», «отсутствие бытия» Фуко с «доктриной пустоты» христианских мистиков. Различие он видит в том, что мистикам пустота нужна была, чтобы расчистить внутри себя пространство для Бога, выбросив во вне все профанное. У Фуко же Внутреннее как противоположность Внешнему вообще исключается. Его пустота «вызвана к жизни лишь свободой умножающихся различий, которая не только не нуждается во Внутреннем, но и не может в себя его включить.» «Некая почти безмятежная и ровная пустота, словно некий лист беловатой бумаги, на который никакое имя не может быть нанесено, словно задник странного театрального представления, инертный по отношению к действию…» Это пустота «ничто не отражающая, и потому ничто не может быть на ней предначертано, некая поверхность, абсолютно инертная, причем настолько, что никакое орудие не оставляет следов на ней, и никакие силы, вступившие в противоборство, не могут поколебать ее безмятежное присутствие.» Она и только она «позволяет все видеть и все наделять значением.» Эта пустота — не просто пустота отсутствия Бога, она сама замещает его: она обладает онтологическим верховенством над всем остальным. Если вообще имеет смысл говорить о существовании чего бы то ни было, то прежде всего существует эта пустота, а уж потом, во вторую очередь, — все остальное. Все на ней основывается, все ею держится и получает от нее свой смысл. Тот, кто имеет представление о дзэн- буддизме, будет удивлен поразительным сходством описанной выше пустоты Фуко и пустоты буддистов.12 Мы видим теперь, что худшее заключается отнюдь не в том, что Пелевин просто «использует» постмодернизм для достижения каких-то своих посторонних целей. И не в том, что он просто предлагает ему некую альтернативу. Нет, его изощренное коварство не могло удовлетвориться столь незатейливым умыслом. Пелевин покушается на сам постмодернизм в его непорочной сущности. Он осуществляет подмену внутри него самого. И подмену столь искусную, что о ней не так-то просто говорить. Все дело в том, что пустота Фуко — нечто совсем незавершенное и неопределенное. То же самое можно сказать и о прозрениях Делеза и Гваттари — ведь их уход в мир машин желания можно интерпретировать и поПелевински. Постмодернизм принципиально незавершен. На любое положительное утверждение, пусть даже собственное утверждение, у него всегда найдется сомнение.13 В этой незавершенности и состоит его главная ценность. Пустота нужна была Фуко не для того, чтобы закуклиться в ней, как это делают дзэнбуддисты, а наоборот, чтобы через нее войти в более непосредственные отношения со всем остальным миром.14 Нам, нашим поколениям, невероятно повезло: мы родились в мир, в котором отсутствует целостное метафизическое знание. Никто не знает, где правда, где ложь, и как отличить одно от другого, и потому нам разрешены все эксперименты, которые только возможны. Наука превратилась в литературу, литература в философию, философия в мифологию, мифология — в норму повседневной жизни. Достоевский сформулировал это ощущение в своей знаменитой фразе «все дозволено». Это ощущение вседозволенности вызывает приступ перманентной эйфории у всех современных философов, начиная с Ницше.15 И дешево они это ощущение не продадут. Пока эта брешь, этот «эпистемологический разрыв» не закрылся, не заплыл жиром, — жизнь остается удивительной и прекрасной. И тут вдруг откуда-то с Востока, из Внутренней Монголии, к нам приходит некий учитель, который подсовывает вместо этой открытой и свободной пустоты Фуко древнюю и сумрачную восточную пустоту. Пользуясь внешним сходством, он подменяет ее, и превращает всю современную западную философию чуть ли не в пропедевтику к буддийскому канону. Этим жестом фокусника он «закрывает проблему», над которой бились все западные умы, начиная с минус шестого века. Но постмодернизм не нуждается в этой «доделке до буддизма», — просто потому, что сам представляет собой западный аналог этой традиции, причем рожденный самим же Западом. И европейским людям помочь может только она. Возможно, европейская традиция дзэнпостмодернизма еще не вполне доведена до совершенства, но ученика, который хочет сорвать с дерева верхний и непременно самый спелый плод, учитель дзэна наверняка ударил бы палкой. Коренная разница между Фуко и Пелевиным состоит в том, что Фуко ищет, а Пелевин уже знает. Пустота Фуко ничего не обещает, но в один прекрасный момент может превратиться во все что угодно, и даже если не превратится, сам этот поиск обладает собственной ценностью. Пустота Пелевина так навсегда и останется пустотой, — для того, кто примет ее из его рук. Абсолютное сомнение он подменяет сомнением относительным. Но относительное, ограниченное сомнение — это вообще уже не сомнение, это религиозная вера. И как любая религиозная вера — это следствие эпистемологической усталости. Как писал об этом Юлиус Эвола, «лучше знать, что ты ничего не знаешь, чем верить. В действительности человек верит только тогда, когда он ничего не знает и думает, что так никогда и не сможет ничего узнать.» 16 Учитель дзэна высказал бы эту мысль проще: «Когда пытаются увидеть высшее, падают ниже.» Путать пустоту Пелевина и пустоту Фуко, это значит путать буддизм и постмодернизм, Восток и Запад, черное и белое.17 Выражаясь аллегорически, в лице Пелевина перед нами предстает вечно юный Восток, обрядившийся в ветхие одежды Запада, чтобы посрамить его убогую старческую мудрость. Барон Унгерн, одевший черную эсэсовскую форму, чтобы наконец разделаться с Жаком Деррида, а заодно — с Бахтиным и Достоевским. Лет девяносто назад Вячеслав Иванов написал бы об этом так: «Пустота Фуко и пустота Пелевина — это два различных бытия, подчиненных каждое своему отдельному внутреннему закону. У Фуко это пустота западная, у Пелевина — восточная. Западная пустота, неудовлетворенная и насмешливая, — и восточная пустота, самоуглубленная и спокойная. Мы видим теперь, как на русской земле сошлись в смертельном поединке две пустоты: пустота Запада и пустота Востока.» РУССКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ПОСТРЕФЛЕКТИВНЫЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНАЯ ШКОЛА Рассуждая о творчестве писателя, всегда хочется наградить его этикеткой, местом в энтомологической коллекции: отнести его к той или иной литературной школе, направлению. «Литературная школа» — понятие довольно условное. Что нужно, например, для того, чтобы группу писателей можно было формально объединить в некую школу, направление или течение? Совсем необязательно, чтобы они сами так себя называли. Достаточно, чтобы их так называли другие — все или просто многие, даже если сами они будут возражать. Поскольку понятие «многие» определить трудно, в пределе, для того чтобы образовать «литературную школу», нам хватит одного-единственного человека, который, в общем-то, может не иметь к этой школе никакого отношения. К тому же, никто ведь и не вынуждает писателя принадлежать к одной-единственной школе. В одном аспекте, в контексте его восприятия какой-то конкретной группой юридических и физических лиц, он может принадлежать к одной школе, в другом — к другой. Литературную школу, таким образом, создают не писатели, а читатели и критики. Писатель здесь — персонаж второстепенный.18 Обуреваемый этими и другими мыслями, нужную этикетку я придумал довольно легко. Пелевин — постмодернист, и Пелевин — русский классический писатель-идеолог. Слово «идеолог» здесь пожалуй излишне — русский классический писатель это и есть идеолог по определению. Значит, соединив эти два предиката, мы получаем «русский классический постмодернизм». Возможны здесь только два возражения. Во-первых, не подойдет ли эта метка к чему-то другому лучше, чем к Пелевину? Но очевидное соображение показывает, что термин «русский классический постмодерн» идеально соответствует именно Пелевину. Если постмодернизм вообще бывает русским и классическим, никакую другую форму иметь он просто не может. Второе возражение: правомерно ли, в свете вышесказанного, оставлять за Пелевиным термин «постмодернизм»? — Но такое же очевидное соображение показывает, что если нечто русское и классическое вообще можно назвать постмодернизмом, то оно само собой примет форму творчества Виктора Пелевина. И вот почему. Классический постмодернизм слишком легок и абстрактен для русской души. Легко пресыщенному западному человеку быть постмодернистом и предаваться беззаботной интеллектуальной игре. Если гнет примитивных материальных потребностей отходит на второй план, жизнь и смерть становятся равно привлекательны во всех своих проявлениях. Гнусные материальные подробности вообще уже не принимаются в расчет. Мишель Фуко мог позволить себе умереть от СПИДа,19 и при этом остался святым. Жиль Делез, подобно Экзюпери и Гастелло, с легкой душой отправился в свой последний полет. Как сформулировал эту мысль Умберто Эко, «умереть красиво может тот, кто жил роскошно». Отвлеченная философия подходит тому, чьи проблемы столь же возвышенны и утонченны. Русскому человеку, с его убогой и гнусной внешней реальностью, нужно нечто более позитивное и устойчивое. Он хочет не играть, а найти спасение. Это как в Риме: стоицизм — для аристократов, христианство — для толпы. Поэтому философия постмодернизма на русской почве неизбежно должна принимать форму положительной религии. Если провести аналогию с поверхностно понятым буддизмом, она не может удержаться в форме Хинаяны, абстрактного и сурового учения, и переходит в форму Махаяны, доступную и понятную большему числу людей. Тем не менее, поразмыслив немного, я понял, что мое определение Пелевинской школы все-таки не является исчерпывающим. Слова «постмодернизм», «постмодернистское искусство», нагружены определенным отрицательным содержанием. Сразу представляется некий текст, написанный не для читателей, а для литературных критиков и теоретиков литературы. В котором изображается не предмет, не действие, не событие, а зацикленная рефлексия писателя, часто плаксивая и истеричная. В котором эта зацикленная рефлексия не оставляет места для удовольствия. Я уж не говорю о том, какую форму все это принимает у нас, в России. Обматерить Пелевина этим словом — нет, это было бы слишком кощунственно. Ведь даже лучшие представители Запада, даже Умберто Эко кажется по сравнению с ним всего лишь скучным и надоедливым болтуном. К Пелевинскому «постмодернизму» нужно присоединить определенную приставку, которая бы нейтрализовала этот отрицательный смысл. Мы назовем его постмодернизм «пострефлективным» — в противоположность другому, «рефлективному» постмодернизму. Конечно, это означает не то, что у Пелевина вообще отсутствует рефлексия, а то, что его можно читать, и можно получать от этого удовольствие. Он пишет отнюдь не только для тех, кто хочет написать о нем диссертацию или критическую статью, но и для нас, простых смертных, которые никогда не пишут ни диссертаций, ни критических статей. Итак, полное название Пелевинской школы будет Русский Классический Пострефлективный Постмодернизм. (Сокращено «РКПП» — выглядит революционно и по-русски.) Эту школу мы сформировали «под Пелевина», но теперь возникает закономерный вопрос: кто еще из русских писателей достоин того, чтобы отнести его к ней? Каковы предшественники Пелевина в рамках этой почтенной школы? При этом у нас будеттолько три критерия: русская классичность, постмодерничность, и пострефлективность. Поскольку речь идет о предшественниках, у которых тенденция еще только прощупывалась, первый и последний критерии мы будем понимать в самом слабом смысле. «Русская классичность» — это не обязательно позитивная идеологическая программа, достаточно и идеологической критики — нужно только чтобы эта критика не была просто заурядной сатирой, а имела у себя внутри чтото искреннее и чистое, пусть еще даже и не перелитое в выразимую форму. «Пострефлективность» же означает просто живой интерес у массового читателя (зрителя). Единственно не поколебленным критерием должен остаться постмодернизм, «стеб и игра на грани стеба», как мы определили это выше. Самого первого и самого главного предшественника, зачинателя этой школы, определить довольно просто. Это, конечно же, незабвенный Венедикт Ерофеев. Если позднего Пелевина с ним сравнивать не легко, то в «Омоне Ра» преемственность заметить чуть легче. Имеется в виду не то, что Пелевин подражал Ерофееву, а то что сам ранний Пелевин, в смысле русской классичности, был еще ближе к нему, чем к себе теперешнему, ранне-среднему20. Прямую духовную преемственность, кстати, можно заметить в одной маленькой вещице: это уже упоминавшийся мной рассказ «День бульдозериста». Второго отца-основателя этой школы трудно назвать предшественником Пелевина, поскольку они с ним почти ровесники. Трудно назвать его и отцом-основателем, поскольку он сам, вообще говоря, не был писателем. В эпоху постмодернизма, однако, границы между разными формами искусства довольно условны. Общий дух здесь значит гораздо больше. Поэтому светлой памяти Сергей Курехин в общей системе координат будет лежать несомненно ближе к Пелевину, чем к кому-либо другому. Так же и Виктор Пелевин в народном сознании несомненно находится ближе к Курехину, чем к какому-либо из своих коллег-писателей. Опять же, если взять раннее творчество Пелевина, сходство просто поразительное. Создается впечатление, что оба они использовали тогда одну и ту же разновидность стеба и гротеска. Из крупных фигур отнести к этому направлению больше некого. Мы имеем, таким образом, два поколения русского классического пострефлективного постмодерна. В учебнике об этом напишут так: «Зачинателем этой школы был Венедикт Ерофеев, ее наиболее яркие представители в 80-90-е годы прошлого века — Сергей Курехин и Виктор Пелевин. В последнем она и обрела свое истинное, неповторимое лицо.» Что можно сказать о дальнейшем развитии этой школы? Если продлять школу Пелевина в прошлое, быть может, особенных оснований нет, то ее продолжение в будущем несомненно. Так, как пишет Пелевин, сейчас не пишет никто. Следует ожидать многочисленных подражателей и учеников. И несмотря на относительную молодость школы, уже сейчас можно проследить своеобразную сексуально-политическую эволюцию. Самый ранний ее представитель, несмотря на дань социальному критицизму, неизбежную в те годы, политически стоял все-таки на левых позициях, а сексуально — на правых (консервативных, романтических). Второе поколение сместилось к центру — в обоих отношениях. Логично предположить, что политическая позиция третьего поколения сдвинется еще дальше к крайне правому, экстремистскому полюсу, а его сексуальные взгляды, парадоксальным образом, приобретут крайнюю левизну и эксцентричность. Разрыв между формой и содержанием будет непрерывно нарастать, он должен дойти до своих логических пределов. Крайний предел — использование средств постмодернизма для пропаганды крайне правой, экстремистской, и даже откровенно фашистской идеологии. Логика развития есть логика исчерпания ближайших возможностей, и не будет ничего странного, если лет через пять от какого-нибудь из учеников и подражателей Пелевина мы получим, например, «Апологию Третьего Рейха», написанную (как это ни печально) убедительно, завлекательно и высокохудожественным языком21. Вторая линия развития — эскалация сексуальной экзотики. Несмотря на современный разгул порнографии и эротики, ресурсы в этой области, как не странно, еще не исчерпаны. Например, почти не затронута тема платонической, романтической зоофилии. Хотя первые попытки разработать эту тему уже имеются (один из рассказов Пелевина). Секс насекомых, зачастую межвидовой, тем же Пелевиным рассмотрен с почти исчерпывающей полнотой и убедительностью. Пелевин, кстати, сам сформулировал свое порнографическое кредо. «Если бы мне надо было написать по-настоящему сильную эротическую сцену, я дал бы несколько намеков, а остальное заполнил бы невнятным разговором. Потому что изображать нечего — все должен достроить ум. » 22 Таким образом, присутствие секса у него обнаруживается именно через его отсутствие. (Есть о чем подумать цензуре!) Здесь есть определенная структурная аналогия с полюбившимся мне «Днем бульдозериста». Там тоже мат маскировался под нечто прямо противоположное мату, и именно поэтому воспринимался как мат. Вот что значит эзоповская выучка! Цензура всегда шла на пользу русской литературе. Самую грязную, разнузданную порнографию Пелевин способен замаскировать под философский диалог, или невинный разговор о цветиках и букашках. Современная порноиндустрия получила в его лице бесценного теоретика. Что теперь значат все цензурные запреты? Возникает и другая идея: быть может, современная порнография — это никакая не порнография, просто принцип Пелевина там используют наоборот. Люди ведут серьезные философские дискуссии, читают друг другу стихи — Байрона, Гельдерлина, Пастернака, — но из скромности и стыдливости, чтобы не оскорблять убогое большинство, маскируют все это под секс. Можно попытаться определить не только общие тенденции этой школы, но и конкретные черты физиономии ее грядущих представителей. Выше мы поставили Пелевина в один ряд с Кафкой и Гессе. Это, конечно же, верно лишь отчасти. Литературная ниша Пелевина — это все-таки Борхес и Кортасар, их синтез и симбиоз, с некоторой примесью Джанни Родари. Кафка и Гессе составляют особые, еще вакантные позиции философской прозы. Две эти ниши будут заполнены, вероятно, третьим поколением этой школы. Даже от самых мрачных вещей Пелевина («Вести из Непала», «Ухряб», «Встроенный напоминатель») у читателя остается светлое впечатление. Кафкианский Пелевин, напротив, должен оставлять жуткое и мрачное ощущение, ощущение больных зубов, без всякой перспективы избавления в спасительной Пустоте. Другая свободная ниша, Пелевинский Гессе, проповедник активной жизни в мире сем, должен сочетать в себе сумрачную торжественность позднего Гессе и, с поправкой на современные обстоятельства, вполне недвусмысленный призыв щелкнуть затвором, который иногда можно было услышать у раннего Гессе. Скорее всего, это будет тот напророченный мной апологет третьего рейха и философии концлагерей. «Таким образом,» — как было бы написано в диссертации по литературной футорологии, — «нам удалось предсказать как минимум двух грядущих писателей из школы РКПП, а также описать их предполагаемые свойства». ИНФЕРНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Впрочем, и сам Пелевин еще далеко не исчерпал свой творческий потенциал, искать наследников ему пока рановато. С точки зрения морали и нравственности обвинять его тоже еще рано: идеи, которые он проповедует, весьма гуманны. К тому же, они составляют долгожданное противоядие против захлестнувшего нас всех штольцевского маразма. Однако все это вполне окупается их фантастически высокой поражающей силой. Качество, а вместе с ним и убойная сила его продукции, возрастает в геометрической прогрессии. «Чапаев и Пустота» в этом смысле настолько превосходит «Омон Ра», одну из первых его вещей, что, учитывая возраст писателя (всего 35 лет), поневоле становится страшно за будущее наших детей. Несомненно, в ближайшем будущем нам следует ожидать новую волну русского буддизма. Россия удивительно чувствительна к таким вещам. На своей жизни я перевидал множество фанатов Гессе, Борхеса, Кортасара, не говоря уже о Кастанеде и Толкиене. Фанатов настоящих, с горящими глазами, они готовы были чуть ли не жизнь отдать за идеи, которые для их автора были, скорее всего, послеобеденной интеллектуальной игрой. А после того, как Умберто Эко написал свой «Маятник Фуко», на Урале возник орден тамплиеров — и не где-нибудь, а в среде партийно-хозяйственного актива. Кстати, не оттуда ли пошла «уральская культурная революция», которая подарила нам «Наутилус», «Агату Кристи» и ряд политических деятелей? Приемы Пелевина уже и сейчас выходят за пределы объяснимого, невольно выставляя на свет монструозную инфернальность этого писателя (или инфернальную монструозность — как сказал бы он сам). Неизвестно, какими средствами он этого добивается, но в некоторых местах его последнего романа, на фоне обычного текста, явственно ощущается как бы отдаленный гул, или, скорее, почти физиологическое ощущение мистического света, втягивание в какую-то светлую область. Сознание постепенно соприкасается с мистической просветленностью, которая прямо-таки ощущается на вкус, или, точнее, которая нас самих ощущает на вкус и уже пробует слегка пожевать. Возможно, виной тому особенная, светлая и неторопливая легкость языка. Итак, опровергая Мечникова и Пастера, и все достижения биологии за последние сто пятьдесят лет, в России сам собой, на пустом месте, буквально из ничего, самозародился идеолог высочайшего класса. В плане промывания мозгов все современные отечественные писатели по сравнению с ним — просто маленькие наивные дети, которые могут убедить только тех, кто и так уже убежден. Если бы такой человек помог Жириновскому написать его книгу, мы бы все на прошлых выборах голосовали за ЛДПР. Куда смотрят политические партии? Трудно понять, что вызывает отток идеологов большого стиля из политики — господство ли там воинствующей посредственности, или леность и абстинентность самих этих идеологов. Впрочем, все к лучшему. Что могут сделать идеологи большого стиля, когда дорвутся до кнопок и рычагов, мы уже понаблюдали в первой половине этого века. Так что признаваемый и левыми и правыми современный идеологический вакуум, быть может, не самое худшее из зол. Хотя с другой стороны, в качестве идеолога одной из партий, Пелевин был бы, по крайней мере, под присмотром. Индивидуальный идеологический проект всегда опаснее коллективного, потому что таит в себе еще никем не изведанные возможности. И здесь возникает закономерный вопрос: в чем заключается истинный план Виктора Пелевина, который он проводит с такой поистине инфернальной настойчивостью? Это имеет для нас не только теоретический, но, учитывая сказанное выше, и практический интерес. Как нам кажется, его идеал, движущая цель его экспериментов, не что иное как перекодирующий текст. Некий идеальный носитель пропаганды, который бы при его потреблении изменял сознание необратимым и заранее заданным образом. В одном из рассказов он случайно проговорился об этой своей идее. Возможно, причина этого саморазоблачения — не случайная ошибка, а обычная скаредность писателя, желание все наработанные идеи побыстрее пустить в дело. (А может быть, заработал фрейдовский механизм вытеснения и замещения.) В этом рассказе («Бубен нижнего мира») предлагается идея текста, который бы при прочтении человеком запускал в нем внутренний механизм саморазрушения. Понятно, что здесь, для маскировки, идея облечена в гротескную и заведомо нереальную форму. Этот рассказ, однако, помогает нам угадать общее направление мыслей писателя. Особенно в контексте его интереса к вопросам пропаганды вообще, и к фашистской пропаганде в особенности (см. например рассказ «Оружие возмездия»). Понятно, что Пелевин не собирается разрушать hardware. Его интересует software и только software. И как раз здесь принципиально ничего невозможного нет. Все мы знаем о компьютерных вирусах. Никто не гарантирует, что некий текст, некий комплекс идей и вербальных сигналов, не может полностью дезинтегрировать содержимое человеческого мозга и потом собрать его заново, в нужной кому-то конфигурации. Первую часть проекта вчерне разработал постмодернизм, вторая еще ждет своего создателя. Именно созданием такого вируса и занимается сегодня Виктор Пелевин. И, к сожалению, остановить его на этом пути практически невозможно. Может быть уже сегодня, уже сейчас он написал эту роковую последовательность букв, и теперь никто и ничто не сможет нас от него защитить. А может быть, он сделал это еще вчера, и только постепенность действия этого оружия еще не дала нам его на себе почувствовать. февраль-июнь 1997 1 Из виртуальной конференции Пелевина в журнале Zhurnal.Ru (11 февраля 1997). Полный текст конференции расположен по адресу http://www.zhurnal.ru/transcripts/pel-tr.htm 2 Как писал об этом Салтыков-Щедрин, «литература и пропаганда — одно и то же.» 3 Включая сюда и тех многочисленных интеллигентов, которые велением судеб трудятся уже отнюдь не на поприще культуры, науки и образования. 4 Мне не хотелось брать в качестве «отрицательных примеров» современных писателей. 5 Это было написано в феврале, а в начале июня в магазине «Библиоглобус» «Чапаев и Пустота» по покупаемости вошел в первую тройку, сравнявшись по своей популярности с отечественным криминальным чтивом. — Весьма любопытный факт для произведения серьезной литературы (тем более нового), который невольно вызывает в памяти времена советского прошлого. 6 Бахтин М.М. Проблемы творчества/поэтики Достоевского. Киев 1994. Стр. 187. 7 У Пелевина эта тема наиболее ярко разработана в рассказе «Жизнь и приключения сарая Номер XII.» 8 Термины «избавление», «внутреннее место», «царский трон», конечно же, не отражают собой истинную суть дзэн-буддизма, как не отражают ее и никакие другие термины. Они содержат в себе лишь намек и метафору. Поэтому, чтобы не смущать тех, кто посвящен в тонкости этого учения, расхождение между буддизмом и постмодернизмом можно сформулировать еще более осторожно. В буддизме «окончательное освобождение» возможно и достижимо, существует даже его тщательно разработанная практика (в этом и только в этом смысле «внутреннее место» существует), тогда как в постмодернизме возможно только постоянное бегство, без надежды на счастливый исход, заранее проигранная партия. То «мистическое удовольствие», к которому стремится постмодернист, есть не удовольствие покоя и безмятежности, а скорее чувство, которое испытывает чеченский партизан, когда он, злобно и весело постреливая, до последнего защищает заведомо обреченную позицию. Или террорист, который заложил бомбу в казино, но сам, до последней минуты, с легким сердцем играет там в биллиард. Или преступник, снова и снова уходящий из-под носа у полиции, но уверенный в том, что когда-нибудь все равно попадет на электрический стул: эта финальная обреченность убивает в нем страх и придает особенную пикантность его приключениям. 9 Должно быть, именно через его коричневые грани высмотрел Хайдеггер те протофашистские истины, которые можно найти в «Бытии и времени». 10 Еще одна пустота постмодернизма, пустота Бодрийара, о которой он говорит в своей книге «О совращении», лежит в несколько иной плоскости и не имеет отношения к предмету нашего разбирательства. 11 Анализ пустоты Фуко см. в его статье в десятом номере «Комментариев», на стр. 23-32. http://rema.ru/KOMMENT/komm/podoroga.htm 12 Некоторое буквальное различие с буддизмом (и Пелевиным) состоит в том, что Фуко (и Подорога) погружение в эту пустоту называют сном, а мир реальности и различия — бодрствованием. Тогда как на самом деле все, конечно же, обстоит наоборот. 13 Ну вот, опять я сбился, и написал фразу, которая в равной мере справедлива и для дзэн-буддизма. 14 Язык здесь бессилен: дзэн-буддист вполне мог бы подписаться под этим «позитивным» использованием пустоты. 15 Быть может, этим и объясняется часто невнятная речь постмодернистов. 16 Эвола Ю. «Языческий империализм.» Б.м.: Русское слово, 1992. Стр. 70. Да простят меня св. Фуко, св. Делез и другие отцыпостмодернисты за то, что я защищаю их светлое учение словами барона Эволы. 17 Здесь, в определении световой гаммы, я конечно же допустил риторическое преувеличение. Пустота Фуко, по его свидетельствам, действительно белая, девственно чистая. Тогда как пустота Пелевина отнюдь не черная: она цветная, перепачканная всеми цветами радуги. 18 В конце концов, подлинный Пелевин (вспоминая его собственную теорию) есть не более чем коллективная галлюцинация в сознании его читателей. 19 Не понимаю, из какого особенного почтения это слово обычно пишут с большой буквы. 20 Термин «cредний Пелевин» имеет смысл зарезервировать за его творчеством в 40-50 лет. 21 А еще через десять лет нас всех посадят в концлагерь, чтобы там, в тишине и покое, мы постепенно постигали буддийские истины. 22 «Чапаев и Пустота», стр. 343.