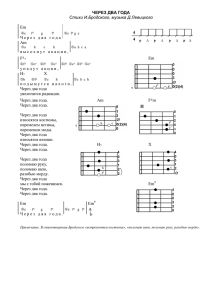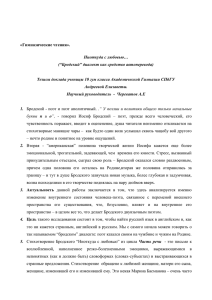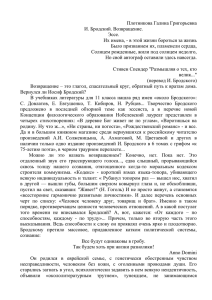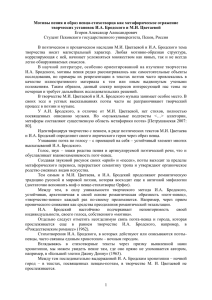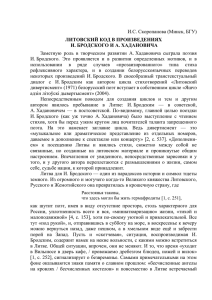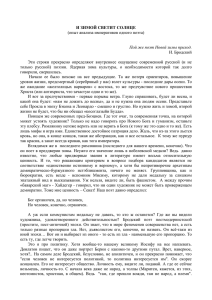Тема смерти в поэзии Иосифа Бродского П.Е. Спиваковский
реклама
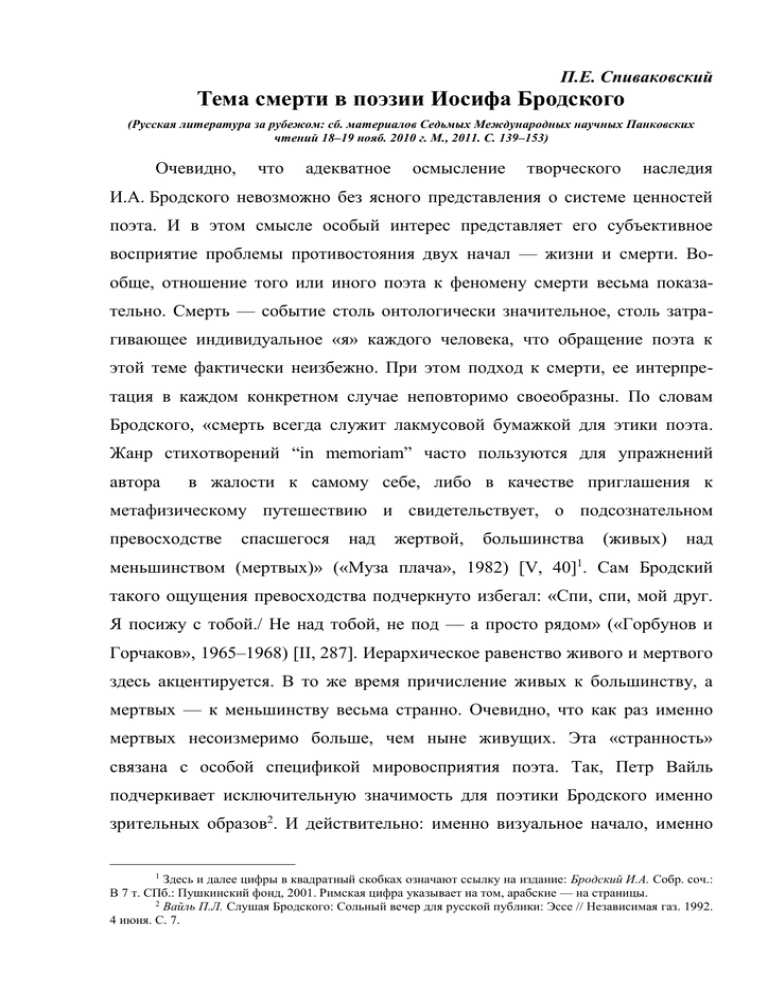
П.Е. Спиваковский Тема смерти в поэзии Иосифа Бродского (Русская литература за рубежом: сб. материалов Седьмых Международных научных Панковских чтений 18–19 нояб. 2010 г. М., 2011. С. 139–153) Очевидно, что адекватное осмысление творческого наследия И.А. Бродского невозможно без ясного представления о системе ценностей поэта. И в этом смысле особый интерес представляет его субъективное восприятие проблемы противостояния двух начал — жизни и смерти. Вообще, отношение того или иного поэта к феномену смерти весьма показательно. Смерть — событие столь онтологически значительное, столь затрагивающее индивидуальное «я» каждого человека, что обращение поэта к этой теме фактически неизбежно. При этом подход к смерти, ее интерпретация в каждом конкретном случае неповторимо своеобразны. По словам Бродского, «смерть всегда служит лакмусовой бумажкой для этики поэта. Жанр стихотворений “in memoriam” часто пользуются для упражнений автора в жалости к самому себе, либо в качестве приглашения к метафизическому путешествию и свидетельствует, о подсознательном превосходстве спасшегося над жертвой, большинства (живых) над меньшинством (мертвых)» («Муза плача», 1982) [V, 40]1. Сам Бродский такого ощущения превосходства подчеркнуто избегал: «Спи, спи, мой друг. Я посижу с тобой./ Не над тобой, не под — а просто рядом» («Горбунов и Горчаков», 1965–1968) [II, 287]. Иерархическое равенство живого и мертвого здесь акцентируется. В то же время причисление живых к большинству, а мертвых — к меньшинству весьма странно. Очевидно, что как раз именно мертвых несоизмеримо больше, чем ныне живущих. Эта «странность» связана с особой спецификой мировосприятия поэта. Так, Петр Вайль подчеркивает исключительную значимость для поэтики Бродского именно зрительных образов2. И действительно: именно визуальное начало, именно 1 Здесь и далее цифры в квадратный скобках означают ссылку на издание: Бродский И.А. Собр. соч.: В 7 т. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. Римская цифра указывает на том, арабские — на страницы. 2 Вайль П.Л. Слушая Бродского: Сольный вечер для русской публики: Эссе // Независимая газ. 1992. 4 июня. С. 7. 2 зрение становится для поэта критерием «существования/несуществования», поэтому живые (те, кого поэт видит воочию) оказываются в большинстве, а мертвые (те, кого поэт видит лишь мысленным взором) — в меньшинстве. Разумеется, это не все вообще живые и не все вообще мертвые, но лишь доступные индивидуальному восприятию. Художественный мир Бродского не столько онтологичен, сколько перцептивен. Здесь факт с легкостью заменяется артефактом, причем артефактом преимущественно визуальным, поэтому «исчезновение» тела вдали, «растворение» в прямой линейной перспективе почти равносильно его действительному исчезновению: И глаз, привыкший к уменьшенью тел на расстоянии, иной предел здесь обретает — где вообще о теле речь не заходит, где утрат не жаль: затем, что большую предполагает даль потеря из виду, чем вид потери. («Песчаные холмы, поросшие сосной…», 1974) [III, 74] А. Лосев3 отмечает, что до Бродского «еще никто так не описывал человека — как вещь»4, причем момент возникновения человеческого тела (зачатие) и момент превращения тела в могильный прах поэт объединяет через их визуальную недоступность, сокрытость: «Начала и концы там жизнь от взора прячет./ Покойник там незрим, как тот, кто только зачат» («Пятая годовщина (4 июня 1977)») [III, 447]. Поэтому знаменитый «конец перспективы», оказывающийся под юбкой у «красавицы» в стихотворении «Конец прекрасной эпохи» (1969) [II, 311–312], есть точка на грани бытия и небытия: тело единственной клетки первоначального зародыша уподобляется визуальному «уменьшению» размеров тела при его пространственном удалении от наблюдателя. «Вообще: чем дальше, тем беспредметнее» («Вечер. Развалины геометрии…», 1987) [IV, 20]. Удаление тела «развеществляет» его. Перед нами феномен перцептивного «умирания» тела, Один из псевдонимов Л.В. Лифшица, более известного как Лев Лосев. Лосев А. Ниоткуда с любовью…: Заметки о стихах Иосифа Бродского // Континент. Париж, 1977. № 14. С. 316. Здесь и далее все графические выделения принадлежат авторам цитируемых текстов. — П.С. 3 4 3 «умирания» на уровне визуального артефакта. «Растворяющаяся» на горизонте точка есть смерть в действии, смерть как «потеря» тела. По словам М.Ю. и Ю.М. Лотманов, для Бродского «вытеснение вещей <…> есть смерть. Смерть <…> п р о с т р а н с т в а, — из это тоже которого эквивалент пустоты, у ш л и <…>. Пожалуй, ни один из русских поэтов, кроме гениального, но полузабытого Семена Боброва, не был столь поглощен мыслями о небытии — Смерти»5, замечают авторы этой статьи. Михаил Крепс отмечает, что «в одном из юношеских стихотворений Бродский метафорически определил жизнь как холмы, а смерть как равнину6, то есть противопоставил неровное, вьющееся, живое, тянущееся вверх, динамическое — плоскому, неподвижному, ровному, мертвому — статике»7. Разумеется, динамическое противопоставление холмов и равнин возможно, но лишь при вертикальной, а не горизонтальной «системе отсчета». Таким образом, оппозиция «жизнь — смерть» обретает в метафорической системе Бродского топографически-вертикальное «измерение». Стихотворение «Холмы» (1962) имеет особое значение для творчества поэта, это произведение для Бродского во многом программное, поэтому неудивительно, что противопоставление жизни и смерти приобретает в нём исключительную остроту и экзистенциальную напряженность. Это стихотворение загадочно. Сложнейшее переплетение смыслов, обилие «темных мест», недосказанного, непроясненного, делают его трудным для восприятия даже после неоднократного прочтения. Это связано еще и с тем, что, помимо изображения «реальных» событий, большое место в стихотворении отведено символическом уровне, осмыслению этих же причем эти уровня, оба событий и на сугубо реальный, и символический, проникают друг в друга, усложняя таким образом и без того 5 Лотман М.Ю., Лотман Ю.М. Между вещью и пустотой: (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания») // Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. Т. 3. Таллинн: Александра, 1993. С. 305. 6 Точнее, «равнины». — П.С. 7 Крепс М. О поэзии Иосифа Бродского. Ann Arbor (Mich.): Ardis, 1984. С. 205. 4 сложную картину. Лишь последние строки проясняют смысл заглавия этого произведения: «Смерть — это только равнины. / Жизнь — холмы, холмы» [I, 218]. Таким образом, оказывается, что холмы не просто часть пейзажа, а символ. Но в начале стихотворения это не ощутимо. Изображаемое кажется вполне реальным, конкретно-осязаемым, зримым: Вместе они любили сидеть на склоне холма. Оттуда видны им были церковь, сады, тюрьма [I, 213] Эта картина вполне реальна, но в то же время на символическом уровне пребывание героев стихотворения на склоне холма есть пребывание в жизни, есть сама жизнь. А затем, когда они, простившись, спускаются по разным склонам холма, их обоих ждет смерть от рук убийц, и, по словам М.Ю. и Ю.М. Лотманов, «мы так и не узнаем ничего ни о них, ни о причинах убийства. Их функция <…> — у х о д, после которого остается — в данном случае не метафорическая — дыра»8: Убийцы тащили их в рощу (по рукам их струилась кровь) и бросили в пруд заросший. И там они встретились вновь. <…> чернела в зеленой ряске, как дверь в темноту, дыра [I, 215]. Но если уход героев стихотворения несомненен, то их посмертная «встреча» в аукториальной перспективе весьма сомнительна. Возникает вопрос: кто именно встретился? Или, точнее, что именно встретилось? Отчасти эта ситуация «посмертной встречи» напоминает стихотворение М.Ю. Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно…», являющееся вольным переводом стихотворения Г. Гейне «Sie liebten, sich beide…» (причем в интересующих нас последних строках стихотворения 5 Лермонтов весьма далек от первоисточника): «И смерть пришла: наступило за гробом свиданье… / Но в мире новом друг друга они не узнали»9. И у Лермонтова и у Бродского — встреча после смерти (в одном случае — возлюбленных, в другом — друзей), но и там, и там встреча равнозначна невстрече. Дело в том, что если у Лермонтова встречаются утратившие все земное души (отсюда — неузнавание), то у Бродского «встречаются» лишь тела, неодушевленная материя — лишь трупы. Автор «Холмов» неоднократно повторял, что не слишком-то верит «в существование того света и вечной жизни»10 (художественные и публицистические тексты Бродского, а также его интервью не дают основания полагать, что с течением времени эта точка зрения претерпевала у поэта сколько-нибудь существенные изменения), неудивительно поэтому, что вся эта сцена приобретает характер горько-иронический. «Встреча» оборачивается вопиющим абсурдом, но реальная альтернатива этому, видимо, и не предполагается… По Бродскому, сумма страданий дает абсурд; пусть же абсурд обладает телом! И да маячит его сосуд чем-то черным на чем-то белом. («Письмо генералу Z.», 1968) [II, 223] Абсурдность посмертной встречи двух тел, двух «сумм страданий», приобретает, таким образом, семиотическое «оправдание». Если само по себе бытие, с точки зрения Бродского, онтологически бессмысленно, то чисто семиотически оно не бессмысленно. В.П. Полухина цитирует фрагмент неопубликованного интервью Бродского, данного ей 10 марта 1980 г., в котором поэт, в частности, упомянул о трансформации «человека в вещь, в Лотман М.Ю., Лотман Ю.М. Между вещью и пустотой. С. 304. Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. Л.: Наука, 1979. С. 481. 10 Волков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским. М: Независимая газ, 1998. С. 256. 8 9 6 иероглиф, в число»11. Экзистенциальный абсурд выражается через уподобление тела в пространстве — тексту на бумаге. Это «оправдание» бытия, причем «оправдание» чисто художественное. Поэтому и дыра в зеленой ряске пруда, прорванная двумя трупами, чернеет, «как дверь в темноту» [I, 215]. Здесь вполне реальное физическое явление осмысливается (разумеется, чисто поэтически) как метафизическое. В эссе «Об одном стихотворении» (1981), посвященном разбору «Новогоднего» М.И. Цветаевой, Бродский использует такое понятие, как «лингвистическая реальность “того света”» [V, 183–184], иначе говоря, по его мнению, «тот свет» не обладает бытийным статусом вне языка. Но, отрицая метафизику как реальность, поэт одновременно утверждает ее художественную ценность. Так, например, говоря о своем стихотворении «Закричат и захлопочут петухи…» (1962), посвященном Ахматовой, Бродский отмечал: «Начало у стихотворения беспомощное <…>. А конец хороший. Более или менее подлинная метафизика»12. То есть именно метафизика оказывается едва ли не основным критерием оценки художественного качества. Быть может, как раз с этим связана общеизвестная абсолютизация Бродским эстетического начала, проявившаяся, в частности, в его Нобелевской лекции (1987). в которой поэт утверждает, что «эстетика — мать этики» [I, 9]. Гносеологическое сознание поэта почти полностью неметафизично, следовательно, именно эстетика оказывается единственной областью, где метафизическое видение мира вообще возможно. В стихотворении «Похороны Бобо» (1972) говорится: Идет четверг. Я верю в пустоту. В ней как в Аду, но более херово. И новый Дант склоняется к листу И на пустое место ставит слово [III, 35]. Здесь на место «отсутствующей в реальности» метафизики — ставится слово, и существование, таким образом, приобретает хотя бы видимость 11 Полухина В.П. Поэтический автопортрет Бродского // Звезда. 1992. № 5/6. С. 189. 7 некоторого смысла. Важность и даже торжественность этого момента подчеркивается неожиданным стилистическим «взлетом» от нарочито «сниженной» лексики («херово») к последним двум строкам, напоминающим о Данте Алигьери и О.Э. Мандельштаме (ср.: «И снова скальд чужую песню сложит / И как свою ее произнесет»13). Но, в любом случае «вера в пустоту» не избавляет автора от страха смерти, поэтому лирический герой стихотворения «Холмы», видя трупы. брошенные в пруд, в отчаянии восклицает: Кто их оттуда поднимет, достанет со дна пруда? Смерть, как вода, над ними, в желудках у них вода. Смерть уже в каждом слове, в стебле, обвившем жердь. Смерть в зализанной крови, в каждой корове смерть [I, 216]. Смерть на наших глазах разрастается: она во всем — в каждом слове, в каждом предмете. Она всесильна, потому что неотменима. Это поэтическая метафизика безвозвратности. А молоко коров, лизавших кровь убитых, делается кровавым, становится средоточием смерти, и скрытая в нем кровь заливает все. Показательна паронимическая близость слов «крови» и «корове», подчеркиваемая внутренней рифмой. Человеческая кровь проникает в коров, делается их частью. И так же одно слово «проникает» в другое, коннотативно «просвечивает» сквозь него. Все становится красным: вагоны, железнодорожные пути, даже будущее — дети. Перед нами антиевхаристия. Всеобщее — через молоко — «причащение» смертью (весьма характерно использование в этой ситуации церковнославянизма «млеко») создает особый, красный мир, мир смерти и крови: 12 Волков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 250. 8 В красном, красном вагоне, С красных, красных путей, В красном, красном бидоне — Красных поить детей [I, 216]. Казалось бы, совершенно заурядное убийство приобретает черты архетипические: каинова печать оказывается зримой, приобретает цвет. Это цвет торжества смерти. Одновременно с этим смерть осмысливается и как прозрачная преграда: «Смерть — это стекла в бане, / в церкви, в домах — подряд!» [I, 217]. Здесь стекла даны на всех уровнях бытия: на нижнем — баня (жизнь тела), на верхнем — церковь (жизнь духа) и на среднем (смешение того и другого). Причем все три уровня, по Бродскому, обречены смерти. Особая значимость для поэта именно зрительных образов проявляется здесь в том, что обреченность смерти выражается при помощи концентрации внимания читателя на визуальной проницаемости символически значимых хронотопических объектов. И далее: «Смерть — это всё, что с нами, — / ибо они — не узрят» [I, 217]. То есть все, что с нами происходит, вся наша жизнь есть смерть, потому что для них (мертвых) она невидима. Здесь неверие поэта в существование вечной жизни и «того света» определяет само понятие «смерть». Это полное уничтожение души и тела, полная слепота небытия. Но через несколько строк возникает другая версия событий, другой голос. Это голос самих умерших, их слово: Мы больше на холм не выйдем. В наших домах огни. Это не мы их не видим — нас не видят они [I, 217]. С этой точки зрения, мертвые видят живых, видят огни в своих домах (теперь бывших своих), однако сами невидимы. Это гипотетическая версия сугубо метафизическая, и, если следовать ей, смерти души нет и посмертная встреча героев всё-таки осуществилась. Все это выявлено опять-таки через 13 Мандельштам О.Э. Собр. соч.: В 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 1. С. 103. 9 зрение, через частичную зрительную взаимопроницаемость двух миров, физического и метафизического. По мнению С.М. Волкова, «мышление Иосифа Бродского — принципиально диалогично (по Бахтину). Это заметно и в стихах Бродского, и в его прозе, и в драматургии»14. А.М. Ранчин, возражая С.М. Волкову, отметил, что «противоположные суждения у Бродского не диалогичны, а антиномичны, и принадлежат одному (и единственному в его мире) сознанию — автора или “лирического героя”»15. И действительно, в данном случае вторая точка зрения, казалось бы, исключает первую, однако реальность «того света» для Бродского — явление чисто «лингвистическое», то есть метафизика воспринимается им как сугубо поэтическая категория. В сущности Бродский отстаивает тот «либеральный дуализм», о котором писал в свое время А.Ф. Лосев: «реальная жизнь — сама по себе, а миф — сам по себе. Я никогда не был ни либералом, ни дуалистом, и никто не может упрекать меня в этих ересях»16, — добавлял философ. Как видим, Бродский к «этим ересям» был явно склонен. Налицо внутреннее противоречие, когда острейшая метафизическая жажда осмысливается чисто эстетически, а метафизика отодвигается в область нереального, в область чисто художественную, причем, сталкиваясь с таким зловещим явлением, как смерть, автор пытается и его поставить в чисто эстетический контекст: Розы, герань, гиацинты, пионы, сирень, ирис — на страшный их гроб из цинка — розы, герань, нарцисс, лилии, словно из басмы, запах их прян и дик, левкой, орхидеи, астры, розы и сноп гвоздик [I, 217]. Поэт заворожен этим ужасным зрелищем, он хочет заклясть его, эс14 15 Бродский И.А., Волков С.М. Вспоминая Ахматову: Диалоги. М: Независимая газ., 1992. С. 4–5. Ранчин А.М. Философская традиция Иосифа Бродского // Лит. обозрение. 1993. № 3/4. С. 10. 10 тетически преодолеть, но все цветы, которые ложатся на гроб, налиты свинцовой тяжестью. Это, казалось бы, простое их перечисление есть акт метафизического отчаяния, выражение бессилия поэта перед лицом смерти. По словам Г.Ф. Комарова, в творчестве Бродского «отчаяние существования преодолевается самой структурой поэтической речи»17. Впрочем, слово «преодолевается» здесь не вполне точно. Отчаяние по сути не преодолевается, потому что преодолеть его невозможно. Просто его причину (гроб с телами убитых) необходимо скрыть. И прежде всего — от себя. Не думать о смерти, отодвинуть ее как можно дальше, не видеть ее. В беседе с Соломоном Волковым Бродский, в частности, говорил: «Сколько я себя помню, я всегда стремился отделываться от той или иной реальности, нежели пытаться удержать что-либо»18. Это стремление «отделаться» — и в том море цветов, в котором поэт прячет от себя гроб (лишь бы не видеть: зрительные образы для Бродского действительно первостепенно значимы). А затем лирический герой восклицает: Прошу отнести их к брегу, вверить их небесам. В реку их бросить, в реку, она понесет к лесам. К черным лесным протокам, к темным лесным домам, к мертвым полесским топям, вдаль — к балтийским холмам [I, 217]. По его мнению, нужно поднять тела убитых со дна пруда, для того чтобы бросить их в реку (из воды — в воду!). В этом, казалось бы, нет никакого смысла. Смысл, однако, есть, и немалый. Такое странноватое языческое погребение в движущейся воде выражает желание избавиться от пугающих мертвых тел, желание сделать их перцептивно «несуществующими» Лосев А.Ф. Диалектика мифа; Дополнение к «Диалектике мифа». М.: Мысль, 2001. С. 34. Комаров Г.Ф. От составителя // Бродский И.А. Сочинения: В 4 т. СПб.: Пушкинский фонд, 1992. Т. 1. С. 461. 18 Волков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 224. 16 17 11 (разумеется, лишь для лирического героя). При этом дальнейшая «судьба» трупов осмысливается на сугубо символическом уровне, если полесские топи символизируют смерть (характерен параллелизм, «к черным лесным», «к темным лесным», «к мертвым полесским»), то балтийские холмы, напротив, символизируют жизнь. Так что на символическом уровне появляется даже надежда на освобождение от власти смерти, но все это, конечно же, не всерьез. Балтийские холмы — лишь символ жизни, а не сама жизнь, иначе говоря, перед нами малоутешительная иллюзия… Надо сказать, что упоминаемые в тексте полесские топи и балтийские холмы указывают на место действия с достаточной степенью точности. Река, о которой говорится в тексте стихотворения, — это река Шара в Белоруссии. Это единственная река, текущая через Полесье в сторону Прибалтики. В ее верховье расположены равнинно-холмистые пространства Западно-Белорусской провинции19, то есть те холмы, на которых происходит действие. Потом Шара течет через Полесье, поворачивает на север и впадает в Неман (Нямунас), который затем протекает через Литву. Впрочем, дело, конечно же, не в географии. Дело в том, что пространственное удаление убитых — это лишь мнимое, лишь иллюзорное устранение смерти. И экзистенциальное отчаяние поэта не преодолевается, а всего лишь эстетически сглаживается, да и то временно. Никуда не исчезая, оно лишь обретает иную художественную форму. В то же время сам факт непреодоленности отчаяния, порожденного феноменом смерти, предельно повышает ценность жизни, поэтому неудивителен гимн холмам в конце стихотворения: Холмы — это вечная слава. Ставят всегда напоказ на наши страданья право. Холмы — это выше нас. Всегда видны их вершины, видны средь кромешной тьмы. 19 География Белоруссии. 2-е изд., перераб. Минск: Вышэйшая шк., 1977. С. 114. 12 Присно, вчера и ныне по склону движемся мы. Смерть — это только равнины. Жизнь — холмы, холмы [I, 218]. Выдающийся польский поэт Чеслав Милош, как и Бродский, лауреат Нобелевской премии по литературе, в статье «Борьба с удушьем», в частности, писал: «Это поэзия двух основ человеческого существования: любви и смерти. Любовь — пережитая и выстраданная. Смерть — почти пережитая и пугающая. К ним в поэзии Бродского приближаются с трепетом и необходимыми вдохновенными заклинаниями, которые вовсе не кажутся мне светскими»20. С Милошем, по всей видимости, следует согласиться. Сочетание двух тем — любви и смерти — для Бродского весьма характерно. Это относится и к стихотворению «Холмы», в финальной части которого также возникает тема любви: «Холмы — это наша любовь» [I, 218]. Жизнь (холмы) — это и есть любовь. Для поэта не «Бог есть любовь» (1 Ин 4:8, 16), но именно жизнь — любовь. Любовь, приравненная к жизни, оказывается естественной антитезой смерти, и «свет и безмерность боли» — это лишь концентрированное выражение любви, но не как «сильного чувства» или чего-то сугубо неповторимо-индивидуального, но как сферы проявления экзистенциального отчаяния и беспомощности «автономного» человека перед абсурдным и страшным для него миром, поэтому в любви можно найти лишь малое и временное утешение. К тому же острота метафизической жажды поэта безмерна, и любовь утолить ее не в силах. Во всяком случае, любовь — лишь к человеку. А Бога лирический герой стихотворения не знает. Так что не остается ничего другого, кроме попыток чисто эстетического удовлетворения этой жажды, поскольку, по Бродскому, именно и только эстетика может и должна опираться на метафизику. В поэтической метафизике поэт стремится найти ту глубину и силу, которые 20 Милош Ч. Борьба с удушьем / Пер. с англ. А. Батчана, Н. Шарымовой // Часть речи: Альманах лит. и искусства. Нью-Йорк, 1984. № 4/5. С. 177. 13 позволили бы ему взглянуть в глаза смерти если не бесстрашно, то, во всяком случае, мужественно. Попытка эстетического преодоления экзи- стенциального тупика — единственная возможность защиты от того, что сильнее поэта, — от непобедимости смерти, от абсурдности обезбоженного бытия. Защита, конечно, слабая, но иной у Иосифа Бродского нет. Важно отметить, что экзистенциалистское мировидение поэта, нашедшее столь яркое выражение в написанном еще в 1962 году стихотворении «Холмы», не связано с каким-то одним периодом его творчества, но характерно для «всего Бродского». Показательно в этом смысле не имеющее названия стихотворение 1992 года: — Что ты делаешь, птичка, на черной ветке, оглядываясь тревожно? Хочешь сказать, что рогатки метки, но жизнь возможна? <…> — Боюсь, тебя привлекает клетка, и даже не золотая. Но лучше петь, сидя на ветке; редко поют, летая. — Неправда! Меня привлекает вечность. Я с ней знакома. Ее первый признак — бесчеловечность. И здесь я — дома [IV, 129]. В этом стихотворении, написанном в форме диалога человека и птички, Бродский отказывается от привычной разработки традиционного для русской поэзии мотива птички в клетке как символа неволи (достаточно вспомнить «Птичку» А.С. Пушкина, «Двух чижей» П.А. Вяземского и «Канарейку» Л.А. Мея). Человек, которого читатель принимает за лирического героя, предполагает, что птичка, сидящая на «траурной» черной ветке, боится рогаток, однако она опровергает такую версию — рогатки ее не пугают. Тогда человек высказывает иное предположение. По его мнению, птичка 14 сама стремится в клетку, потому что клетка, «и даже не золотая», для нее привлекательнее свободы: в клетке можно петь, не думая о собственной безопасности. Таким образом, мотив птички в клетке героем стихотворения осмысливается в контексте бегства от свободы и добровольного заточения во имя творческой самореализации. Поэтому человек советует птичке выбрать компромиссную форму свободы — «петь сидя на ветке»: не полную свободу полета, ибо «редко / поют, летая», но и не полную несвободу пения в клетке. Однако и эта, высказанная человеком версия оказывается ложной. Ответ птички столь неожидан и глубок, что полностью разрушает уже, казалось бы, сформировавшуюся на наших глазах антитезу «свобода — неволя». Кроме того, выясняется, что каскад ложных версий, обрушивающийся на читателя, исходит от мнимого лирического героя. Лишь к концу стихотворения читатель вдруг осознает, что подлинным лирическим героем является не задающий вопросы человек, а сама птичка. Не случайно ее внутренний мир антропоморфен. Очевидно, что птичка — лишь маска, под которой скрывается лирический герой. В этом Бродский близок Лермонтову, прятавшему лирического героя под масками паруса, сосны или утеса. В то же время такое осмысление образа птички сближает Бродского с Вяземским, в «Двух чижах» которого лирическим героем оказывается один из чижей21. Такого рода литературный контекст в принципе близок Бродскому, который во многом ориентировался на Золотой век русской поэзии. Так, например, в беседе с С.М. Волковым поэт настаивал на сходстве Е.Б. Рейна с А.С. Пушкиным, Д.Б. Бобышева — с А.А. Дельвигом, А.Г. Наймана — с П.А. Вяземским, а себе отвел «роль» Е.А. Баратынского22. Однако присущая поэтам «золотого века» «школа гармонической точности» (термин Л.Я. Гинзбург) весьма далека от художественной практики Бродского. Мир поэта дисгармоничен, и в этом Бродскому намного ближе Лермонтов с его драматическим отчуждением от окружающего мира. Но если у Лермонтова источник 21 22 Вяземский П.А. Стихотворения. Пермь: Пермск. кн. изд-во, 1989. С. 97. См.: Волков С.М. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 227. 15 отчуждения — антитеизм, проявляющийся в форме личной вражды с Богом, то у Бродского источник отчуждения — само течение времени, потому что время, как сказал поэт в интервью Белле Езерской, «в конечном счете уподобляет человека себе»23. В стихотворении Бродского «Колыбельная трескового мыса» (1975) прямоходящая треска, мировоззрение которой совпадает с мировоззрением автора, поет: Время больше пространства. Пространство — вещь. Время же. в сущности, мысль о вещи [III, 87]. Таким образом, время, которое, по Бродскому, «уподобляет человека себе», превращает его из реально существующей «вещи» в «мысль о вещи», в воспоминание, а человек как материальное целое, постепенно разрушаясь, затем полностью исчезает. В стихотворении «Только пепел знает, что значит сгореть дотла…» (1986) говорится, что от человека остается лишь «падаль — свобода от клеток, свобода от / целого: апофеоз частиц» [III, 305]. А в стихотворении «Конец прекрасной эпохи» (1969) сказано еще определеннее: «Время создано смертью» [II, 311]. По Бродскому, вечность и смерть неразделимы. Показательно, например, то, что птичку, о которой шла речь выше, вечность одновременно и пугает и привлекает, она ощущает неизбежность смерти и всю бесчеловечность этой ситуации как неотменимую реальность, как вынужденно «свое», как «дом», из которого заведомо нет и не может быть выхода. Страх перед неизбежностью небытия, который преобладал в стихотворении «Холмы», доминирует и здесь. Отношение Бродского к смерти весьма напоминает отношение к ней одного из крупнейших французских писателей-экзистенциалистов Альбера Камю, по мнению которого, «все завершается смертью»24. «Время страшит нас своей доказательностью, неумолимостью своих расчетов, — писал Камю. 23 Езерская Б. Мастера: [В 2 кн.]. Кн. 1. Ann Arbor (Mich.): Эрмитаж, 1982. С. 109. 16 — На все прекрасные рассуждения о душе мы получали от него убедительные доказательства противоположного. В неподвижном теле, которое не отзывается даже на пощечину, души нет. <…>. В мертвенном свете рока становится очевидной бесполезность любых усилий»25. Смерть, с точки зрения Бродского, бесчеловечна и непобедима, она воспринимается как причина преодолеть ее абсурдности самого всеразрушающее Человеческого воздействие существования. может (хотя бы А на символическом уровне) лишь слово, и в первую очередь — поэзия, которая, по Бродскому, есть «высший предел речи, т.е. биологическая цель человека как вида»26. В стихотворении «…и при слове “грядущее” из русского языка…» (1976) поэт подчеркивал: От всего человека остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи [III, 143]. Таким образом, с точки зрения Бродского, лишь слово, лишь «часть речи» может хотя бы отчасти противостоять разрушительному всевластию времени и смерти. Поэтому слово, в особенности поэтическое слово, оказывается единственным не полностью разрушаемым носителем если не жизни, то хотя бы частички памяти о ней. Показательна в этом смысле фигура археолога в стихотворении «Только пепел знает, что значит сгореть дотла…» (1986), который откроет для людей будущего нашу цивилизацию: «<…> его открытие прогремит / на весь мир, как зарытая в землю страсть, / как обратная версия пирамид» [IV, 305], однако то, что останется от нас и чудом избежит полного разложения («не все уносимо ветром, не все метла, / широко подбирая по двору подберет» [IV, 305], — горько ироническая аллюзия на «нет, весь я не умру»27 из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»), — это лишь «падаль», не Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990. С. 73. Там же. С. 31. 26 Бродский И.А. Послесловие к книге // Кублановский Ю.М. С последним солнцем. Paris: YMCApress, 1983. С. 365. 24 25 17 вызывающая у живого человека (открывшего эту древнюю цивилизацию археолога) ничего, кроме неудержимого приступа рвоты. Так, по Бродскому, проявляется могущество смерти и тщетность всех человеческих упований. Показательно и то, что в стихотворении «Колыбельная» (1992) экзистенциальное отчаяние проецируется даже на Бога. Богородица, родившая Сына в пустыне близ Вифлеема, со сдержанной скорбью и мужеством призывает своего Сына привыкать «к пустыне / как к судьбе», потому что для Бога мир людей — та же пустыня: «Где б ты ни был, жить отныне / в ней тебе» [IV, 116]. В этом лирическом апокрифе природа Иисуса трактуется в духе монофизитской ереси — как исключительно божественная, и именно поэтому Христос будет бесконечно одинок среди по сути чуждых Ему людей, а затем обречен на такое же одиночество «в бескрайней пустоте», после Вознесения. Однако, по словам Богородицы, Бог-Отец «в пустыне / дольше нас» [IV, 117], иначе говоря, Его страдание глубже и значительнее, чем чье бы то ни было. Экзистенциальное страдание проецируется Бродским на бессмертного Бога, избавленного от страха смерти, но зато томящегося от безысходности и одиночества. И эта символически значимая картина с особой силой выявляет всевластие экзистенциального абсурда и необходимость исключительного мужества для хотя бы частичного противостояния бесчеловечной природе бытия. Субъективный антропологический пессимизм Бродского, пронизывающий его художественный мир, таким образом онтологизируется. 27 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л.: Наука, 1979. С. 340.