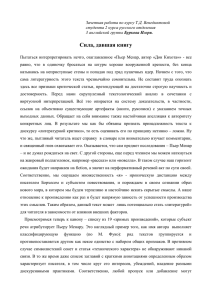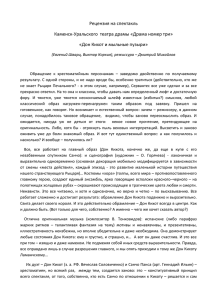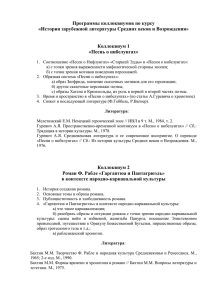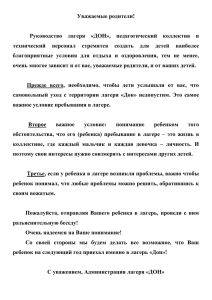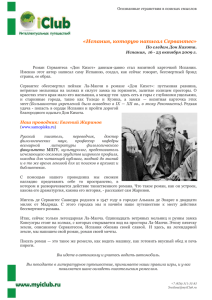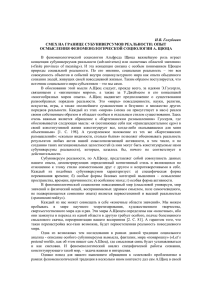Курс Т.Д. Венедиктовой Гринка А. А., 7 итал., р/г Задание№1 П
реклама
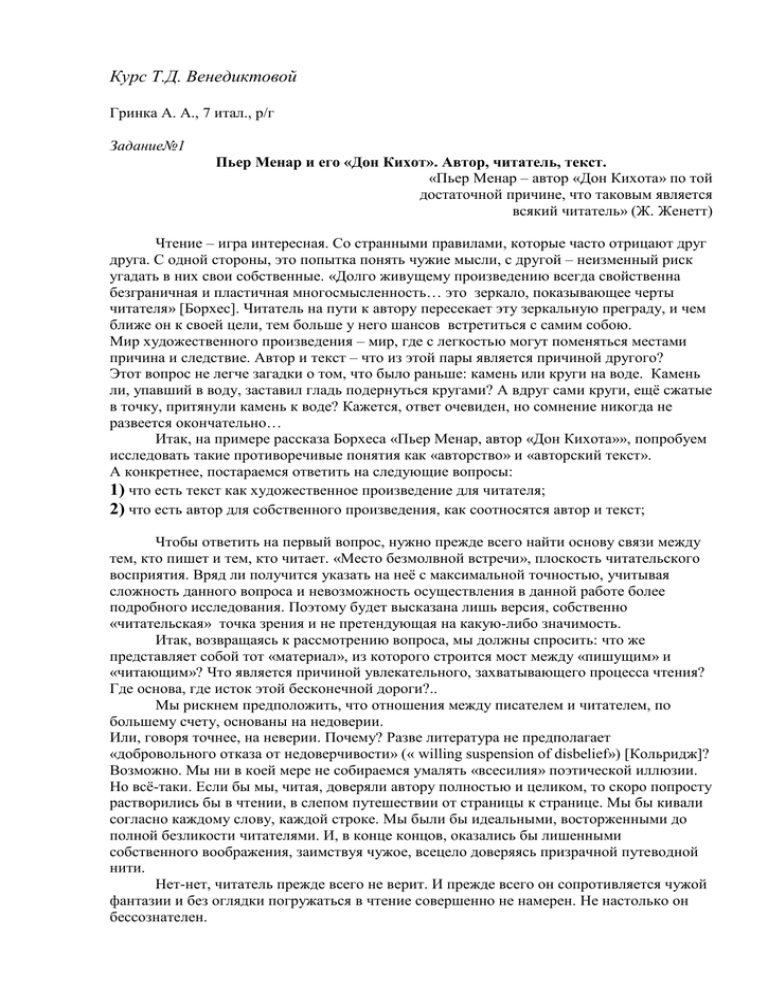
Курс Т.Д. Венедиктовой Гринка А. А., 7 итал., р/г Задание№1 Пьер Менар и его «Дон Кихот». Автор, читатель, текст. «Пьер Менар – автор «Дон Кихота» по той достаточной причине, что таковым является всякий читатель» (Ж. Женетт) Чтение – игра интересная. Со странными правилами, которые часто отрицают друг друга. С одной стороны, это попытка понять чужие мысли, с другой – неизменный риск угадать в них свои собственные. «Долго живущему произведению всегда свойственна безграничная и пластичная многосмысленность… это зеркало, показывающее черты читателя» [Борхес]. Читатель на пути к автору пересекает эту зеркальную преграду, и чем ближе он к своей цели, тем больше у него шансов встретиться с самим собою. Мир художественного произведения – мир, где с легкостью могут поменяться местами причина и следствие. Автор и текст – что из этой пары является причиной другого? Этот вопрос не легче загадки о том, что было раньше: камень или круги на воде. Камень ли, упавший в воду, заставил гладь подернуться кругами? А вдруг сами круги, ещё сжатые в точку, притянули камень к воде? Кажется, ответ очевиден, но сомнение никогда не развеется окончательно… Итак, на примере рассказа Борхеса «Пьер Менар, автор «Дон Кихота»», попробуем исследовать такие противоречивые понятия как «авторство» и «авторский текст». А конкретнее, постараемся ответить на следующие вопросы: 1) что есть текст как художественное произведение для читателя; 2) что есть автор для собственного произведения, как соотносятся автор и текст; Чтобы ответить на первый вопрос, нужно прежде всего найти основу связи между тем, кто пишет и тем, кто читает. «Место безмолвной встречи», плоскость читательского восприятия. Вряд ли получится указать на неё с максимальной точностью, учитывая сложность данного вопроса и невозможность осуществления в данной работе более подробного исследования. Поэтому будет высказана лишь версия, собственно «читательская» точка зрения и не претендующая на какую-либо значимость. Итак, возвращаясь к рассмотрению вопроса, мы должны спросить: что же представляет собой тот «материал», из которого строится мост между «пишущим» и «читающим»? Что является причиной увлекательного, захватывающего процесса чтения? Где основа, где исток этой бесконечной дороги?.. Мы рискнем предположить, что отношения между писателем и читателем, по большему счету, основаны на недоверии. Или, говоря точнее, на неверии. Почему? Разве литература не предполагает «добровольного отказа от недоверчивости» (« willing suspension of disbelief») [Кольридж]? Возможно. Мы ни в коей мере не собираемся умалять «всесилия» поэтической иллюзии. Но всё-таки. Если бы мы, читая, доверяли автору полностью и целиком, то скоро попросту растворились бы в чтении, в слепом путешествии от страницы к странице. Мы бы кивали согласно каждому слову, каждой строке. Мы были бы идеальными, восторженными до полной безликости читателями. И, в конце концов, оказались бы лишенными собственного воображения, заимствуя чужое, всецело доверяясь призрачной путеводной нити. Нет-нет, читатель прежде всего не верит. И прежде всего он сопротивляется чужой фантазии и без оглядки погружаться в чтение совершенно не намерен. Не настолько он бессознателен. Парадокс в том, что, «используя» это неверие, играя с ним, литература и создает те самые «клинья, которые писатель вбивает в личность читателя» [Э. Канетти]. Т. е. создает то, что заставляет нас «уходить в чтение» с головой и получать странное от этого удовольствие. Здесь срабатывает удивительный механизм самообмана. Легкопружинная мышеловка для отяжеленной чтением мысли. Что происходит, когда мы берем в руки книгу? Сначала с нашим пониманием вымышленности художественного мира вроде бы соглашаются, «поддакивают», одобряют неверие: мы видим так называемую раму произведения, читаем заглавие, имя автора… То есть наблюдаем подчеркнуто четкие границы вторичной реальности, и эти границы вроде бы должны только помогать не верить. Но вот тут-то как раз и начинается самое интересное. Дело в том, что хотя мы и отказываемся наивно верить вымыслу, мы не можем избегнуть соприкосновения с ним. Да, книжному миру мы не доверяем. Но мы верим собственным субъективным переживаниям, основанным на реальном опыте. Доверяем своему внутреннему миру, созданному из этих переживаний. И, чтобы ярче ощутить этот мир, нам необходимо увидеть его на контрастном фоне вымышленной реальности. Которая воспринимается как неправда в отличие от «истины» личностного опыта. Чтение как акт приобщения к миру «чужому» и искусственному здесь выступает в роли трамплина. Отталкиваясь от художественного произведения, читатель устремляется к плоскости мира субъективного, в область своего опыта, своих переживаний. И этот «читательский» мир проявляет себя постольку поскольку отрицает писательский и поскольку отталкивается от чужой «искусственной реальности», в которую продолжает не верить читатель. Это, конечно, не есть процесс моделирования внутреннего мира, но есть процесс нахождения своей позиции относительно него. То есть даже не себя находим мы, читая, а некую «смотровую площадку», точку зрения на самих себя. Исходя из этого, Пьера Менара, автора «Дон Кихота» вполне можно назвать таким «недоверчивым читателем», который вполне мог бы попасть ловушку этого недоверия. Но Менар в определенный момент словно «прозревает» и от подобной участи отказывается. «Не второго «Дон Кихота» хотел он сочинить — это было бы нетрудно, — но именно «Дон Кихота». Причем сочинить на основе своего личного опыта. Менару мало «отталкиваться» от вымысла книги, в поисках самого себя он отказывается от зеркала. Женетт подчеркивает борхесовскую мысль о том, что прежде чем быть читателем или автором, человек есть страница письма, т.е. существует полное тождество между «просто книгой» и «книгой Мира». И Менар по сути вписывает в книгу Мира свою историю, минуя «посредника» - книгу Сервантеса. Интересно, что вовсе не каждая книга вызывает в читателе заинтересованность, есть книги «чужие», «скучные», «неинтересные» для определенного человека. От чего это зависит? Возможно, помимо текстов собственно читаемых и уже написанных для каждого человека существует бесконечно нужный ему самому некий «необходимый текст». Его можно назвать отражением (неидеальным, всегда чуть искривленным) индивидуального мира, преображенного в текст. Чтение - подобно сократовской майевтике, способствующей рождению истины - помогает его обнаружить. Чтение есть плавное превращение жизненного и эмоционального опыта читателя в необходимый ему текст – процесс удивительный и зачастую неосознаваемый. Вспомним слова Борхеса о том, что человек – несовершенный библиотекарь: иногда, не найдя искомой книги, он пишет сам другую, ту же или почти ту же самую. Что же в связи с этим мы наблюдаем в рассказе «Пьер Менар, автор «Дон Кихота»? Мы видим, как главный герой решает перейти на другую, и возможно, более высокую ступень «превращения»: попробовать получить «необходимый текст» не в процессе чтения, а в процессе непосредственного и независимого преобразования внутреннего мира. Образно говоря, он решает преодолеть огромное расстояние без предварительного разбега, без трамплина. При этом он вовсе не мыслит «Дон Кихота» как произведение «неизбежное», необходимое. «Дон Кихот» — книга случайная, «Дон Кихот» вовсе не необходим» - замечает Пьер Менар, отдавая всю дань восхищения творениям По. Почему же Менар решает писать именно «Дон Кихота», а не какое-либо из произведений По? Означает ли это отказ от слишком легкой задачи: сотворить то, что наиболее близко его душе? Возможно. Однако обратим внимание на следующие слова Менара: «Общее мое впечатление от «Дон Кихота», упрощенное забывчивостью и равнодушием, можно вполне приравнять к смутному предварительному образу еще не написанной книги». Кажется, он относится к произведению Сервантеса как к делу, которое ещё предстоит сделать. Вероятно, это и является значимой причиной. Менар ощущает «незавершенность» «Дон Кихота» так же, как ощущает незавершенность собственной жизни. Т. е. творения По кажутся ему настолько законченными и совершенными, насколько законченной предстает чья-то чужая, прожитая другим человеком жизнь. «Дон Кихот» же, возможно, в такой степени близок Менару, что, не осознавая того сам, он благодаря этой книге видит себя самого, свою ещё не завершенную жизнь. «Мое предприятие, по существу, не трудно» говорит Менар и добавляет: «Чтобы довести его до конца, мне надо было бы только быть бессмертным». Появляется парадокс: книжный текст оказывается непомерно длиннее человеческой жизни, ориентироваться на него невозможно. В случае с Менаром книга пережила автора в буквальном смысле: Пьер умирает, а текст его «Дон Кихота» остается недописанным – для мира. В то время как для Менара, возможно, этот текст уже был написан и исчерпан всего в двух главах. Здесь мы переходим ко второму вопросу: что есть автор для собственного произведения? Зачастую автор для читателя предстает в качестве своеобразной «предыстории» текста, он для нас - некое «персонифицированное» прошлое настоящего произведения. «Для тех, кто верит в Автора, он всегда мыслится в прошлом по отношению к его книге; книга и автор сами собой располагаются на общей оси, ориентированной между дo и после; считается, что Автор вынашивает книгу, то есть предсуществует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же предшествует своему произведению, как отец сыну» [Р. Барт]. Но такое понимание автора как творца текста свойственно уже нашей эпохе, иначе дело обстояло в прошлом. Пастернак в «Докторе Живаго» весьма точно описывает русскую народную – почти импровизационную – песню: «Это безумная попытка словами остановить время». Слова, ещё не закованные в текст, ещё свободные от автора, воздействуют на мир hic et nunc, вплетаются в него, появляясь и тут же исчезая – для того чтобы позже появиться вновь. Фуко, сравнивая культуру письма в прошлом с таковой в настоящем, приводит в пример «Тысяча и одну ночь» и говорит о том, что «рассказ Шехерезады -- это отчаянная изнанка убийства, это усилие всех этих ночей удержать смерть вне круга существования» [М. Фуко, «Что такое автор. «Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности»]. «Теперь же «Письмо – это добровольное стирание… Творение, задачей которого было приносить бессмертие, теперь получило право убивать – быть убийцей своего автора». Теперь не слова «врастают» в мир – сам писатель растворяется в нем, практически исчезая. В одном из рассказов Борхеса «Тлён, Укбар, Orbis Tertius» мы находим весьма интересную мысль, почти фантастическую: «Само собой разумеется, что все произведения суть произведение одного автора, вневременного и анонимного». Женетт в статье «Утопия литературы» [«Фигуры», т.1], подробно исследуя этот «борхесовский миф», говорит об удивительном «экуменическом чувстве восприятия литературы как великого безымянного творения». Можно ли, исходя из этого, назвать Пьера Менара таким же полноправным автором «Дон Кихота»? Получается ли, что и «первого» «Дон Кихота», «Дон Кихота» сервантесовского можно было бы приписать Пьеру Менару при условии полного забвения первого автора? Ведь тексты обеих книг были бы друг другу идентичны? А значит, книги эти одинаковы и по сути являются одним произведением (или произведением и его копией)? Ведь возникает же подобное впечатление у повествователя в рассказе Борхеса: «Признаться ли, что я часто воображаю, будто он его завершил и будто я читаю "Дон Кихота" - всего "Дон Кихота", - как если бы его придумал Менар?». Однако доверять впечатлению этого исследователя не будем. Оно вполне может оказаться ошибочным. Ведь он же, сравнивая далее главы двух «Дон Кихотов», отмечает их различие – при полной тождественности текстов. Контраст стилей, контраст смыслов, вложенных разными авторами. Более того, «окончательного» «Дон Кихота» предлагается рассматривать как «палимпсест, в котором должны сквозить контуры — еле заметные, но поддающиеся расшифровке - "более раннего" почерка нашего друга». Предложение это скорее всего вызвано тем, что исследователь смотрит на книгу именно сквозь призму понятия «авторство». Исчезающие слова он пытается закрепить на личности автора, и идея о существовании писателя-современника кажется ему привлекательной. Но слова всё равно остаются свободными, и по сути ни Пьер Менар, ни даже Сервантес хозяевами текста не являются. Нет никакой «одинаковости»: два «Дон Кихота» являются одним текстом не в силу тождества текстов, но в силу изначальной его свободы. «Для Борхеса автор не обладает и пользуется никакими преимущественными правами над произведением, оно находится в публичном пользовании и живет лишь своими неисчислимыми связями с другими произведениями в безграничном пространстве чтения» [Женетт]. Бесконечные связи, бесконечный лабиринт. И Сервантес, и Пьер Менар в нем – всего лишь двери, ведущие в одну и ту же комнату. А «какой дверью воспользоваться», кого считать автором – это, по всей видимости, должен решить для себя читатель. Он и является главным игроком в странной игре и странном мире чтения. Задание№2 Что такое филолог? – на пути к профессиональной идентичности. В «Сказке бочки» Свифта одно из рассуждений «внезапно» прерывается пробелом, который комментируется весьма благосклонно: «…Полагаю, что автор поступил благоразумно, так как предмет… не стоил того, чтобы ломать над ним голову». Как и мне бы хотелось сейчас оставить чистым этот «листок» вместо того, чтобы заполнять его своими пустыми и никому (наверное) не нужными размышлениями! Нет, разумеется, вовсе не потому, что о филологии мне сказать нечего или потому, что она не «стоит того, чтобы ломать над ней голову». Просто порой кажется, что уже всё о ней давным-давно сказано-пересказано другими, куда более умными людьми. Но, как говорится, судьбу не обманешь, и если уж таково это задание, то… я попробую, пожалуй. Но, признаться, на вопрос «что такое филолог?» решительно не знаю, что ответить. Нет, даже не так: не знаю, как следует отвечать. Ведь в большинстве своем вопросы задаются именно с целью услышать некий уже известный ответ, и ответ удобный, интересный. А я не знаю такого. Любая профессия для меня – загадка. Филолог, возможно, - одна из труднейших. Даже с точки зрения профессиональной идентичности. Решение поступить именно на филологический факультет было вызвано… нет, я, пожалуй, и вспоминать не решусь. Может быть, потому, что читать люблю. Или потому, что люблю писать. Или, на худой конец, потому, что математику в школе не любила. Для меня не важно помнить причину. Её можно всегда придумать, если потребуется. Просто в какой-то момент решилось: «Поступаю сюда. Мне это нужно». Даже не импульс, а скорее дружеский совет, наверное. Не знаю. Снова – не знаю. Как бы банально это ни звучало, думаю, по-настоящему человек понимает, почему он поступил на филологический, только некоторое время проучившись на данном факультете. «Некоторое время» - срок для каждого свой. Кто-то поймет уже через полгода, а кому-то мало и пяти лет. О себе скажу так: мои представления о филологии изменились совсем уж недавно. Возможно, даже всего пять-шесть дней назад…неважно. Я поняла, что филология – это далеко не только «бесконечное путешествие» по другим временам и копание в текстах. Филология – это в первую очередь движение не от людей, а наоборот к ним. Бесконечное возвращение. И самый ценный навык. Нужно только уметь «правильно» его приобретать: не осмысливать реальность как текст или текст как реальность, а найти «золотую середину», совмещать эти точки зрения…а иногда и сопротивляться им. Этим, на мой взгляд, процесс филологического образования и интересен. А нужна ли филология в современной жизни… Думаю, да, раз она всё ещё существует. Пока жива литература и пока есть люди, любящие её, будет нужна и филология – как нужен для большого оркестра дирижер. Просто, чтобы уметь в многозвучии поймать верную мелодию, слышать её, а если нужно – добавить к ней и свой голос.