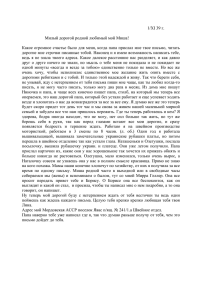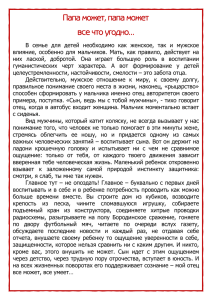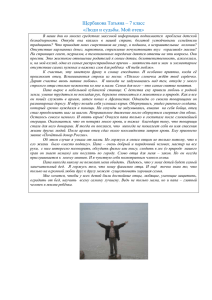Денис Евстигнеев
реклама

Денис Евстигнеев ЗА ГРАНЬЮ “НОРМАЛЬНО” Мое любимое слово — это “нормально”. Оно мне досталось от отца. Это был его универсальный ответ почти на все вопросы. Что стояло за этим “нормально”, остается только догадываться, помня о его пяти инфарктах. Мы начали ближе общаться лишь к концу его жизни, когда он стал более открытым, или, говоря по-другому, более счастливым, когда я уже избавился от многих своих комплексов и когда биологическое родство переросло наконец в душевное. Но и в его последние годы у нас не было долгих разговоров за жизнь, мы не поверяли друг другу душевные тайны. Просто я стал ощущать отца. Он вообще никогда не был многословным. Если можно было промолчать, он молчал. При необходимости высказаться обходился зачастую междометиями, мычанием, кашлем — эта палитра была у него разнообразна, и отсутствие слов отнюдь не обедняло смысла сказанного, придавая ему скорее некую объемность, неоднозначность. Стоило отцу появиться в любой компании и хотя бы кашлянуть, как внимание тут же приковывалось к нему. Мама рассказывала, как однажды на спектакль “На дне” пришел Анджей Вайда, чтобы посмотреть отца в роли Сатина. Она знала, что знаменитый горьковский монолог “Человек — это звучит гордо” отец чаще всего произносил своими словами. Опасаясь, что польский режиссер заметит фальсификацию классики, она подошла перед спектаклем к отцу и попросила повторить текст, на что тот согласно кивнул и сел за листы. Однако в решающий момент уже настроенная на полный текст мама по-прежнему услышала лишь несколько слов, сопровождаемых мычанием. Она в ужасе шепнула Вайде: “Извини, он забыл текст”. На что тот ответил: “Галя, того, что он сказал, было вполне достаточно”. И этого действительно было всегда достаточно. Например, для того чтобы поступить в Горьковское театральное училище, отцу даже не пришлось чтолибо читать. Он работал в Горьком слесарем на заводе “Красная Этна” и в свободное время играл на ударных в самодеятельном джаз-ансамбле, развлекавшем публику в фойе перед фильмами. В это время там оказался директор местного театрального училища Виталий Александрович Лебский. Поначалу, как он потом рассказывал, Лебский даже не понимал, что заставляло его поворачиваться в сторону оркестра. Исполняемая музыка его не интересовала, но голова невольно поворачивалась в ту сторону, откуда исходили громкие звуки. Через несколько минут он понял, что его внимание привлек парень, вытворявший нечто невообразимое с барабанными палочками и так самозабвенно заслонявший собой весь оркестр, что оторваться от него было невозможно. Лебский подошел к нему и спросил, не хочет ли он быть драматическим актером. — Не знаю, а зачем? — поинтересовался отец. Но Лебский вручил ему свои координаты, и через два дня отец зашел и был принят. Когда семь лет спустя экзаменационная комиссия Школы-студии МХАТ приехала во Владимир набирать студентов, отец, уже имевший к тому моменту успех в местном драмтеатре, прочел перед ней лишь одну строчку из заявленного монолога Брута. — Римляне, сограждане, друзья, — начал он. Его глаза наполнились слезами, но вместо слов Шекспира комиссия услышала все в той же трагической интонации: — Извините, забыл. Несмотря на это, его приняли в школу-студию, причем сразу на третий курс. Сам отец, говоря об успехах других, называл это “витамином Т”, то есть талантом. По-другому не объяснить, как парень из деревни под Нижним смог потом достоверно играть царей и профессоров. Это было помимо “системы”. В жизни он был очень далек от всяческого артистизма, экзальтаций, порывов, кризисов и прочих атрибутов, приписываемых его профессии. Насколько я знаю, у него не случалось “творческих мук”. Получая роль, он читал ее, а потом, бывало, в шутку добавлял: “А теперь самое сложное — выучить текст”. Среди его близких друзей не было поэтов, писателей и прочих творческих деятелей. Из актеров — только Сошальский. Два других близких друга — директор гастронома Семен Моисеевич и автослесарь из ремонтной мастерской. Когда мама сказала, что он должен иногда приезжать и гулять со мной (он ушел из семьи, когда мне было три года), он не водил меня ни в цирк, ни в кино, ни в зоопарк. Набор его встреч был одновременно банален и совсем не банален: он водил меня в гастроном и в гараж. Там он садился выпивать и беседовать, импровизируя стол на капоте машины или на ящике, а я был предоставлен себе. Помню прохладное подвальное помещение гастронома, где отец с Семеном Моисеевичем садились пить живое пиво с воблой. Мне выдавали в виде сухого пайка какой-нибудь дефицит, например колбасу или рыбу, и я, вполне удовлетворенный, мирно грыз его, уже не возникая. Часто бывал я и в гараже. Это был второй дом отца, если даже не первый. Он не обращал внимания на многие проявления материального мира, в частности на одежду, но с машинами у него были особые отношения. Наивысшим его достижением была покупка “Мерседеса”. Голубого — цвет приводил его в особый восторг. Разумеется, запчастей к “Мерседесу” в Советском Союзе не было, поэтому выкручиваться приходилось по обстоятельствам. Помню, как однажды он открыл капот и, с гордостью указывая на разные детали, поведал мне, что какие-то из них переставлены сюда из самолета, а какие-то — из грузовика ЗИЛ. Второй его страстью, еще менее мне понятной, было кинолюбительство. Отец относился к любительской съемке с благоговением. Фактически он делал документальное кино. Он снимал не только свою семью, он выходил на улицы и снимал все подряд, что видел. Сегодня даже при условии наличия дешевых видеокамер тяжело представить, что кто-то может выйти на улицы и начать снимать без всякой особой цели. А он делал это тогда, когда процесс был в разы более трудоемок и дороже. В нем было неугомонное любопытство ко всему, что происходило вокруг. Возможно, его интерес к кинотехнике был обусловлен еще одним фактором. Когда он приехал из Владимира и заселился к маме в профессорскую квартиру моего деда, известного кинооператора Бориса Волчека, его приданое составлял один чемодан и анекдотичная шуба, которая весила примерно столько же, сколько человек, и могла стоять на полу самостоятельно. Поэтому огромная коллекция камер и фотоаппаратов моего деда, занимавшая целую комнату, не могла не произвести на него впечатления. Вероятно, она казалась ему пещерой Сим-Сим с сокровищами и олицетворяла полный и окончательный жизненный успех. Спустя годы мне довелось увидеть похожую картину в Японии. Мы с отцом оказались там по совпадению: я — со съемками, а он — с гастролями МХАТа. Жизнь вокруг поражала автоматизацией и соблазнами, а деньги на поездку выдавались смешные. Мои суточные молниеносно закончились, поэтому, когда я встретил отца, моей второй фразой после “Привет, папа” было “Дай денег”. “Нету”, — развел руками отец. Он повел меня в свой номер, и там я увидел целую стену коробок, в которых были разнообразные модели видеокамер, магнитофонов, телевизоров и всего, что только можно было приобрести в Японии. “Вот!” — ликующе объявил он. Я, разумеется, был далек от ликования. “А теперь я покажу тебе нечто совсем удивительное”, — продолжил отец и потащил меня в подземный переход у гостиницы, где остановился перед автоматом, выдающим банки. Он опустил туда мелочь, и из автомата выкатилась банка саке. “Мы с Кашпуром нашли саке по восемь!” — радовался он. Мы распили эту банку в номере — ни на что другое денег уже не было. Антон Табаков ВОЛГА-ВОЛГА Я не уверен в том, что люди, родившиеся на Волге, — а мы с отцом появились на свет в Саратове — обладают природной склонностью к плаванию. Папа, например, так плавать и не научился, я же освоился в воде легко и быстро. Были у нас с папой и по-настоящему длительные путешествия — наши традиционные поездки в Саратов. Тут уж мы не всегда брали с собой других членов семьи и часто ездили вдвоем. В одной из этих поездок я неожиданно обнаружил, что мой папа действительно актер и действительно глубоко любим народом. Прежде на этот счет у меня были некоторые сомнения. Хотя иногда, когда он брал меня с собой в магазин, я видел счастливые, со слезами на глазах лица продавщиц, которые, засовывая руку под прилавок, куда-то совсем-совсем глубоко, вынимали бананы того желтого цвета, которого им вообще-то положено быть. Но тогда это было чудо, поскольку я совершенно точно знал и готов был поклясться, что бананы — это зеленый продукт, они несъедобны и не всегда дозревают, даже если, согласно ритуалу, положить их надолго в темное место. Желтыми же они были только в тех пакетах, которые давали папе благодаря его известности. И все же для меня существовал только один великий актер — Андрей Александрович Миронов, и один выдающийся режиссер — Никита Сергеевич Михалков. А папа, конечно, тоже был актером и иногда режиссером, но все же сравнение с этими двумя величинами было явно не в его пользу. Так вот, однажды по пути в Саратов — вернее, в небольшой его пригород, где мой дед Павел Кондратьевич работал в местном санатории, — на грунтовой дороге нас застал ужасающий ливень. Творилось что-то невообразимое, кругом бурлили потоки воды и грязи. Машина встала, а потом начала медленно сползать в кювет на глазах у растерявшегося папы. Поскольку он весьма редко позволял себе быть растерянным, я понял, что случилась настоящая катастрофа. На улице ночь, ничего кругом нет, только вдалеке маячат тусклые огоньки. Мы пошли на их свет в надежде найти хоть какую-то подмогу. Подходим к дому, стучимся — дверь открывается, и до нас доносятся знакомая мелодия и слова, которые к тому времени выучил даже я: “Мгновения, мгновения, мгновения...” На маленьком экране с водяной линзой мелькают нечеткие силуэты папы и Вячеслава Васильевича Тихонова, а на нас совершенно ошалевшими глазами смотрят люди, узнавшие в стоящем перед ними вымазанном глиной и промокшем человеке холеного героя телефильма. Потом вся деревня в едином порыве вытаскивала нашу “Волгу”, толкала ее к какому-то отстойнику, мыла и приводила в порядок. Нас усадили за стол, что-то говорили... И тогда, в той деревне, я понял, что, наверное, и мой папа тоже имеет к этой огромной любви какое-то отношение. И для меня в тот момент он почти сравнялся с Мироновым и Михалковым. Во всяком случае, по популярности. Папа всегда был очень консервативен и до распада Союза ни разу не изменил “Волге”. Хотя, как мне казалось, покупая маме “Жигули”, он с видимым удовольствием и как-то очень залихватски ехал на этой компактной машинке: что-то напевал, барабанил пальцами, постукивал по рулю. Потом пришли времена, когда разные деятели культуры стали приобретать иностранные автомобили и поглядывать в сторону западной технологии. Но и тогда папа говорил, что советский человек должен ездить на советской машине и он тоже будет ездить на советской машине, потому что в противном случае ему тяжело будет объяснять обожающим его простым согражданам, почему он позволяет себе “такую роскошь”. Когда СССР не стало, эта философия себя исчерпала, и папа стал пересаживаться на иностранные джипы, большие и громоздкие. В них он чувствует себя комфортно. Меня всегда потрясала папина беззаветная преданность тому делу и тому ремеслу, которым он занимается, и его совершенно искреннее непонимание, как другой человек может относиться к этому делу иначе. У меня была уже вторая или третья машина, когда на заправках полностью исчез бензин. Купить горючее можно было только у “поливалок”, которые продавали его канистрами. А поскольку гаража у меня не было, канистры эти хранились в багажнике моих “Жигулей” восьмой модели. Как-то летом мне нужно было срочно заехать в “Современник”. Багажник под завязку забит канистрами с бензином, я стою на светофоре на пересечении бульваров и улицы Горького, обзор слева загораживает автобус. Зажигается зеленый, но автобус не трогается, а водитель начинает изображать что-то лицом, подавая мне какие-то знаки: как потом оказалось, со своей высоты он увидел “Жигули”, которые на огромной скорости неслись в сторону центра, не обращая внимания на сигналы светофора, и пытался меня предупредить. Но я его не понял и нажал газ. “Жигули” я заметил в последний момент, когда столкновение было неизбежно. Я попытался проскочить, чтобы они влетели хотя бы не в мою дверь. Удар пришелся в заднее крыло и был настолько сильным, что мою машину отбросило на пешеходный переход, канистры посыпались из багажника, весь бензин растекся вокруг. Чудо, что он не загорелся. И чудо, что я единственный раз в жизни был пристегнут. Меня вытащили из машины и отвезли в Институт Склифосовского, потому что, хотя внешне я выглядел совершенно нормально, только порезал руку, мне было почему-то больно дышать. Кто-то вызвонил отца, и он очень быстро приехал, сбежав с какого-то совещания. Мне стали делать снимок и попросили вздохнуть. Я набрал воздуха в грудь и... начал терять сознание, обмяк. Меня подхватили под руки, и тут вошел отец. Ему сказали, что у меня сломано несколько ребер. Он посмотрел на меня, увидел, что я жив, задал пару вопросов врачам и, поняв, что все обошлось, заторопился уходить. Напоследок повернулся ко мне и сказал: “Да, Тоша, у тебя сегодня спектакль, так что не забудь попросить, чтобы прислали машину из театра, потому что тебе самому будет тяжело добраться”. Сказал он это как-то впроброс, потому что мысли его были совсем в другом месте — он должен был бежать, но эти слова я запомнил на всю жизнь. Галина Волчек САМЫЙ КРАСИВЫЙ НА СВЕТЕ ПАПА Он мало рассказывал о своем детстве и семье. Я не застала свою бабушку по папиной линии и сестру его не застала, только одного дядю. Он был москвичом, и его я, естественно, знала. В ответ на расспросы о детстве папа всегда начинал рассказывать о Шагале. Они жили рядом в Витебске, дом в дом, и хотя Марк Лазаревич был старше на несколько лет, папа всегда вспоминал, как они с Шагалом вместе бегали размешивать краски художнику Пену. Папа вспоминал Шагала просто с какой-то невероятной, осознанной близостью. Когда я уже стала режиссером и начала ездить за границу, папа всегда мечтательно говорил: “Ну когда же ты поедешь во Францию? Мне так хочется, чтобы ты зашла с моей записочкой к Марку Лазаревичу Шагалу, и он тебя наверняка хорошо и тепло примет, и ты увидишь его мир не в музеях, а вблизи...” Но папе не повезло. Его желание не сбылось. Привет от папы я смогла передать только в позапрошлом году, когда мы были в Париже на гастролях. Леня Парфенов, снимавший обо мне фильм к юбилею, повез меня на кладбище, и я положила Шагалу на могилу цветы — от папы... Я, к сожалению, никогда не была послушной дочерью. Первый и самый сильный удар я нанесла папе, когда я закурила. Дело в том, что мы с Наташкой, моей подругой, дочкой Ромма, во всем хотели подражать ее маме, актрисе Кузьминой. Она была очень известной в то время артисткой. Фигуру Кузьминой, полулежащую на диване и раскладывающую пасьянс с сигаретой в руке, я восторженно наблюдала все детство. Мы с Наташкой все в ней хотели повторить. Пытались сделать прическу, как у нее, — такой кок, пытались лечь полулежа... Мы не понимали, почему у нее все это так получается. Сегодня бы написали: она это делала “очень сексуально”. Но мы тогда не понимали, что именно в ней было такого вызывающе прекрасного, но оно было. Вот этот поворот головы, взгляд, рука с сигаретой... И мы с Наташкой, стоя около зеркала, всеми силами пытались это воспроизвести. Было нам лет семнадцать. И когда папа нас застукал... Он сам курил и, видимо, понимал, к чему это приведет. Но он не сказал мне “Не делай этого” или “Накажу”. Он никогда бы так не сказал. Он просто молча заплакал. На меня это произвело сильнейшее впечатление. Но не остановило. Поэтому наша первая серьезная ссора случилась, когда я Евстигнеева привела в роли своего жениха. Няня была откровенно в ужасе. Она ведь с детства говорила: “Наша Галька выйдет за какого-нить самостоятельного”. Имелся в виду состоятельный человек: мы жили в доме, где были знатные женихи — Эрик Пырьев и т. д. А тут пришел Евстигнеев. Няня укоризненно сказала: “Как ему не стыдно лысому-то ходить? Хоть бы какую шапчонку одел!” А папа ничего не сказал. Просто посмотрел. И этого оказалось достаточно. К тому времени папа женился. Он не женился до того времени, пока я не окончила школу и не поступила, хотя эта дама присутствовала в его жизни. Даме не понравился ни мой жених, ни я. И я, однажды почувствовав это, гордо взяла за руку Женю и ушла, не взяв ни вилки, ни простыни, ни наволочки. Няня ушла с нами. Я устроила ее жить к товарищу, и как только мы сняли комнату, Таня поселилась с нами. Мы ушли в никуда. Ночевали первую ночь на Киевском вокзале, а потом сняли комнату на “Маяковке”. После этого я потеряла с папой связь на четыре года. Я не могла простить неприятие Жени папиной жене, а заодно и папе. Я не помню, как мы соединились обратно. Кажется, инициатором была я. Я ведь была взрослым человеком: все-таки уже был ребенок... Но я всегда считала, что папа был в каких-то ложных обстоятельствах, когда женился на этой женщине. Впоследствии я потрясла ее тем, что отказалась от папиного наследства. Это была моя принципиальная позиция. Я считала, что если я при жизни ничего у папы не брала, то не должна брать, когда его нет. И понять это она не смогла. Я ничего не знаю про квартиру, где я провела детство, — папину квартиру. Даже не интересовалась. Видимо, она досталась тому, кто помогал и ухаживал за этой женщиной. Когда она осталась одна, уже после папы, она не захотела принимать мою помощь: видимо, боялась, что я буду претендовать на квартиру, и поэтому ушла в тень, чтобы я ее не достала. С папой мы в последний раз разговаривали 14 мая 1974 года. Накануне его смерти. Он рассказал, что на следующий день собирается на “Мосфильм” (у них там было какое-то собрание), а потом поедет покупать какую-то аппаратуру: он был совершенно на ней помешан. В то время купить было ничего нельзя, все доставалось через знакомых и комиссионки. По комиссионкам бегали безумные папа, Кармен, Калатозов — все они встречались, друг у друга смотрели трофеи, обменивались... В общем, он мне все это рассказал, мы попрощались, поцеловались с ним по телефону, пожелали друг другу спокойной ночи... На следующий день у меня была очередная сдача спектакля “Эшелон”, который не принимали пятнадцать раз. Это было абсолютное издевательство. Нам не разрешали делать декорации. Мы играли для комиссии в комнатке на пятом этаже. Комиссия приходила в полном составе, смотрела — и уходила. Пятнадцать раз. Помню, как Ляля Черная, чудесная, талантливейшая актриса — она играла у меня там потрясающий маленький эпизод цыганки, — однажды бежала за ними и кричала: “Если у вас нет мнения, то хоть впечатление, по крайней мере, есть?!” Так вот, кончился прогон. Я заметила, что девочки-артистки на меня както странно смотрят. Как будто скрывают что-то. Я пошла по лестнице, с пятого этажа к себе в кабинет, и по дороге меня Лиля Толмачева взяла за руку: “Галя, я не знаю, как тебе сказать... Случилось несчастье”. Я сразу заорала: “Денис?” — “Нет, папа”... Уже потом мне позвонила Лидочка Смирнова, царствие ей небесное. Сказала: “Галя, я была последняя, кто держал папу за руку”. И тогда я узнала, как он умер. Он на этом собрании с ней поздоровался, рука была в руке, и вдруг упал. Так он ушел. Как всегда, стеснительно, молчаливо. Я очень много вижу в себе черт от папы. Нахожу их постоянно. Прежде всего терпимость. Без нее я не проработала бы столько лет на месте руководителя театра. Потому что оно требует не только и не столько властности, сколько безграничного терпения, а порой и такой дипломатии, которая ни одному дипломату не снилась. Нужно невероятное терпение, чтобы работать клеем БФ, соединяя несоединимое — артистов, даже при моей огромной к ним любви. Артисты — это все-таки нелегкое сооружение природы. Если бы не папино терпение, не умение прощать и склеивать, я бы этого не потянула... А в Денисе я папиных черт уже не вижу. Но вот что удивительно: он внешне так похож на моего отца. Татьяна Тарасова ПОБЕДИТЕЛЬ Какой гениальный праздник ты нам всем подарил, когда согласился отметить свою золотую свадьбу с мамой. Вы прожили вместе пятьдесят шесть лет! Но это торжество на даче стало главным триумфом вашей любви, вашей честно и красиво прожитой жизни. Собралась вся наша дачная округа, понаехала родня. Мы устроили пир, про который потом все вспоминали много лет. А ты был в центре. Седовласый хозяин, красавец, муж, отец, дед... Когда мне бывает грустно, я всегда вспоминаю этот свадебный стол в разгар жаркого июльского дня, и тебя во главе его, и сияющую маму рядом, и как ты ей говоришь “Эх, Нинка!”, и мне становится легче. Все-таки дожили, все-таки был в нашей жизни день, о котором я сейчас вспоминаю как об абсолютном и беспримесном счастье. Кажется, у тебя одного из всей команды ЦСКА была отдельная квартира с ванной в генеральском доме, облицованном мрамором и гранитом, рядом с церковью Всех Святых. Мы прожили здесь с мамой всю жизнь. Двухкомнатная квартира, с окнами на вечно грохочущую Ленинградку и улицу Алабяна, с ванной, которая была постоянно занята. Там мылись все наши родственники, чьи-то дети и какие-то малопонятные взрослые, которым тоже негде было помыться. Ты всех зазывал, всех привечал. А после ванны гости садились за стол. Открывалась бутылка вина. Сам ты почти ничего не пил, но обожал угощать, принимать и отмечать разные праздники и все свои великие победы. А вокруг стола сидели твои “ребята”, друзья, и казалось, что это твои взрослые сыновья, которых у тебя не было. У тебя были только мы с Галей, две твои девочки, твои любимые дочки. Ты нас учил, что отдых должен быть только в одном — в смене рода деятельности: закончила уборку — начинай стирку. Со стиркой закруглилась, займись готовкой. Все накормлены, давай принимайся за глажку. И так без конца. ...Вначале я ненавидела “фигурку” (так мы называли занятия фигурным катанием), потом втянулась, привыкла, потом полюбила, потом не смогла без этого жить. Когда после ужасной травмы стало ясно, что с большим спортом в моей жизни покончено, и я собралась поступать в ГИТИС, ты поинтересовался у мамы: “Что это за вуз?” Мама скорбно: “Театральный”. И ты через долгую паузу, от которой у меня всегда холодела спина, медленно произнес: “В нашем доме не было артистов и не будет”. А потом... твердо сказал мне: “Собирайся, дочка, и иди в секцию фигурного катания. Ты станешь тренером. У тебя всегда будет работа, и ты будешь счастлива со своими учениками”. Это был приказ, которого нельзя было ослушаться. Два раза я видела тебя плачущим: когда мне пробили голову и когда проиграла твоя команда. Часто ловлю себя на такой же реакции: в острые моменты, когда я кожей чувствую несправедливость, тоже могу подраться или отчаянно расплакаться. Ты так же и грибы собирал. Как будто шел на рекорд Книги Гиннесса. Мы уезжали к бабушке под Чехов и собирали их там целую машину. Только успевали считать: сто, сто шестьдесят, сто восемьдесят. Эта страсть осталась у тебя на всю жизнь. Однажды я приволокла тебе из Томска гору белых грибов. И мужики, которые меня встречали, спрашивали изумленно: а ты вообще откуда? А у меня в каждой руке по корзине по двадцать килограммов. И только белые! Мы с Галей их чистили, готовили, хотели тебя порадовать. Ты должен был вернуться из Финляндии. Приехал с четырьмя огромными чемоданами. Мы-то думали, там подарки, а когда открыли, там тоже грибы. А значит, еще три дня мы должны были не разгибаясь чистить, варить, солить, мариновать. Ты обожал делать разные заготовки на зиму: соленья, варенья, капусту. Батарея стеклянных банок на полках в твоем погребе, как коллекция “Оскаров”. Вкус твоих квашеных помидоров я помню до сих пор. У тебя в багажнике “Волги” обязательно хранились четыре ведерка: квашеная капуста кочанами, шинкованная капуста, огурчики, помидорчики. И еще складной столик. Вдруг по дороге приглянется какое-нибудь симпатичное место — можно будет сесть в прохладе и закусить. Красота! И вы с Сашей Гомельским обязательно где-нибудь закусывали. Ты наслаждался жизнью, ты смаковал ее, ты знал ее подлинный вкус. А еще ты умел делать потрясающие котлеты. Ты вставал всегда в четыре утра. Зарядка, пробежка, летом — теннис, потом ты сам затевал завтрак. Основательный, с котлетами, вареными яйцами, кашей. Настоящий тарасовский завтрак. И шел нас будить: “Девки, вставайте, нечего спать”. Мольбы бесполезны. Папа приготовил завтрак, значит, его надо съесть. Полусонные, полумертвые, мы тащимся на кухню. Жуем твои котлеты и... возвращаемся в постель досыпать. Еще один эпизод сейчас всплывает в моей памяти. Посреди зимы я решила нагрянуть к тебе на дачу. Ты же так любишь гостей! У меня новая подруга — Марина Неелова. Я хочу вас познакомить. Уверена, что вы понравитесь друг другу. Приезжаем. Ты счастлив. Мгновенно накрываешь стол, вытаскиваешь все свои запасы и вкусности, наливаешь нам клюквенной водки. Ты в ударе. Шутишь, рассказываешь свои истории. Ты неотразим. Между переменами блюд спрашиваешь шепотом, показывая на Марину: “Кто она?” — “Актриса”. — “Где играет?” — “В “Современнике”“. Ага! Пир продолжается дальше. И вдруг, обращаясь к Марине, на полном серьезе спрашиваешь: “А ты Зою Космодемьянскую играла?” Мы вздрогнули. При чем тут Зоя? А Неелова ему, глядя в глаза, весело: “Нет, Анатолий Владимирович, не играла”. — “А хочешь?” — “Нет, не хочу”. Ты темнеешь лицом: “Как? Ты не хочешь?” И что тут начинается! Да вы все антисоветчицы! Вон из моего дома! Чтобы ноги вашей здесь не было! И т. д. На улице минус тридцать, да мы еще выпили по рюмке... Делать нечего, влезаем в наши шубы, идем на выход. А мороз дикий, машина у меня никак не заводится. Что делать, непонятно. Вдруг ты вылетаешь из дома, как котят, выбрасываешь нас из “Жигулей”, заводишь их с полуоборота, прогреваешь и выключаешь. “Все, антисоветчицы, пошли допивать”. Все успокоились, и можно пировать дальше. Но интерес к Нееловой у тебя остался надолго. Ты много меня расспрашивал о ней, а не удовлетворившись моими ответами, сам пошел в библиотеку ЦСКА и заказал всю прессу, которая про нее на тот момент имелась. Ты изучил все рецензии на ее спектакли и фильмы, все ее интервью, как будто собирался написать диссертацию о ее жизни и творчестве. В какой-то момент ты набрал ее номер: “Ну здравствуй, великая актриса современности”. — “Ой, а кто это?” — “Это Толя Тарасов”. Маринка сползла со стула. Толя Тарасов! Тебе так остро захотелось хотя бы на минуту снова почувствовать себя молодым, снова пофлиртовать с красивой женщиной, чтобы она смеялась твоим шуткам, краснела от твоих комплиментов и называла тебя Толей, чего, кстати, Марина себе никогда не позволяла. Татьяна Тарасова ПОБЕДИТЕЛЬ Какой гениальный праздник ты нам всем подарил, когда согласился отметить свою золотую свадьбу с мамой. Вы прожили вместе пятьдесят шесть лет! Но это торжество на даче стало главным триумфом вашей любви, вашей честно и красиво прожитой жизни. Собралась вся наша дачная округа, понаехала родня. Мы устроили пир, про который потом все вспоминали много лет. А ты был в центре. Седовласый хозяин, красавец, муж, отец, дед... Когда мне бывает грустно, я всегда вспоминаю этот свадебный стол в разгар жаркого июльского дня, и тебя во главе его, и сияющую маму рядом, и как ты ей говоришь “Эх, Нинка!”, и мне становится легче. Все-таки дожили, все-таки был в нашей жизни день, о котором я сейчас вспоминаю как об абсолютном и беспримесном счастье. Кажется, у тебя одного из всей команды ЦСКА была отдельная квартира с ванной в генеральском доме, облицованном мрамором и гранитом, рядом с церковью Всех Святых. Мы прожили здесь с мамой всю жизнь. Двухкомнатная квартира, с окнами на вечно грохочущую Ленинградку и улицу Алабяна, с ванной, которая была постоянно занята. Там мылись все наши родственники, чьи-то дети и какие-то малопонятные взрослые, которым тоже негде было помыться. Ты всех зазывал, всех привечал. А после ванны гости садились за стол. Открывалась бутылка вина. Сам ты почти ничего не пил, но обожал угощать, принимать и отмечать разные праздники и все свои великие победы. А вокруг стола сидели твои “ребята”, друзья, и казалось, что это твои взрослые сыновья, которых у тебя не было. У тебя были только мы с Галей, две твои девочки, твои любимые дочки. Ты нас учил, что отдых должен быть только в одном — в смене рода деятельности: закончила уборку — начинай стирку. Со стиркой закруглилась, займись готовкой. Все накормлены, давай принимайся за глажку. И так без конца. ...Вначале я ненавидела “фигурку” (так мы называли занятия фигурным катанием), потом втянулась, привыкла, потом полюбила, потом не смогла без этого жить. Когда после ужасной травмы стало ясно, что с большим спортом в моей жизни покончено, и я собралась поступать в ГИТИС, ты поинтересовался у мамы: “Что это за вуз?” Мама скорбно: “Театральный”. И ты через долгую паузу, от которой у меня всегда холодела спина, медленно произнес: “В нашем доме не было артистов и не будет”. А потом... твердо сказал мне: “Собирайся, дочка, и иди в секцию фигурного катания. Ты станешь тренером. У тебя всегда будет работа, и ты будешь счастлива со своими учениками”. Это был приказ, которого нельзя было ослушаться. Два раза я видела тебя плачущим: когда мне пробили голову и когда проиграла твоя команда. Часто ловлю себя на такой же реакции: в острые моменты, когда я кожей чувствую несправедливость, тоже могу подраться или отчаянно расплакаться. Ты так же и грибы собирал. Как будто шел на рекорд Книги Гиннесса. Мы уезжали к бабушке под Чехов и собирали их там целую машину. Только успевали считать: сто, сто шестьдесят, сто восемьдесят. Эта страсть осталась у тебя на всю жизнь. Однажды я приволокла тебе из Томска гору белых грибов. И мужики, которые меня встречали, спрашивали изумленно: а ты вообще откуда? А у меня в каждой руке по корзине по двадцать килограммов. И только белые! Мы с Галей их чистили, готовили, хотели тебя порадовать. Ты должен был вернуться из Финляндии. Приехал с четырьмя огромными чемоданами. Мы-то думали, там подарки, а когда открыли, там тоже грибы. А значит, еще три дня мы должны были не разгибаясь чистить, варить, солить, мариновать. Ты обожал делать разные заготовки на зиму: соленья, варенья, капусту. Батарея стеклянных банок на полках в твоем погребе, как коллекция “Оскаров”. Вкус твоих квашеных помидоров я помню до сих пор. У тебя в багажнике “Волги” обязательно хранились четыре ведерка: квашеная капуста кочанами, шинкованная капуста, огурчики, помидорчики. И еще складной столик. Вдруг по дороге приглянется какое-нибудь симпатичное место — можно будет сесть в прохладе и закусить. Красота! И вы с Сашей Гомельским обязательно где-нибудь закусывали. Ты наслаждался жизнью, ты смаковал ее, ты знал ее подлинный вкус. А еще ты умел делать потрясающие котлеты. Ты вставал всегда в четыре утра. Зарядка, пробежка, летом — теннис, потом ты сам затевал завтрак. Основательный, с котлетами, вареными яйцами, кашей. Настоящий тарасовский завтрак. И шел нас будить: “Девки, вставайте, нечего спать”. Мольбы бесполезны. Папа приготовил завтрак, значит, его надо съесть. Полусонные, полумертвые, мы тащимся на кухню. Жуем твои котлеты и... возвращаемся в постель досыпать. Еще один эпизод сейчас всплывает в моей памяти. Посреди зимы я решила нагрянуть к тебе на дачу. Ты же так любишь гостей! У меня новая подруга — Марина Неелова. Я хочу вас познакомить. Уверена, что вы понравитесь друг другу. Приезжаем. Ты счастлив. Мгновенно накрываешь стол, вытаскиваешь все свои запасы и вкусности, наливаешь нам клюквенной водки. Ты в ударе. Шутишь, рассказываешь свои истории. Ты неотразим. Между переменами блюд спрашиваешь шепотом, показывая на Марину: “Кто она?” — “Актриса”. — “Где играет?” — “В “Современнике”“. Ага! Пир продолжается дальше. И вдруг, обращаясь к Марине, на полном серьезе спрашиваешь: “А ты Зою Космодемьянскую играла?” Мы вздрогнули. При чем тут Зоя? А Неелова ему, глядя в глаза, весело: “Нет, Анатолий Владимирович, не играла”. — “А хочешь?” — “Нет, не хочу”. Ты темнеешь лицом: “Как? Ты не хочешь?” И что тут начинается! Да вы все антисоветчицы! Вон из моего дома! Чтобы ноги вашей здесь не было! И т. д. На улице минус тридцать, да мы еще выпили по рюмке... Делать нечего, влезаем в наши шубы, идем на выход. А мороз дикий, машина у меня никак не заводится. Что делать, непонятно. Вдруг ты вылетаешь из дома, как котят, выбрасываешь нас из “Жигулей”, заводишь их с полуоборота, прогреваешь и выключаешь. “Все, антисоветчицы, пошли допивать”. Все успокоились, и можно пировать дальше. Но интерес к Нееловой у тебя остался надолго. Ты много меня расспрашивал о ней, а не удовлетворившись моими ответами, сам пошел в библиотеку ЦСКА и заказал всю прессу, которая про нее на тот момент имелась. Ты изучил все рецензии на ее спектакли и фильмы, все ее интервью, как будто собирался написать диссертацию о ее жизни и творчестве. В какой-то момент ты набрал ее номер: “Ну здравствуй, великая актриса современности”. — “Ой, а кто это?” — “Это Толя Тарасов”. Маринка сползла со стула. Толя Тарасов! Тебе так остро захотелось хотя бы на минуту снова почувствовать себя молодым, снова пофлиртовать с красивой женщиной, чтобы она смеялась твоим шуткам, краснела от твоих комплиментов и называла тебя Толей, чего, кстати, Марина себе никогда не позволяла.