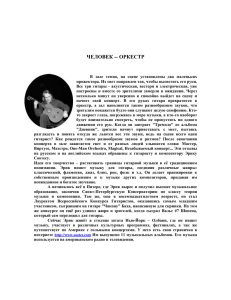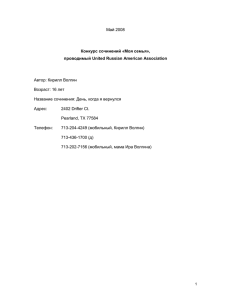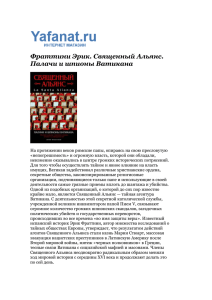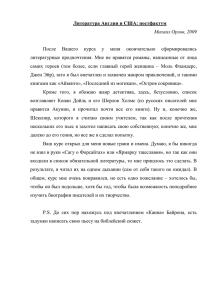Название: Нет любви иной - Призрак Оперы: Все о Легенде.
реклама
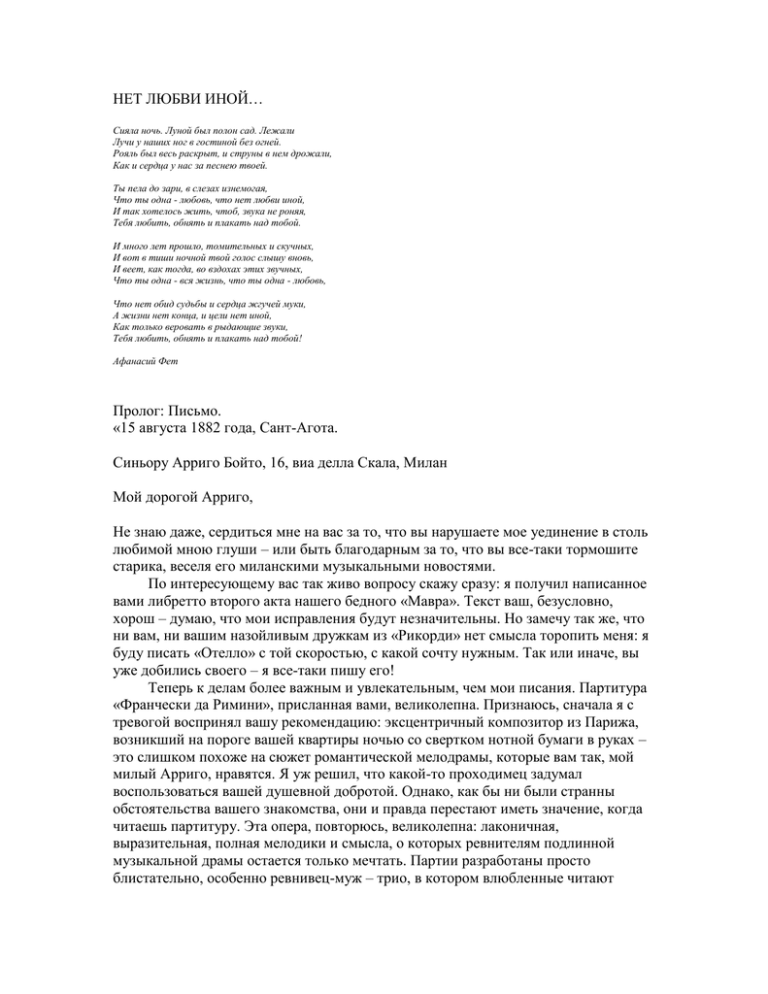
НЕТ ЛЮБВИ ИНОЙ… Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали Лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, Как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, Что ты одна - любовь, что нет любви иной, И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, Тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло, томительных и скучных, И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь, Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, А жизни нет конца, и цели нет иной, Как только веровать в рыдающие звуки, Тебя любить, обнять и плакать над тобой! Афанасий Фет Пролог: Письмо. «15 августа 1882 года, Сант-Агота. Синьору Арриго Бойто, 16, виа делла Скала, Милан Мой дорогой Арриго, Не знаю даже, сердиться мне на вас за то, что вы нарушаете мое уединение в столь любимой мною глуши – или быть благодарным за то, что вы все-таки тормошите старика, веселя его миланскими музыкальными новостями. По интересующему вас так живо вопросу скажу сразу: я получил написанное вами либретто второго акта нашего бедного «Мавра». Текст ваш, безусловно, хорош – думаю, что мои исправления будут незначительны. Но замечу так же, что ни вам, ни вашим назойливым дружкам из «Рикорди» нет смысла торопить меня: я буду писать «Отелло» с той скоростью, с какой сочту нужным. Так или иначе, вы уже добились своего – я все-таки пишу его! Теперь к делам более важным и увлекательным, чем мои писания. Партитура «Франчески да Римини», присланная вами, великолепна. Признаюсь, сначала я с тревогой воспринял вашу рекомендацию: эксцентричный композитор из Парижа, возникший на пороге вашей квартиры ночью со свертком нотной бумаги в руках – это слишком похоже на сюжет романтической мелодрамы, которые вам так, мой милый Арриго, нравятся. Я уж решил, что какой-то проходимец задумал воспользоваться вашей душевной добротой. Однако, как бы ни были странны обстоятельства вашего знакомства, они и правда перестают иметь значение, когда читаешь партитуру. Эта опера, повторюсь, великолепна: лаконичная, выразительная, полная мелодики и смысла, о которых ревнителям подлинной музыкальной драмы остается только мечтать. Партии разработаны просто блистательно, особенно ревнивец-муж – трио, в котором влюбленные читают книгу, одновременно признаваясь в своих чувствах, а он подслушивает их за статуи в агонии растоптанной любви, - трио это, нежностью любовников и страданиями мужа, глубоко трогает даже в партитуре, и оно исполнено чудесных сценических возможностей. А страшный финал, в котором Малатеста проклинает и убивает жену-изменницу и брата-предателя… Этот эпизод поражает тем, чего давненько я не видел на оперной сцене – простотой и, как ни странно для момента столь драматичного и далекого от обыкновенной жизни, искренностью. Одновременно с этим письмом к вам я пишу так же в дирекцию Ла Скала – они безусловно учтут мою рекомендацию и примут «Франческу» к постановке этой же осенью. Хотя, на мой взгляд, опера эта не нуждается в моих рекомендациях: любой здравомыслящий директор театра с руками ее оторвет. Так что передайте мои искренние поздравления вашему «безымянному» французскому другу, и удержите его во что бы то ни стало в Милане: я приеду в город уже через месяц и хотел бы лично с ним познакомиться. Я помню, что вы говорили о его нелюдимости – но, думаю, из уважения к старику он нарушит свои аскетические привычки. Не забудьте передать ему мои слова: осенью мы увидим «Франческу» на сцене Ла Скала. Ее ждет триумф. Моя дорогая Джузеппина, к сожалению, все еще не здорова – проклятый наш возраст, из-за которого и зимняя сырость, и летняя жара доставляют одинаковые неудобства! Но она шлет вам, милый Арриго, свою любовь. За сим – до скорой уже встречи, Ваш старый, слишком уже старый друг Джузеппе Верди». Глава 1: Прибытие поезда. Ноябрь 1883 года, Париж «Внимание господ пассажиров первого класса – прибытие в Париж по расписанию, через тридцать минут!» Кондуктор произносит эти слова нараспев, но голос его заглушает множество других звуков. Паровозный свисток, мерный рокот колес. Хлопки и стуки из соседних купе – пассажиры начинают двигаться, собирать вещи. Ему нет нужды суетиться – он не отпирал чемоданов, даже сумки дорожной не раскрыл. Он не может теперь читать своих бумаг, или газет. Ему и дышать-то трудно – в горле пересыхает, хочется все время сглатывать. Он нервно покусывает губу. Он едва удерживается, чтобы не начать ходить туда-обратно по крошечному купе. Шторка на окне слегка колышется – он прижимает лоб к холодному стеклу. Это приносит минутное облегчение. За окном проносятся серые поля, черные деревья и унылые строения. Зима. Пригород. Уродливое место, даже лучи зимнего солнца, так неожиданно вырвавшиеся теперь из-за туч, точно как на оперном заднике, не могут украсить это зрелище. В луче света дорогая кожа его чемоданов блестит и кажется шоколадной. Солнечный блик танцует секунду на его монограмме – «ЭдС», – и гаснет. Пейзаж за окном и его купе ожили на секунду – и умерли снова. Через полчаса Париж. Нет, теперь уже быстрее… Париж. Говорят, что это самый красивый город на земле. Мысль на любителя, конечно: стоило бы вспомнить темные, полные крыс и прочей заразы трущобы, которыми город был застроен до того, как барон Оссманн провел свою реконструкцию. Не то чтобы маэстро де Санном помнил, как выглядел Париж до реконструкции – в свои тридцать шесть он был, все же, еще недостаточно стар для этого. Но в детстве и юности ему случалось довольно времени провести на дне жизни – он бывал даже в месте, которое Гюго называл «чревом Парижа». Говоря без красот, в канализации. Лишь позже в жизни его появилось нечто прекрасное – театр Гранд Опера, спланированный, кстати, не без участия того же барона Оссманна. Определенно, маэстро было за что благодарить его. Пусть в здании этом он познал не только красоту. Не только божественные звуки музыки и озарение первой любви, но и горечь публичного унижения. И нечто более страшное – в конце концов, к людскому ужасу и насмешкам ему было не привыкать. Нет, в Гранд Опера он узнал, какую боль приносит неразделенная любовь. Здесь он обманывал себя, манил пустыми мечтами, здесь безумствовал в слепой надежде, что еще может изменить обстоятельства и доказать небесам, что и он достоин любви. Все было бесцельно. Даже в самый разгар событий – да что там, в самом их начале, впервые показав возлюбленной странное место своего обитания, – он уже понял, что поражение его неизбежно. Его возлюбленная была слишком хрупка, слишком наивна, слишком юна. Она не готова была принять на свои плечи груз его тайны – она не готова была принять его. И у него не было времени для того, чтобы приучить ее к себе. Чтобы подготовить. У него было время воспитать ее голос – но не ее саму. Ему пришлось торопиться, и, конечно, произошла катастрофа. Его любовь была отвергнута – с жалостью и симпатией, но от того не менее жестоко и бесповоротно. Жизнь его была разрушена, и он хотел умереть. Ему казалось даже, что он и умер – но смерть души, последние удары разбитого сердца были обстоятельствами воображаемыми, их нужно было еще привести к физическому равенству с состоянием его тела. Но сначала, конечно, следовало подождать, пока из дома уйдут непрошенные гости. А потом, когда он остался один и начал выбирать способ окончить жизнь, каждый из них поразил его своей… глупостью. Все, что он мог бы теперь сделать, было таким ребячеством! А он довольно уже времени в жизни потратил, ведя себя как ребенок. Бросив последний взгляд на свою возлюбленную, он поклялся себе, что никогда больше не будет писать музыки. Но теперь именно музыка спасла его. Не сразу, медленно, шаг за шагом размышления о наилучшем способе умереть превратились в рассуждения о том, как жить дальше. Зачем жить дальше. Он всегда был упрям. Это качество не раз губило его, заставляя идти напролом в ситуациях, которые требовали деликатности. Но оно же не раз спасало его. Он упрямо задышал, когда родился – слабый, уродливый младенец, которому стоило бы появиться на свет мертвым. Он упрямо продолжал дышать, лежа на полу цирковой клетки со сломанными ребрами. Он упрямо делал вид, что его подвал – подобие дома, в котором уместны красивые вещи, и что сам он должен иметь лишь лучшее, а не ходить всю жизнь в мешковине, к которой был приучен с детства. Он так же упрямо полагал, что может добиться взаимности от девушки, которую полюбил. Но это был как раз один из тех случаев, когда упрямство сослужило ему плохую службу. Однако в конце концов именно упрямство заставило его снова выжить – и снова писать музыку. Только не так, как раньше – для себя, в одиночестве, стараясь излить эмоции, которые разрывали его на части. Нет. Теперь он решил писать для публики. Раз за разом воскрешая в памяти премьеру «Дон Жуана», он и сам не заметил, как постепенно воспоминания о боли, которую причинила ему Кристина, сняв маску, – боли почти физической – сменились другими. Он не мог не вспоминать азарт и возбуждение, которые испытал, выйдя на сцену. И то, как люди в зале слушали его музыку. Сперва с возмущением. Затем с изумлением. А под конец, когда он сам появился перед ними, с восхищением. Они были заворожены, потрясены… Покорены. Они были у его ног. Он не сумел завоевать любовь Кристины. Но он понял, что может покорять сердца людей своим искусством. Он никогда раньше не пытался разделить с миром свой талант. Ему казалось, что в одиночку он не сумеет сделать этого. И пусть Кристина отказалась стать голосом, которым он мог бы говорить с миром – неудача оказалась ему на пользу. Он сочинил «Дон Жуана», чтобы завоевать Кристину, чтобы найти способ быть с ней рядом. Но, пока писались ноты, пока готовилась постановка, он впервые осознал, что может говорить с людьми сам, без посредников. Его музыка все скажет сама. Музыка станет его новым оружием. Сила искусства куда лучше грозных писем и удавки. Эта сила поможет ему покорить мир. Вернуть себе власть над собственной жизнью. Завоевать Кристину. Она ответит на его чувство. Просто ему нужно постараться. У него есть надежда – она не сказала, что ненавидит его. Кристина смотрела на него с состраданием. Она подарила ему свое кольцо, она обещала с ним остаться. Она поцеловала его. Пусть он слеп, наивен и глуп. Пусть упрям. Пусть. Но ведь именно это упрямство, нежелание признать очевидную правду о том, что она не любит его, в очередной раз спасли ему жизнь. Он будет знаменит. Он будет велик. Его музыка покорит весь мир. И тогда, возможно, Кристина посмотрит на него новыми глазами. Она полюбила хорошенького блестящего виконта. Наверняка знаменитый композитор должен произвести на нее впечатление? Эрик надеялся, что это так. Потому что именно это и произошло – он стал знаменит. Маэстро Эрик де Санном, за полтора года написавший две оперы, для Ла Скала и Ковент-Гардена. Для Ла Скала – «Франческу да Римини», трагедию юных влюбленных и обезумевшего от унижения ревнивого мужа. Для Ковент-Гардена – шекспировскую «Зимнюю сказку», историю еще одного безумного ревнивца, едва не погубившего ни в чем не повинную жену. Две очень популярные оперы. Оперы, благодаря которым его уже называют национальной гордостью Франции. Соперником Вагнера и Верди. Великий Верди помог ему – представил его «Франческу» дирекции Ла Скала. Втереться в доверие к старику было не трудно – их познакомил Арриго Бойто, либреттист и композитор-неудачник, человек чистый и сентиментальный до глупости. Он охотно поверил незнакомцу в маске, который явился к нему среди ночи со связкой нот и трогательной историей о страшном пожаре в Гранд Опера, пожаре, который разрушил его жизнь. Бойто был покорен, Верди – настроен скептически. До тех пор, пока не прочитал партитуру. После этого рассказы и слова Эрика перестали иметь значение – его музыка начала свое победное шествие по миру. Успех «Франчески да Римини» превзошел все его ожидания. Итальянская публика любит и ненавидит одинаково страстно, и Эрика она полюбила с первой ноты. Крики «Автора, автора!», впрочем, остались безответными: даже приняв решение открыто ходить в маске (пусть люди мирятся с артистической причудой знаменитого маэстро, и не задают вопросов), Эрик не решился, все же, выйти на сцену. Но, сидя в зашторенной ложе, он слышал эти крики – слышал аплодисменты, не смолкавшие больше часа. А потом, со слезами на глазах и потрясенным сердцем, смотрел, как публика расходится по улочкам Милана, устремляется по пассажу Виктора-Эммануила на площадь Дуомо, и распевает при этом его музыку. Они выучили ее. Выучили наизусть – после первого же представления. Это было невероятно. Восхитительно. Это означало, что у него есть теперь новая жизнь. И вот эта жизнь привела его, наконец, обратно в Париж. Новый директор Гранд Опера, некто месье Бриган, попросил у Эрика разрешения поставить у них его «Франческу». Денег на новую оперу у театра пока не было – он только-только разделался с ремонтом после пожара. «Франческой», международно известной новой французской оперой, Бриган хотел, собственно, отпраздновать торжественное открытие. Конечно, Эрик не мог устоять перед искушением отметить восстановление театра, который сам же и разрушил. Премьера состоится через неделю. Эрик возвращается в Париж, чтобы присутствовать на ней. Он возвращается в свое прошлое. Она здесь, в городе – графиня де Шаньи. Ее муж унаследовал титул полгода назад. Она будет на премьере, совсем рядом с Эриком. Она поймет – из всех людей на свете она одна точно, наверняка поймет, что «Франческа» – это его опера. Кристина не может не узнать его музыки, и сюжет покажется ей знакомым: юные влюбленные, безумный ревнивец, который подслушивает их тайное свидание… Намеки Эрика так прозрачны. Да и светский миф про загадочного эксцентрика в маске ее не обманет. Она не может не узнать его. Свисток паровоза, облака пара, поезд замедляет ход. Пассажиры суетятся в коридоре, за дверьми его закрытого купе. Стук проводника, который пришел за чемоданами. Его вежливый голос: - Мсье, мы прибыли. Да, он знает. Прибыли. Он встает, натягивает перчатки. Поднимает ворот плаща, пониже надвигает на лоб шляпу. Ему все еще кажется, что люди только и смотрят, что на его маску. Эрик отпирает дверь, впуская улыбающегося носильщика. Сердце бьется в горле: от страха, надежды. Предвкушения. И это теперь – когда он только в город приехал. Что же станется с ним, когда он увидит Кристину? Воздух пахнет дымом, пылью, человеческим и конским потом, и жареными каштанами. Воздух пахнет городом. Его городом. Париж… Глава 2. Премьера. Ноябрь 1883 года, Париж Занавеси ложи плотно сдвинуты – наверное, в битком набитом театре это смотрится странно. Но какое ему дело до этого? Он не обращает внимания ни на возбужденный гул публики, которая постепенно заполняет театр, ни на нестройные звуки оркестра, который настраивается перед исполнением его оперы. Не обращает внимание и на музыку увертюры. Оркестр звучит хорошо – он отметил это на репетиции. Певцы, можно сказать, безупречны… Новый директор, мсье Бриган, знает свое дело, и он оказал маэстро всяческое уважение. Даже бровью не повел, увидев его маску. С улыбкой приветствовал просьбу оставить за ним ложу №5: «А вы не боитесь, что вас побеспокоит Призрак Оперы, мсье де Санном? Вы же слышали о нашей местной легенде… Сегодня мы открываем театр, который он разрушил – вдруг фантом вернется, чтобы испортить нам праздник?» Бриган рассмеялся собственной шутке, и Эрик кисло улыбнулся в ответ. Он мог бы сказать, что Призрак уже вернулся в Гранд Опера, но у него нет намерения портить вечер. Это самый важный вечер в его жизни, но сегодня он, вопреки обычной своей привычке, не занят маниакальным продумыванием всех деталей, не рассчитывает все мелочи, не думает, как эффектнее обставить свое появление. Он вообще не собирается появляться сегодня. Это не входило в его планы, но, даже если б и собирался – у него нет сил на это. Он дрожит всем телом – руки вцепились в бархатный бортик ложи, словно их судорогой свело. Горло перехватывает спазм – он едва может дышать. Встань он – ноги бы подогнулись. Но дело не в волнении композитора перед премьерой – нет. Эрик не переживает за то, как пройдет его опера. Он не слышит музыки, он не смотрит на сцену. Он не сводит глаз с директорской ложи: она напротив него, но чуть левее, совсем рядом со сценой. В ложе сидит несколько человек, в том числе сам мсье Бриган. Но для Эрика все они размыты – они на периферии зрения, словно в тумане. Он видит только одно лицо – солнце своей жизни, центр своего мира. Кристину, графиню де Шаньи. Она прекрасна – еще красивее, чем подсказывала его память. Ее лицо словно светится изнутри, кожа такая же нежная, но румянец свежее. Ее глаза сияют, как темные звезды – Эрику они кажутся ярче, чем бриллианты в ее волосах. Ее кудри уложены в замысловатую прическу, но это ничего – она ведь не девочка уже, она выросла. Кристине теперь девятнадцать, и возраст идет ей. На ней платье персикового цвета, он чудесно оттеняет ее кожу, на плечи накинуты меха. Она выглядит счастливой, уверенной в себе. Замужество ей к лицу. Кристина берет в руки программку, руки ее затянуты в атласные перчатки, она сдвигает тонкие брови, читая краткое либретто. Как хорошо он помнит это выражение на ее лице – так она всматривалась когда-то в ноты. Так же пожевывала нижнюю губу, разбирая сложный пассаж. Она постукивает пальцем по странице и поворачивает голову, чтобы сказать что-то своему спутнику. Своему мужу. Граф Рауль де Шаньи. Он так же хорош собой, как прежде. Он нежно берет Кристину за руку и о чем-то спрашивает. Она улыбается и кивает, соглашаясь с его словами или успокаивая. Открывается занавес. Первая сцена оперы – свадьба. Юную Франческу выдают замуж за человека старше ее. Она не любит его, но уважает. Но даже в момент венчания над семьей Малатесты нависает тень беды – только что, на пороге церкви невеста из Римини впервые увидела Паоло, младшего брата своего жениха. Паоло бросает на нее восторженные взгляды. Франческа в смятении. Ее муж – в неведении. Он абсолютно счастлив: девушка, которую от страстно любит, сегодня станет принадлежать ему. Кристина не отрывает взгляда от сцены. Она вся обратилась в слух. Его девочка всегда так тонко чувствовала музыку, была так восприимчива. Она не разочаровала Эрика и теперь. По мере того, как развивается сюжет оперы, на лице молодой графини отражается все большее волнение. Сначала она разрумянилась еще сильнее. В момент, когда Малатеста жестом собственника возлагает на невесту свадебный венок с фатой, Кристина бледнеет. Она слушает музыку. Она прижимает пальцы к губам. Взгляд ее становится беспокойным. Она отвлекается от сцены, чтобы обвести глазами зал. Взгляд ее останавливается на зашторенной пятой ложе… Она качает головой, словно старается стряхнуть наваждение. Она поняла. Она узнала его музыку. Она услышала его! Рауль снова спрашивает ее о чем-то. Кристина успокаивающе сжимает его руку: все хорошо. В антракте она остается сидеть в ложе, задумчиво глядя на программку. Она водит пальцем по строчке с именем композитора. Эрик де Санном. Это имя ничего не говорит ей. Она никогда не знала его имени. Рауль приносит ей мороженое. Она улыбается с благодарностью и скидывает с плеч меха. Она ест, смешно, по-детски совсем облизывая ложку. Ей жарко, бедной его малышке… Второй акт. Юные Паоло и Франческа обмениваются тайком влюбленными взглядами. Малатеста все еще ничего не замечает, только ведет себя с женой все более и более властно. Несчастный, он пытается управлять женщиной, которая уже не любит его. Никогда не любила... Эрик хорошо знал, о чем пишет, когда сочинял эту партию. Центральная сцена оперы – любовное свидание, который муж случайно подслушал. Трио, которое особенно нравится Верди. Старик говорит, что эта музыка дышит правдой жизни. Скорее, она полита кровью сердца. Эта сцена происходила когда-то в жизни – здесь, в этом театре, на крыше среди бронзовых статуй. Кристина помнит эту сцену. Она сжимает руку в кулачок. Она прижимает ладонь к груди. Она снова обводит глазами зал, снова смотрит на пятую ложу. Ее губы шевелятся, проговаривая про себя слова оперной партии. Ее горло трепещет, готовое к пению… Она скучает по музыке. Она чувствует, что эта музыка написана про нее – и для нее. Она ощущает присутствие Эрика. Она очень, очень бледна. Третий акт: ловушка, которую подстраивает влюбленным бедный, обманутый муж. Мольбы несчастной пары. Убийство. Одиночество, в котором остался Малатеста, палач – и главная жертва этой истории. Паоло и Франческа умерли, но они вместе. А он… он один. Он знает, что, будь у него возможность вернуться в прошлое, он не стал бы поддаваться ревнивой ярости – он предпочел бы умереть сам. Кристина смотрит на пятую ложу. Смотрит совершенно уверенно – она знает, что он здесь. Она плачет, но одновременно на губах ее появляется тень улыбки. Она аплодирует, повернувшись к ложе Эрика. Она приветствует его. Сердце Эрика готово выпрыгнуть из груди. Он никогда еще не испытывал подобной эйфории – даже в те мгновения, когда Кристина доверчиво прижималась к нему и гладила ладонью его лицо во время первого своего визита в подземелье. Кристина поняла его скрытое послание, знает о его возвращении, и она не выказала ни гнева, ни страха. Она готова к встрече с ним. Он найдет способ увидеть ее, проникнуть в особняк де Шаньи в районе Больших Бульваров. И она примет его. Его музыка сделала это. Он понимает, что уже многие месяцы – с того момента, как Кристина сняла с него маску, он обрубил канат люстры, и бросился вместе с ней в люк… С этого момента он так и находился в затяжном прыжке – падал, падал в бездну, не дыша, с остановившимся сердцем. Он действительно не жил – он ждал. И только теперь понял, чего именно: ее улыбки. Ее взгляда, обращенного к нему, незримому, с нежностью. Только теперь он почувствовал под ногами твердую землю – его падение кончилось. Его сердце снова забилось. Овации в зале длятся и длятся – «Франческа» снова прошла с триумфом. Это очень простая, в сущности, опера, не особенно глубокая – она ударяет прямо по нервам, и в этом ее сила и ее ограниченность. Но теперь ни ее достоинства, ни недостатки уже не важны – опера выполнила свое предназначение. Рауль, который аплодирует стоя, поздравляет мсье Бригана с успехом, потом снова спрашивает о чем-то Кристину. Она кивает и загадочно улыбается. Эрик знает, что означает ее улыбка. Рауль перестает, наконец, хлопать и оборачивается, чтобы подать жене руку. Кристина судорожно сжимает ее – она внезапно смертельно побледнела. Эрик холодеет от страха. Что случилось? Что могло вдруг произойти с его девочкой? Закусив губу и тяжело опираясь на руку Рауля, Кристина поднимается наконец со своего места – теперь Эрик видит ее в полный рост. Сердце его останавливается, а потом стремительно срывается вниз. Она беременна. Глава 3. Ночь после музыки. Париж, ноябрь 1883 года Квартира, которую он снял для себя в одном из домов на проспекте Оперы, занимает верхний пятый этаж целиком. Это удобная, со вкусом обставленная квартира, и больше всего Эрику нравится в ней высота – и вид из окон. Вид на крышу его театра. Он прожил здесь неделю перед премьерой, и каждый день взлетал на вершину лестницы, как на крыльях, не пользуясь механическим подъемником. Ему нравилось чувство легкой усталости после подъема – ведь усталость эта оказывалась вознаграждена светлым небом в арочных окнах, лучами закатного солнца на его лице и знакомыми, как братья, силуэтами бронзовых ангелов на куполе Оперы. Этой ночью подъем по лестнице дается ему с трудом. На третьем этаже он останавливается и несколько секунд смотрит на ажурную кованую решетку, которая скрывает шахту подъемника. На самом деле Эрик не видит этой решетки. Перед глазами его все еще стоит образ Кристины – его Кристины, его единственной возлюбленной, беременной ребенком другого мужчины. Медленно, словно во сне, он продолжает двигаться вверх. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Удар за ударом сердца. Сегодня вечером Париж лежал у его ног. Он – новый любимец света. Завтра все газеты расскажут об открытии Оперы, о великолепном спектакле, об успехе его музыки. Можно ли, пережив подобный триумф, испытывать такую глубокую тоску? Наконец он наверху, открывает своим ключом тяжелую дверь из мореного дуба – пальцы сжимают на секунду холодную латунную ручку. В прихожей темно, но Эрику не хочется зажигать свечи. На самом деле, ему ничего не хочется – разве только стоять тут же, у дверей, прислонясь к стене, и бесцельно глядеть перед собой. Судя по всему, срок ее уже близко. Скоро она станет матерью. Родит Раулю мальчика, наследника титула, или девочку – не наследницу, но можно не сомневаться, что для благородного графа любой ребенок будет любимым и желанным. Ребенок Кристины. Ребенок Рауля. Эрик проходит все-таки вперед, в столовую. По его указаниям сервировали поздний ужин, но при одной мысли о еде, при одном взгляде на накрытые салфетками блюда с холодным цыпленком, ветчиной и салатом Эрику становится тошно. Механическим движением он снимает плащ и роняет его, не глядя, мимо стула на пол. В окна льется лунный свет, в его сиянии на полированной поверхности стола видна бутылка вина. Оно предусмотрительно открыто – правильно, бордо нужно дать сорок минут подышать перед тем, как пить. Сегодня, впрочем, вкус вина не имеет для Эрика значения. Он наливает красную – в лунном свете черную – жидкость в бокал, делает глоток. Залпом осушает бокал. Протягивает руку, чтобы налить еще, и, пожав плечами, просто берет бутылку за горлышко и направляется в спальню. Он садится на кровать и медленно раздевается, не забывая отхлебывать из бутылки. С каждым глотком он немного согревается. Оказывается, он совершенно закоченел. Он холода? От тоски? Господи, сколько же люди нацепляют на себя одежды – словно в броню одеваются, защищают, как креветки, свои вялые тельца от жестокого мира. На нем не осталось одежды – только парик и маска. В бутылке почти не осталось вина. Он допивает остатки – осадок скрипит на зубах. Черт с ним, пусть будет осадок. Эрик поднимается с кровати и подходит к высокому, в пол, зеркалу. В лунном свете он ясно видит свое тело. Смуглое, с белыми отметинами шрамов. Они повсюду – на груди, на руках. На животе и бедрах. На спине их больше всего. Но в остальном его тело… нормально. Оно принадлежит человеку. Оно могло бы нравиться женщинам. Когда он был подростком, в цирке, девчонки-акробатки дразнили его – называли «красавчиком». Ему было тогда пятнадцать. Принц де Линь написал в воспоминаниях о Казанове, который работал под старость у него библиотекарем: «Казанова был высок ростом и крепок, и он мог бы считаться красавцем, если бы не его лицо». Эрика всегда восхищала высокая ирония этой фразы. Черты венецианского соблазнителя казались балованному французскому принцу слишком грубыми – некрасивыми. «Мог бы считаться красавцем, если бы не его лицо». Где Казанова, там и Дон Жуан… Триумфатор. Эрик хмуро усмехается: интересно, что сказал бы де Линь об Эрике – о его лице? Он снимает маску и парик и долго, пристально смотрит на себя в ночном сумраке. Он упирается обеими руками в края рамы и приближает свое лицо вплотную к стеклу, пристально вглядываясь в собственные черты. То, что он видит, хорошо ему знакомо. Его лицо. Это лицо лишило его материнской любви, детских игр, женских ласк. Лишило его жизни. Бывает, маленькой царапины достаточно, чтобы возник нарыв, который уходит глубоко под кожу и начинает разъедать мышцы. Так же и его лицо – как открытая рана, загноилось и отравило, исковеркало, изувечило его душу. Это лицо разлучило его с Кристиной. С Кристиной, которую он почти вернул себе, и вновь потерял. Сегодня вечером она была с ним – она слушала его музыку, она осознала его возвращение и рада была ему. Так, по крайней мере, казалось ему, наивному глупцу, который верит в то, во что хочет верить. Ему казалось, она рядом – протяни руку, и она станет твоей. Вот так легко. Но Эрик лишь обманывал себя. Ее волнение, ее улыбки, ее бледность и ее слезы не имели к нему ни малейшего отношения. Она беременна. Ее срок скоро подойдет. Она слушает свое тело, тело, в котором живет вторая жизнь. Ощущает толчки ребенка, торопливое биение своего сердца, свое учащенное дыхание. Она занята собой – ей нет больше дела ни до Рауля, ни до Эрика. И так будет теперь долго – возможно, всегда. Она станет матерью, и ей не досуг будет выслушивать мольбы убогого чудовища из прошлого, которое явилось в ее новый мир, чтобы положить к ногам свою земную славу… Она родит скоро ребенка. Его невеста, его возлюбленная родит чужого ребенка – дитя, к которому Эрик не будет иметь никакого отношения. Этот ребенок, ребенок Рауля – последняя печать, скрепляющая договор об их расставании. Кристина теперь недосягаема для него… Как может он дерзнуть заявить свое право на женщину, что ушла от него столь далеко? Может! Черт подери… Может и заявит! К черту ребенка – к черту Рауля. Эрик подождет: пусть она родит, пусть отдохнет от трудов, пусть отдаст дитя кормилице. Он подождет – он уже долго ждал, что значат для него полгода, год? Он не мог так ошибиться – что-то в ее сегодняшних слезах, в ее сегодняшних улыбках было правдой. Она узнала его. Она была рада ему. Она не сможет теперь забыть его музыку. И она примет его, когда придет время. Перед его мысленным взором вновь встает Кристина – персиковое платье оттеняет кожу, свободный покрой маскирует изменившееся тело. О да, оно изменилось, но оно так же волнует. Ее груди стали полнее, бедра шире. Ее живот так упруг и тверд, но ладонь невольно касается его так бережно… Внутри него – сокровище, более ценное, чем восточные клады, двери к которым были запечатаны таинственными заклинаниями. Если раздвинуть ей ноги, погрузить плоть в глубину лона… Нежно. Осторожно, страшась и в тайне желая коснуться ребенка. Почувствовать его... С коротким, на стон похожим вздохом Эрик приходит в себя. Что он творит?! Стоит перед зеркалом, голый, пьяный и возбужденный. Желает, страстно желает женщину, которая не любит его – которая недоступна ему. И сознание этого не уменьшает вожделения. Урод. Жалкий урод. Жалкое создание! Эти слова он произносит вслух. Да что же он за человек такой, если даже оскорбления его не отрезвляют? Он клянет себя снова и снова, но наваждение не проходит. Он смотрит на себя в зеркале, и видит рядом с собой Кристину. Свою Кристину. Собственные руки – на месте ее рук, ее губ, ее тела. Стыдно. Чем ярче наслаждение, тем горячее волна стыда, и сегодня стыдно так, что хочется умереть. Как он может… Как он смеет… Даже думать об этом? Тварь болотная… Низкое, низкое чудовище… Грязные мысли, грязные руки… Гневные слезы. Он не может больше видеть в зеркале свое тело, свое лицо – растрепанные волосы, светлые, полные слез глаза, скривленные в рыдании губы. В стекло летит первый попавшийся под руку предмет – это пустая бутылка. Зеркало не бьется – только трескается. Эрик помнит, когда видел себя в таком же зеркале. Когда она ушла. Он корчится на полу возле кровати, обхватив голову руками. Он старается плакать тихо, хотя его сдавленные всхлипы все равно никто не слышит. За окном светает. Его бронзовые братья с крыши Оперы темными тенями высятся на фоне розовеющего холодного неба. Сегодня будет морозный день – первый день настоящей зимы. Глава 4. Призрак и тьма. Париж, ноябрь 1883 года Крик гулким эхом отражается от стен подземелья, звук накрывает его волна за волной, давит, грозя размозжить ему череп, кажется, сейчас лопнут барабанные перепонки, звук вибрирует в каждой части его тела, в надорванном горле, он наконец затухает в щелях каменной кладки, гаснет в глубине темных тоннелей, чтобы тут же обрушиться на него с утроенной силой, потому что Эрик кричит снова и снова. Он стоит на коленях посреди старого своего дома, и качается из стороны в сторону, как раненый зверь, и царапает пол, в кровь ломая ногти, и кричит – на пределе своих возможностей, так что легкие вот-вот не выдержат, кричит, пока голос не перестает слушаться, и ему остается только хрипеть, потому что нет больше звуков, которые могли бы выразить то, что с ним происходит. Его мир сжался до размеров собственного мозга – и одновременно расширился по пределов вселенной. Он задыхается в тесноте – и падает в бесконечную пропасть. Его окружает тьма, тьма, тьма – такая черная, такая беспросветная, будто он ослеп. Его ярость была слепой и беспощадной – он разбил, в клочья разнес все, что пощадили люди и время, но легче ему не стало. Как может ему стать легче? Если бы только он мог на части порвать собственное тело – может быть, тогда вырвалась бы наружу его боль. Он провел в своей спальне весь день, в бесцельном, тупом оцепенении – после того, что он устроил в ночь после премьеры, у него не было сил обдумывать, рационально планировать, что делать ему в будущем. Слишком было стыдно и горько, и слишком он презирал себя. Только под вечер он выбрался на улицу, и ноги сами собой привели его в Оперу – старый дом, любимый, несмотря ни на что. Может быть, здесь он поймет, что ему делать дальше. Он ведь всегда просчитывает все до мельчайших деталей: точный расчет – его единственный способ бороться с хаосом собственной жизни, с ураганом своего сердца, и в этом нет ничего странного. Он ведь прежде всего математик – в основе музыки, которой он живет, и инженерного дела, которым он так хорошо владеет, лежат цифры, числовые гармонии. Он никогда не перестанет удивляться тому, какой прекрасной, страстной, эмоциональной может быть математика, когда она превращается в музыку… Она только профану кажется стихией – и только он, Эрик, знает, какое это упоение – управлять ею. Если бы только человеческое сердце следовало тем же законам, что физика или теория композиции… Если бы люди подчинялись законам гармонии. Но тут Эрик был бессилен – ему самому каждый раз странно, до какой степени собственное сознание не слушается его, когда он имеет дело с людьми… Он собой не может владеть – не то что управлять другими. В Опере снова давали его «Франческу», но у Эрика не было желания идти в зал, встречаться с Бриганом, вообще видеть кого-либо. Он надеялся, что ему помогут родные стены. Он проник в здание через тайный ход на улице Скриба, и пустился, как в старое время, бродить по своим тайным ходам. Как привидение. Как Призрак. Странным образом эта прогулка придавала ему сил – он снова становился самим собой. Обретал уверенность. Ему даже забавно показалось вернуться таким образом в прошлое. До тех пор, пока он не оказался за стеной комнаты мадам Жири – здесь он когда-то, обуреваемый гневом, слушал, как она рассказывает Раулю де Шаньи его историю – рассказывает о его детстве, о том, как нашла его в цирке. В тот день на глазах ее были слезы – возможно, их вызвала вина за собственное предательство? Она снова была здесь, и снова плакала. Но на этот раз с ней был не Рауль – только ее дочь Маргерит, малютка Мег, которая давно уже танцевала в театре первые партии. Она тоже плакала. Эрик замер, услышав слова мадам Жири: «Какая трагедия! Бедная, бедная Кристина…» Бедная Кристина? Мег всхлипнула, и переспросила – как эхо его невысказанного вопроса: «Что же произошло?» Ответ мадам Жири прозвучал глухо: «Она ведь настояла вчера на том, чтобы поехать в Оперу – безумие, на ее сроке нельзя уже было, конечно, выезжать, и тем более волноваться, а ты знаешь, как близко к сердцу она всегда принимала музыку… Она так распереживалась, на ней просто лица не было, когда Рауль вел ее к экипажу… Я еще спросила у нее, все ли хорошо, а она так странно на меня посмотрела, и сказала – «О да, мадам Жири. Все прекрасно. Лучше, чем можно себе представить… Это такая прекрасная, такая удивительная и… неправдоподобная опера. Это настоящее чудо – то, что произошло сегодня. Мы завтра поговорим, хорошо?» И они уехали. И сегодня, когда я зашла к ним, как она меня просила, все было уже кончено». Кончено? Кончено?! Ради бога, что все это должно значить? Эрику хотелось ударом кулака проломить тонкую стену комнаты, вслух выкрикнуть свой вопрос… Сколько можно томить его в неизвестности?! Мег переспросила: «Но как такое возможно? Врач же был там?…» Врач? Ради всего святого… Снова мадам Жири: «Я не закончила… В общем, они с Раулем вернулись домой, и он думает, что это волнение в театре сказалось, но на самом деле, конечно, уже срок подошел. Он говорит, схватки начались еще в экипаже. Пока они доехали, и пока посылали за врачом… Она очень быстро родила – чудесный, очень хорошенький мальчик. Но она была такой хрупкой, бедняжка, такой тоненькой. Она просто не выдержала, и врач не мог остановить кровь… Она умерла к утру. Рауль просто сам не свой…» Больше Эрик не слышал ни единого слова – у него потемнело в глазах, и на секунду он словно оглох от шума крови в собственных сосудах. Он чувствовал, что задыхается, и судорожно рвал с горла шейный платок, и знал только, что слепо, не разбирая дороги, натыкаясь на стены, падая и поднимаясь бежит вниз, вниз по своим секретным проходам, в подземелье, к озеру – туда, где он будет один и сможет, наконец, криком, первобытным стоном излить знание, которое заслонило для него весь видимый мир: Кристина умерла. Умерла. Умерла. Девочка, его девочка, его малютка… Умерла. Оставила его, оставила одного во тьме, где больше никого нет – где ее больше нет. Никогда не увидит ее больше, не услышит, даже к руке не прикоснется… ее голоса, голоса, волшебного голоса, которым с Эриком говорили небеса, он не услышит больше. Ее нет. Не дышит, не чувствует, не улыбнется. Ее нет! Ребенок убил ее – ребенок Рауля, чудесный, хорошенький мальчик… Нет… Это он, Эрик, убил ее… Своим возвращением, своей музыкой, своим вожделением… Его девочка… Его девочка… Кристина… Умерла. Эрик кричит, пока есть голос, и мечется по подземелью, пока есть силы. Потом он просто опускается на пол – садится на камни, прислонившись спиной к изножью своей старой кровати. Он не плачет – слез нет, им владеет какое-то странное оцепенение. Он словно вне времени – нет ни прошлого, ни будущего, только мгновение за мгновением, как капли, падают в темный океан вечности. Он уже не сожалеет ни о чем, не винит себя – и потеря его, и вина для этого слишком велики и слишком очевидны. Он просто ждет – он знает, что вот так, вот сейчас, и уже скоро его жизнь окончится. Его музыка, его единственная связь с небом, его надежда на спасение – музыка убила его возлюбленную. Зачем было забирать ее, чтобы лишний раз показать Эрику, что ему нет места в мире? Это слишком жестоко… Он не просто отвергнут… Он проклят. Проклят. Его руками уничтожено лучшее, что он знал в жизни. Ему и правда теперь не зачем жить – это тоже так очевидно. У него нет даже сил удивляться, почему он еще жив, один в темноте, убийца своей единственной любви. Он не знает, сколько прошло времени. Час? День? Где-то наверху, в театре, отшумело очередное представление его оперы. Он не думает об этом – он вообще ни о чем не думает, сидя неподвижно на полу, глядя в одну точку широко раскрытыми, ничего не видящими глазами. Ударь его кто-нибудь по лицу, он бы этого теперь не заметил. Он один на один с тьмой, и она медленно поглощает его. Он слышит плеск воды в озере, шипение догорающего факела, чувствует и затхлый запах застойной воды, и чад умирающего огня. Слышит свое неровное дыхание, и стук собственного сердца. Оно бьется, проклятое сердце. Все еще бьётся. Он слышит оглушительную тишину вокруг себя. Мир опустел. Замолчал. В нем нет больше ее голоса. Он проклят. Проклят… Проклят. Он закрывает глаза. Он приветствует наступающий мрак. Глава 5. Пробуждение. Париж, ноябрь 1883 года Звук обволакивает его, окружает со всех сторон, баюкает – и будит. Глубокий, мягкий, он обладает какой-то потусторонней силой… В частоте его есть что-то неземное. Что-то древнее, как земля – печальное, чистое и мудрое. У звука есть мелодия – но она не знакома уху, есть слова, но они не понятны. Они звучат, как мертвый язык. Язык неба. Язык, на котором Господь изгонял людей из рая, возвещал о потопе, и обещал спасение. Но значение слов и неважно – важен голос, который звучит в темноте, заставляя Эрика дышать, открыть глаза, с неожиданной остротой почувствовать вдруг, что он жив. Он резко выпрямляется – он все еще сидит на полу возле кровати. Можно сказать, что он весь обратился в слух. Но на самом деле все его чувства обострены до предела: он словно вошел в грозовое облако. Воздух вокруг него вибрирует, заставляя трепетать и каждую клеточку тела. Может быть, он умер, и его приветствует на темном пороге неведомого мира голос ангела – или демона – посланного ему навстречу? Шальная мысль… Может быть, и правду существует ангел музыки, чью личину он так дерзко присвоил, и теперь этот ангел пришел, чтобы покарать его? Но в голосе нет никакой угрозы – нет гнева. Только печаль, и нежность, столь глубокие, что на сердце его само собой снисходит утешение. Может ли быть, что душа Кристины задержалась на пороге вечности, чтобы подарить ему еще мгновение покоя? Но это не Кристина – это не ее голос. Этот голос ниже, глубже… Сильнее. Этому голосу не нужен учитель – он сам может вести за собой, он смог ведь, только что, вырвать Эрика из бездны. Потому что с каждым щемящим звуком, отдающимся во тьме, Эрик все больше оживает. Покорный ему, он поднимается, проводит ладонями по лицу. Он чувствует, что дрожит всем телом – не только от потрясения, но и потому, что замерз… Голос замолкает – он сделал свое дело. Эрик окончательно очнулся: он обводит взглядом свое разоренное подземелье, медленно вспоминая все, что с ним произошло. Он начинает, наконец, соображать, и задается вопросом – что это было? Что он только что слышал? Он встает у кровати, слегка пошатываясь, и подходит к стене у изголовья. Проводит ладонью по шершавым холодным камням. Здесь, в толще стены, он сам устроил когда-то звуковой канал – он ведет в часовню, туда, где Кристина так любила сидеть в детстве, и где с ней беседовал ее ангел музыки. Он, Эрик. Этот канал позволял ему слышать все, что она говорит и делает – слышать ее молитвы и ее тихое пение. Благодаря этому он и правда всегда был рядом с ней. Здравый ум подсказывает ему, что он и теперь слышал чье-то пение из часовни. Не Кристину… нет. Кристину он никогда больше не услышит. Но это был голос, человеческий голос – женский. Неизвестная ему певица с удивительным диапазоном. Не девочка, которой нужны уроки – нет, это пение уже было великолепно, техника не уступала необъяснимой, невероятной осмысленности каждого звука. Поразительный голос. Меццо-сопрано?.. Контральто. Потому таким странным, неправдоподобным казался звук. Просто непривычный уху регистр, и неизвестная мелодия, и язык, которого он не знает. Всему можно найти объяснение, но Эрику это не нужно. То, что он только что пережил – знак. Небо отняло у него Кристину, заставило умолкнуть голос, который он считал единственным в мире. Но небо не оставило его. Оно подняло его из пропасти отчаяния, остановило падение и дало ему услышать еще один голос – такой же, как у его возлюбленной, но все же другой. Этот голос способен так же, как голос Кристины, говорить напрямую с его сердцем. Так же способен выразить всю глубину, многогранность, красоту и отчаяние кипящей вокруг него жизни, воплотить то, что Эрик видит за внешними приметами бытия, что интуитивно вкладывает в свою музыку. Небо дало ему услышать еще один голос, достойный его. И это значит, что ему есть еще смысл писать. Жить. Его музыка все еще может звучать… у него есть инструмент. Ему не нужно знать, чей это голос – что за женщина пела сегодня в часовне. Важно лишь, что она существует, и значит Эрик может продолжать свою охоту за смыслом, за истиной, скрытой в многоголосье вселенной. Он может ловить звуки, и нанизывать их один на другой, и отпускать обратно в мир преображенными… Рано или поздно они найдут свое воплощение. Этот голос даст им жизнь. Ради этого голоса они будут рождены – его дети, его мелодии. Эрик был убежден в том, что небеса его отвергли. Сегодня он получил от них бесценный дар. Ошеломленный, все еще в полузабытьи после пережитого шока Эрик медленно пускается в обратное путешествие по темным туннелям. Ему не привыкать – он ходил здесь тысячи раз, со светом и без. Поверхность все ближе, уже слышен звук экипажей, проносящихся по брусчатой мостовой, и курлыканье толстых голубей на площади Оперы, и запах навоза, и свежего хлеба из соседней пекарни. Он подносит ладонь к лицу – на месте ли маска. Он с удивлением смотрит на свои руки – пальцы изодраны в кровь, красные следы есть и на рубашке, а он даже боли не чувствует. Он плотнее запахивается в плащ: до квартиры недалеко, но все равно не хочется привлекать лишние взгляды. В лицо ему ударяет серый свет раннего утра, и он решительно делает шаг ему навстречу. В ушах его все еще звучит голос, который заставил его пробудиться. Он знает, что будет теперь слышать его всегда. Глава 6. Зимний вечер. Париж, январь 1885 года. Можно ли влюбиться в человека, не видя его лица? Ну не влюбиться, конечно – это слишком сильно сказано. Хотя «влюбиться» – это ведь не «полюбить», это не так серьезно? «Полюбить» – значит оценить душу, характер и таланты, и принять недостатки. А «влюбиться» – значит размечтаться, увлечься, замереть, увидев образ, в котором соединились какие-то невероятно важные для тебя черты – чисто внешние, конечно, но тебе кажется, что именно это сочетание черт непременно должно стать вместилищем того характера и душевных качеств, которых ты и ищешь в человеке, которые и принесут тебе счастье. Влюбиться – это иллюзия, увлечение внешним блеском… Конечно, оно может потом перерасти в нечто большее. Но все равно «влюбиться» – это то, что делаешь глазами, а не сердцем… Так можно ли влюбиться, не видя лица? Похоже, что да. Потому что она только что влюбилась в человека, которого только со спины и видела. Именно влюбилась – а как иначе описать чувство, которое владеет ею? Сердце бьется, как сумасшедшее, и она знает, что покраснела, и может только смотреть, не отрываясь, на своего неожиданно возникшего из вечернего сумрака прекрасного незнакомца. Она подходила к зданию Оперы со стороны проспекта – как всякая иностранка, она до сих пор не может удержаться от искушения ходить по самым избитым, самым очевидным туристическим маршрутам Парижа. Она часто так делает – знает, что удобнее было бы попадать в здание со стороны служебного входа, но парадная лестница такая красивая, и капельдинеры всегда так ей кланяются – она не так давно приобрела свой новый статус и все еще им наслаждается… Так вот – она подходила к зданию с парадного входа, и увидела, как перед галереей крыльца останавливается экипаж. Это не может быть зритель – до спектакля еще два часа. Она только успевает улыбнуться про себя – надо же, кто-то еще из имеющих отношение к Опере людей так же, как она, любит парадный вход – когда дверца экипажа открывается, и на занесенную снегом лестницу выходит мужчина. Всего шесть вечера, но небо уже темное – зима. Снежинки неторопливо пляшут в свете фонарей, и сами фонари слегка покачиваются на легком ветру. Очень красивый, какой-то нереальный вечер. Черный с серебром экипаж, и вышедший из него мужчина смотрятся на фоне снега и фонарей и темного, на причудливую гору похожего здания Оперы так, словно сошли со страниц фантастической новеллы Гофмана. Очень высокий, очень худой, мужчина одет в узкое длинное черное пальто. Соскакивая со ступеньки, он как будто на секунду теряет равновесие и опирается на раскрытую дверцу кареты. Его рука затянута в черную перчатку. В другой руке он сжимает трость – тоже черную, с набалдашником в форме, кажется, черепа. У мужчины волнистые темные волосы, подстриженные не слишком коротко – она видит, как завиток на затылке ложится на воротник: мех каракуля такой же темный, но более кудрявый. Шляпа надвинута низко на глаза, лица совсем не видно, да и стоит он отвернувшись. Вообще непонятно, почему он задерживается при входе, но он несколько мгновений стоит, держась за дверцу, и смотрит вверх, на фасад Оперы. Его спина напряжена, рука дрожит – кажется, что пребывание на этих ступенях стоит ему огромных усилий. Наконец он отпускает дверцу – словно корабль с якоря снимается, чтобы пуститься в опасное открытое море, но он всего-навсего начинает подниматься по лестнице. Пройдя несколько шагов, он слегка поворачивает голову и обращается к кучеру – отпускает его. «Сегодня вы мне больше не нужны. Я вернусь пешком». У него поразительный, необыкновенно музыкальный голос, очень необычного тембра – низкий, но звучный. Где-то между тенором и баритоном… Голос, который говорит о силе – и оставляет намек на мягкость. Голос, в котором есть мощь – и уязвимость. Он всего одну фразу произнес, и притом самую банальную, но воздух вокруг словно завибрировал. Кто же это – певец? Но почему она никогда раньше не встречала его? Когда незнакомец заговаривает с кучером, она на секунду видит в тени полей шляпы его лицо – вернее, левую его половину. Он очень бледен. У него прямые черные брови, и аккуратные небольшие бакенбарды, и угрюмый рот – уголки губ словно навеки слегка опущены. Даже в свете фонарей, за долю секунды она успевает увидеть, что у него невероятно светлые глаза – они блестят в тени шляпы перед тем, как он закрывает веки и еще на мгновение останавливается. Собирается с силами? Похоже, ему совсем не хочется идти нынче в Оперу… Наконец он берет себя в руки – еще секунда, и он уже скрылся в тени аркады. Скрипнула дверь – он вошел в здание. Получается, что она все-таки видела его лицо – пусть и мельком. Но могла бы и не видеть. Ей было достаточно уже разворота его плеч, поворота головы, того, как он движется, как звучит его голос. Широкая спина и деликатные пальцы, сила и слабость, обещание страсти – и ореол страдания и тайны… Ей богу, все это было в одном только дрожании его руки в перчатке, когда он отрешенно смотрел на фасад здания. Этот человек не только на персонажа Гофмана похож – он еще похож на героя романа для дам: таинственного смуглого незнакомца, который живет в готическом замке на болоте… Стыдно, конечно, но ей всегда нравились и Хитклиф, и Рочестер, и их многочисленные двойники, заполонившие книжные страницы. Но ей и в голову не могло придти, что она может увидеть такого мужчину просто так – посреди улицы в Париже, на пороге театра, по дороге на работу. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой – а она давно уже не девочка и знает, что от таких сюрпризов все равно толку не бывает. Да и что она станет делать с героем романа – они все больше влюбляются в трепетных девственниц и гувернанток? Что она может ему предложить? И все же – все же… Мечтать ведь никто не запрещал, верно? Как и влюбляться. Наоборот – в ее положении даже есть определенные преимущества. Свобода. Ей никто не указ – она имеет полное право отправиться в Оперу, и разыскать таинственного незнакомца, и рассмотреть его лицо, и кокетничать с ним столько, сколько душе ее будет угодно. Потому что такие мужчины на дороге не валяются, и не воспользоваться возможностью – просто грех… Пусть это и будет только игра. Но так хочется наконец чего-то веселого. Чего-то волнующего. Интересного. Нельзя же, в самом деле, только работать! Она решительно подходит к лестнице и начинает подниматься. На середине высоты, там, где стоял ее незнакомец, она невольно замедляет шаг. На ступеньке еще видны его следы – их медленно, медленно заметает снег. Сегодня и правда очень холодная ночь. Она мечтательно смотрит на отпечаток его ноги, оглядывается вниз и вверх. Поправляет меховой капюшон и улыбается. Приключение! Ей предстоит приключение. Коротко вздохнув, она говорит тихонько: - Боже, какой мужчина! Она произносит эти слова по-английски: “Oh dear, what a man!” Хочется иногда поговорить на родном языке, хотя бы с самой собой. Глава 7. Репетиция. Париж, январь 1885 года. Чертова ложа №5, откуда Эрик привычно слушает репетицию, чертов бархат, чертова пыль, которой он всегда набит, и чертовы запахи краски, пота, человеческого дыхания, и теплого лака на инструментах оркестра, и вянущих цветов – театр всегда полон запаха мертвых цветов, как огромное кладбище. Чертов шум – скрипки, арфы, и болтовня, болтовня Бригана у него над ухом, чертова репетиция, ему не стоило приходить, ему вообще не стоило сюда приезжать. У него раскалывается голова, рука, лежащая на бортике зашторенной ложи, дрожит… Впрочем, удивляться тут нечему. Он болен. Два дня назад, выходя из экипажа, он едва не потерял сознание; поднимаясь по лестнице в Оперу, вынужден был остановиться и перевести дух. Что он творит с собой? Он слишком стар для таких вещей. Если он будет продолжать в том же духе, он скоро умрет. В темноте ложи Эрик криво усмехается обороту своей мысленной речи. Убить себя – разве не в этом цель существования, которое он ведет? Разве не презирает он себя ежедневно за то, что все еще жив – за то, что не покончил давно с собой, не убил себя быстро вместо того, чтобы делать это медленно? Она мертва – что он вообще делает тут, почему не гниет давно в земле рядом с нею… Конечно, никто не дал бы ему лечь рядом. Не важно – поблизости он нее. Ему надо было умереть еще тогда, после «Дона Жуана». Когда он впервые потерял ее. И уже тогда – навсегда… Его жизнь – пытка. Что бы он ни делал, куда бы ни направился, о чем бы ни думал – он видит перед собой Кристину. Ее лицо: смеющееся, восторженное, залитое слезами. Мертвое – каким он видел его в церкви, прячась в толпе во время похорон. Видит Кристину, истекающую кровью в тот самый час, когда он мечтал о ней с вожделением. Стоит ему закрыть глаза – и она перед ним, безмолвно, печальной улыбкой обвиняет его в предательстве, в убийстве, в забвении. В том, что он все еще жив, в то время как ее нет. Сколько раз уже Эрик проклинал голос, который не дал ему умереть тогда, год назад, в подземелье? Зачем он остался жить? Только для того, чтобы при жизни получить представление о муках, которые ждут его в аду – после смерти, и хорошенько подготовиться, и закалиться? Потому что демоны не смогут приготовить ему ничего более впечатляющего, чем собственный разум. Разум, в котором он заперт, как в темнице. Раньше в этой темнице было холодно, темно и одиноко – и терзала его только жалость к себе, только обида на несправедливость судьбы. Теперь темницу с ним разделяет призрак женщины, которую он предал – и мираж божественного звука, ради которого он совершил предательство. Он почти не ест – зачем? Почти не спит – ему страшно закрывать глаза. Зато он пьет. Единственное, что позволяет ему забыться, хотя бы на мгновение – отличный шотландский виски. Много виски. Каждый вечер. Неудивительно, что у него болит голова и трясутся руки. В первые месяцы после смерти Кристины Эрик исчез из поля зрения своих итальянских знакомых, издателей, директоров театров, которые ждали от него новой оперы. Эйфория, экстатическая вера в свою избранность, поразившие его при звуках необычного контральто в подвале Оперы, прошли очень быстро, и он обнаружил, что на самом деле не может работать – сама мысль о том, чтобы сесть к роялю, ему отвратительна. Он скитался по Европе, пока не застрял в Венеции – самом красивом и обреченном городе мира, городе, где воздух пропитан запахом тления – запахом гниющей в каналах воды. Мертвый город – место как раз для ходячего трупа. Недели, проведенные там, Эрик помнит смутно – словно обрывки красивого, но очень страшного сна. Он едва различал день с ночью, бродил, как лунатик, по гулким комнатам съемного палаццо на Большом Канале, и по лабиринтам затянутых туманом улиц. Карнавальная толпа принимала его в свои объятия, как родного – здесь его маска была лучше любого лица. Он помнит нестройную музыку, сопровождавшую неуклюжие танцы, золото огней и зеленое сукно игорных домов, помнит женщин, которые настойчиво расстегивали на нем одежду. Помнит, как отталкивал их жадные руки: потные ладони, жирные груди в глубоком вырезе платья, пьяные глаза в прорези маски… Все это вызывало одну тошноту. Подумать только… когда-то Эрику казалось, что он все на свете может отдать за то, чтобы почувствовать: женщина желает его. Раскрывается перед ним. Одной мысли об этом было достаточно, чтобы тело его восстало, ища облегчения, которого ему неоткуда ждать. Ему казалось иногда, что он сойдет с ума. Не то теперь. Теперь его рассудок в безопасности. Он не видит больше женщин – только мертвую Кристину. Он помнит, как очнулся после одной такой ночи на улице – несчастный, плачущий, исполненный омерзения и стыда – и такой же невинный, как прежде. Как брел, кутаясь в плащ – холод на рассвете такой пронизывающий, и ветер с лагуны пробирает до костей. Торговцы на Риальто открывали свои лавочки, и Эрик скользил взглядом по серебряным безделушкам, веерам, туфлям и стекляшкам, которые были ему не нужны… И увидел вдруг книгу: потрепанную, с заломленной обложкой, с почти стертой надписью золотым тиснением. Карло Гоцци, «Сказки для театра». Он раскрыл ее от нечего делать, сам не зная, зачем. На титульном листе была гравюра: фантастический монстр, ужасающее чудовище в цепях стояло на коленях перед темнокудрой красавицей, занесшей над ним меч. Чудовище плакало. Красавица смотрела на него с жалостью. Под гравюрой была подпись: Il mostro turchino. «Синее чудовище». Благодаря этой книге Эрик все еще жив. Он прочитал ее, с трудом разбирая венецианский диалект, и впервые за многие недели в сознании его забрезжила какая-то цель. Он нашел, наконец, сюжет, на который мог написать оперу: историю гордой принцессы, которая должна заставить себя полюбить чудовище, в теле которого заточен ее муж – и тем самым спасти его от смерти... Оперу для голоса из подземелий. Эрик вернулся в Милан (Бойто был счастлив, хотя и обеспокоен явными и неблагоприятными переменами в его здоровье). Беспорядочный образ жизни не мешал Эрику погрузиться в композицию. Хотя, на самом деле, образ его жизни был весьма упорядочен: он только работал и пил. Никогда еще партитура не давалась ему так тяжело. Даже «Дон Жуан» – в тот раз Эрик сочинял, преисполненный надежды. Теперь он писал, сомневаясь в каждой ноте… Он закончил оперу месяц назад, и предложил ее Гранд Опера – в этом театре еще не было его премьер, и он обещал Бригану новую вещь. Кроме того, Эрику виделось нечто символическое в том, что новая опера впервые прозвучит в городе, где кончилась его прежняя жизнь и началось это странное существование на грани безумия. В городе, где ему следовало бы умереть. Бриган продолжает что-то бормотать – рассказывает, в сотый уже раз, как он счастлив, что маэстро де Санном выбрал его театр, и как трудно ему было найти певицу на главную партию. Все-таки меццо-сопрано, и уже тем более контральто, редко достигают статуса примадонн, а тут нужна именно примадонна – уж больно сложна партитура маэстро. Конечно, все помнят Виардо, но она все-таки блистала много лет назад. Но Бригану повезло – он нашел, вернее, мадмуазель Андерсон оказалась свободна… Эрик устало закрывает глаза – он слушает директора Оперы в пол-уха. Ему совершенно неважно, кто споет в его Опере. Он давно уже убедил себя, что голос, который он слышал в подземелье, был иллюзией, слуховой галлюцинацией. Самообманом, который он внушил себе для того, чтобы позорно избежать смерти. Раз этого голоса все равно не существует, не все ли равно, кто будет петь вместо него?.. Девушка, о которой рассказывает Бриган, наверняка вполне достойно справится. Она пела Эболи здесь, в Париже, и Амнерис в Сан-Карло, и Кармен в Лондоне, и даже Орфея где-то в Германии… Он слышит на сцене какую-то возню, и голос дирижера: «Вам так удобно, мадмуазель?» Приятный низкий голос отвечает: «Вполне. Будем начинать?» Любопытство – самый распространенный людской порок, а Эрик все-таки человек. Ему интересно узнать, как выглядит его примадонна. Он открывает глаза и чуть-чуть отодвигает занавеску, чтобы видеть сцену. Она стоит прямо перед дирижером: высокая, стройная, очень, на самом деле, красивая девушка… Не слишком юная: на вид ей лет двадцать пять. Одета в коричневое повседневное платье и кутается в шаль – в театральном зале всегда так зябко, пока публики нет. Кожа светлая, но необычного тона – словно с легким загаром. Изящные кисти, пальцы тонкие, с коротким ногтями – наверняка она аккомпанирует себе на фортепьяно. Длинная шея, гордо посаженная голова. Лицо спокойное, но сильное: крупный нос, темные брови, яркие серые глаза и улыбчивые губы. Красивое лицо – его героине, самоотверженной грузинской принцессе, такое подойдет. А еще у девушки удивительные волосы: золотистые, кудрявые и коротко стриженые – они едва закрывают ей уши, они окружают ее лицо, как облако света, как на картине прерафаэлитов. Она и правда необычайно красива. Эрик задергивает штору, довольный. Впервые за год он на секунду забыл о своих терзаниях, обрадованный простой мыслью: девушка, которую нашел Бриган, подходит на роль – она будет прекрасно смотреться. Если она поет хотя бы в половину так же хорошо, как выглядит, то все будет в порядке. Эрик откидывается в кресле и снова закрывает глаза. Он может успокоиться. Передохнуть. На сцене девушка начинает, наконец, петь. Веки Эрика распахиваются – он выпрямляется так резко, будто его ударило электрическим током. Это тот самый голос… Проклятый голос, который не дал ему умереть. Глава 8. Не столь прекрасный незнакомец. Париж, январь 1885 года. Женщина сидит за туалетным столиком, подперев голову рукой, и смотрится в овальное зеркало в простой золоченой раме. Стол в некотором беспорядке – на нем вперемежку лежат пудреница, щетка для волос, перчатки – два парные и одна лишняя, на второй кофейное пятно, придется, видимо, выбросить, а жаль – лиловый цвет такой приятный… Золотая цепочка с небольшим сапфировым кулоном, только что снятая, висит на бортике раскрытой шкатулки с драгоценностями. Бриллиантовая брошка в виде цветка поблескивает в полумраке – словно подмигивает. Довершает картину пара подсвечников и небрежно брошенный букет гиацинтов… Они скоро завянут, и бог с ними – она не любит эти цветы. За ее спиной копошится камеристка – она только что кончила расчесывать ей волосы. Пусть они и короткие – и как же удобно с такими! – но все равно нуждаются в уходе, так что каждый вечер, будьте любезны, двести взмахов щеткой… Благодаря этому они такие пушистые и сияющие. Определенно, волосы ее хороши. У нее нет причин быть недовольной и своим лицом: кожа ее всегда была чистой, и даже в двадцать пять, и при том что часто приходится наносить театральный грим, она сохраняет упругую свежесть юности. Наверное, это благодаря горному воздуху ее родины: никогда и ни у кого не бывает лучшего цвета лица, чем у девушки, которая взобралась на вершину холма над лохом. Ее брови от природы имеют правильную форму – выщипывать их не нужно. Ее губы красиво очерчены, и имеют приятный розовый цвет… Боже, она просто как Оливия из «Двенадцатой ночи» с ее «каталогом прелестей»: «пара губ, в меру красных, и два серых глаза в придачу». Да, два серых глаза. Которым мужчины не раз расточали самые витиеватые комплименты. Женщина встает, чтобы в очередной раз оценить свою фигуру. Опять же – нет причин для недовольства собой: высокая, стройная, с крепкой небольшой грудью и тонкой талией… Она хорошо смотрится в мужских костюмах, которые, по ее голосу, ей часто – слишком часто – приходится носить на сцене. Сейчас, когда она избавилась наконец от корсета и надела ночную сорочку и пеньюар, она особенно привлекательна. Шелк цвета слоновой кости прекрасно подчеркивает ее золотистую кожу. Это не тщеславие – это просто констатация факта. Она очень красивая женщина. Не особенно счастливая, может быть, – каждому приходится расплачиваться за ошибки юности… Но красивая. Почему же маэстро Эрик де Санном не желает ее замечать? Хотя нет – она не права. Он ее замечает. Он исправно отзывается о ее пении, вносит какие-то коррективы – всегда, надо сказать, удивительно точные. Высказывает пожелания. Он очевидно уважает ее вокальные таланты. Но он в упор не видит в ней женщину – все ее попытки как-то разбить лед в общении с ним потерпели полный крах. Она озадачена: он едва отвечает на ее улыбки, никогда не скажет человеческого слова. Он только смотрит на нее холодно, едва ли не презрительно. Этот неприятный взгляд так резко контрастирует с вдумчивостью его профессиональных замечаний, со вниманием к пению, с пониманием вокальной техники… Иногда ей кажется, что маэстро раздражает то, что ее голос не может существовать отдельно от тела. Он предпочел бы, чтобы ее можно было только слышать, но не видеть… Он избегает встреч с ней – передает ей записки с мсье Бриганом. За те две недели, что прошли с начала репетиций, они виделись едва ли три раза. В первый раз они столкнулись в кабинете директора Оперы. Она пришла, чтобы пожаловаться – в ее гримерной ужасно дует из-за зеркала, словно там не глухая стена, а проем. Может быть, что-то с вентиляционной шахтой, но так или иначе – это беспорядок, и ей неуютно. Маэстро де Санном как раз уходил – он встал из кресла и развернулся на звук открытой ею двери. Она сразу узнала его, незнакомца с лестницы, и думать забыла о своем зеркальном сквозняке. Она была поражена, увидев наконец лицо мужчины целиком: его правую половину скрывала маска из тонкой белой кожи. Очень красивая, очень холодная и немного зловещая – главным образом из-за полной своей неподвижности. Конечно, она сразу поняла, кто это: все знали, что у маэстро де Саннома есть причуда – он носит маску. Но ей странно было, что именно он оказался ее таинственным героем – она не успела удержать язык за зубами и выпалила: - Вы! Он заметно насторожился – даже подался немного назад: - Мы знакомы, мадмуазель?.. Бриган вмешался и представил их: - Мадмуазель Андерсон… Маэстро де Санном. Она улыбнулась: при свете дня мужчина показался ей еще красивее. Хотя во внешности его было что-то болезненное: он был бледен, под покрасневшими, словно от долгой бессонницы, глазами лежали тени. Вернее, под тем глазом, что не скрывала маска. Глаза у него были удивительные: серые, яркие – словно искрящийся дымчатый кристалл. И холодные. Ужасно холодные – особенно когда он произнес – тон противоречил любезным словам: - Рад знакомству. Ваш голос… я большой его поклонник. Но я не припомню, чтобы мы встречались. Девушка смутилась под его ледяным взором – а это бывало с ней нечасто – и ответила неловко: - Я просто узнала вас, маэстро. Вы человек известный. Он слегка склонил голову, принимая комплимент, но не отрывая от нее пристального взгляда: - Моя известность – ничто по сравнению с вашей славой, мадмуазель. Она рассмеялась: - Вы мне льстите, и напрасно: мое имя еще мало что говорит любителям оперы, и певице с моим диапазоном не так просто сделать себе имя. Все мои героини – второстепенные: Эболи, Амнерис, Адальгиза, даже, боже мой, старушка Азучена. Де Санном иронически приподнял бровь: - Вы кокетничаете. Кармен, Розина, Клеопатра, Золушка… Орфей, наконец. Все это главные партии. Вам их недостаточно? Певица сама не заметила, как втянулась в перепалку – обычно она старалась сдерживаться, но этот мужчина все равно уже вывел ее из равновесия, и ей почемуто хотелось возразить ему: - О, но кто в наше время ставит «Орфея» или «Золушку» Россини? А Розину давно отняли у нас сопрано. Они отнимают у нас и роли, и мужчин: даже Тангейзер ушел от Венеры-меццо к сопрано. Мы, простые приземленные женщины, вечно боремся с этими нежными трепетными созданиями, и терпим поражение! Она шутила, конечно, и поражена была его реакцией на ее слова – на мгновение краска бросилась ему в лицо, и глаза его потемнели от гнева. Ощущение было пугающее. Ради бога, чем она его так взбесила? Бриган вмешался, торопясь сменить тему: - Ну что же, вот тут маэстро и взялся исправить ситуацию – написал нам «Синее чудовище». Вы не можете отрицать, что тут ваша партия хороша, мадмуазель? Девушка кивнула, благодарная за возможность как-то извиниться – сама не зная, за что: - Я действительно в восторге от своей партии… Мне кажется иногда, что она словно специально для меня, для моего голоса написана. Я так вам благодарна. Увы – эти слова пришлись де Санному тоже не по душе. Но, по крайней мере, гнев его сменился смущением. Он отвел взгляд: - Я рад, что вы довольны. Я всегда верил, что вокальная музыка должна быть удобной прежде всего певцам. – Он вздохнул, стараясь найти тему для светской беседы, и наконец преуспел. – У вас необычное имя. Откуда вы, мадмуазель Андерсон – из Англии? Девушка покачала головой: - Скажи вы это моему отцу, он бы вас на клочки порвал. Моя семья не из Англии, а из Шотландии: маленькой и гордой страны, которая по всему миру славится виски – и приятными людьми. Мы как раз такая семья. Мой отец делает виски, и мы – очень приятные люди. – Он воспринял ее слова без всякого интереса, и она зачем-то добавила. – Меня зовут Джен. Джанет. Он нахмурился и переспросил: - Жанетт? - Нет, нет… Жанетт – это Жанна, Джоанна. А я Джанет. Он повторил еще раз: - Жанет. Он произнес ее имя с таким забавным французским акцентом, что девушке стало вдруг очень весело, и на сердце заплясало смешливое умиление, и она широко ему улыбнулась. Она так рада была, что ее таинственный незнакомец наконец нашелся – она уже и не чаяла его увидеть, после того снежного вечера он будто сквозь землю провалился. Она рада была, что он и правда так хорош собой, как показалось ей в сумерках. И как прекрасно, что он не какой-нибудь болван из так называемых «патронов Оперы», а композитор, и притом великолепный… А он вдобавок был еще и умен, и характер у него сильный. Вздорный, видимо, и скрытный, но ей не привыкать – она выросла с тремя братьями. Вообще-то, де Санном напоминает ей самого старшего, Хэмиша – тот тоже все время рычит и пытается всеми верховодить. В любом случае, вспыльчивость маэстро говорит о ярком темпераменте – как, впрочем, и музыка, мелодичная, пронизанная чувственностью и энергией. Давно уже – может быть, никогда, – у нее не было чувства, что в одном человеке сошлось все, что нравится ей в мужчине. Повинуясь внезапному порыву, Джен подошла к нему поближе и взяла за руку, пожимая ее: - Я так рада, что мы с вами познакомились. Несколько секунд он смотрел вниз, на их соединенные ладони. Потом, наконец, ответил ей легким пожатием и сказал, подняв на нее непонятнонастороженный взгляд: - Я тоже… Тоже рад, – и улыбнулся. Словно солнце выглянуло из-за серых туч. Джен даже прищурилась от удовольствия – все складывалось как нельзя лучше. Это, однако, была его последняя улыбка – и их последний любезный разговор. С этого дня маэстро явно стал избегать ее, писать свои дурацкие записки, и холодно кланяться при встрече. Но ведь она чувствовала, что понравилась ему. Ему нравилось ее пение. И она знала, что он наблюдает за ней: очень часто, стоя на сцене, она замечала, как колышется занавеска его ложи, и иногда в коридорах ей мерещилось, что он следует за ней незримо, как тень. И смотрит, смотрит – молча, пристально, холодно. С этой необъяснимой смесью презрения и… какой-то тоски. Тоски его она ничем не вызывала, а презрения ничем не заслужила. Он вел себя странно, и он измучил ее неизвестностью, сам того не желая. Сама виновата – не надо было о нем фантазировать. Ну что же – может, так оно и к лучшему. Не сложилось. Значит, надо выкинуть его из головы. Приняв это решение, Джен отрывается от созерцания собственной персоны в зеркале и задувает свечи на туалетном столике. Камеристка давно уже ушла, певица осталась одна в спальне своего небольшого особняка в районе Люксембургского сада. Она ступает босыми ногами по персидскому ковру. Мягкий ворс щекочет пальцы. Откидывает атласное покрывало, рассеянно взбивает подушку. Для кого все это соблазнительное великолепие? У нее давно уже не случалось романов. Ну что же – не случится, видимо, и теперь. Она ведь твердо решила выкинуть равнодушного Эрика де Саннома из головы. Она залезает в постель – смешно, как маленькая девочка, упираясь коленками, она ничего не может поделать с этой привычкой, – и с наслаждением вытягивается на прохладных простынях. За окном опять идет снег. Не так это просто – забыть его. Стоит только закрыть глаза, и она снова видит, как он улыбается, и произносит ее имя, проглатывая первую букву и смягчая звук: «Жанет». Эрик… ЭрИк, с ударением на «и», это же французское имя. Джанет вздыхает. Поворачивается на бок и кладет руку под подушку. Эрик. Красивое имя. Красивый голос. Красивый мужчина. Надо, все-таки, что-нибудь придумать… Через минуту она уже спит. Глава 9. Дежавю. Париж, январь 1885 года. На высоте ветер пронизывает до костей. Бронзовые статуи с лирами в воздетых руках стоят, покрытые инеем, и каждый порыв ветра сметает сухой снег вдоль швов между зелеными листами кровли все дальше – от основания купола к карнизу. Эрик готов мириться с холодом, и раз за разом стряхивать снежинки с мехового воротника плаща, и дуть на пальцы, неумолимо коченеющие даже в кожаных перчатках. Он со многим готов мириться ради вида, который открывается на Париж с крыши Оперы. Плотные старые кварталы, гордые оси проспектов, прорезанных Оссманном, грязная лента наполовину ставшей Сены… Остров Сите с торчащим, как черный гнилой зуб, собором Нотр-Дам. Прямоугольники ПалеРояль и Лувра, сад Тюильри, чьи деревья в зимнее время похожи на грустный частокол дворницких метелок. Елисейские поля, которые отсюда кажутся муравьиной тропой – столько на них мельтешит народа. Сахарная голова церкви Сакре-Кер. Зигзаги Бульваров. Площадь Звезды – ее очертания на таком расстоянии едва угадываются. Булонский лес не виден вовсе, лишь синеватое пятно подсказывает место, где он находится. Эрик всегда любил крышу Оперы: нигде больше он не чувствовал такой свободы, такого мира с собой, как там – над расписным куполом своего земного пристанища, под бездонным куполом равнодушных небес. Здесь никто его не тревожил, и он не мог никого напугать. Здесь не сновали любопытные рабочие сцены, и не хихикали девчонки из кордебалета, и здесь не было крыс. Здесь его не преследовал тяжелый, настороженный и сочувственный взгляд мадам Жири. Бродя здесь, между трубами и статуями, Эрик мог на время забыть, кто он и что он, и просто жить, поеживаясь от ветра и подставляя лицо солнцу – на крыше он всегда снимал маску. Здесь он, еще будучи мальчишкой, гонял голубей, и лежал часами, раздевшись, на теплом камне парапета. Сколько закатов и рассветов он встретил здесь, сколько раз следил, как совершает свое путешествие по парижским крышам луна… Право слово, самые счастливые часы его жизни прошли на крыше Оперы. И здесь, на этой крыше, он услышал, как Кристина предает его – с расширенными от ужаса глазами рассказывает виконту де Шаньи и о его любви, и о его уродстве. Кажется, никогда в жизни он еще не испытывал такой боли… А ведь это было только начало. После той ночи Эрик больше не приходил сюда – не мог себя заставить находиться там, где увидел, как она роняет в снег подаренную им розу и бросается на шею другому мужчине… Кристину он простил уже через полчаса. А вот крыша Оперы стала для него, как заклятая. Однако теперь Эрик снова здесь, и снова смотрит, как бегут по заснеженному городу тени облаков. Небо за западе розовеет, скоро закат. Ветер глушит любые звуки – кажется, что ты один во всем мире, словно на вершине горы. То, что нужно, чтобы разобраться в хаосе своих чувств, а без этого Эрику теперь никак не обойтись. Он взбешен – тем, что его «божественный» голос принадлежит реальной женщине, и тем, что небеса зачем-то дали ему возможность увидеть ее во плоти. Он ненавидит ее за то, что она красива, и за то, что она умна: голос ее – не просто бездушный инструмент, каждая нота, которая рождается в ее груди, трепещет в горле, так что на стройной шее бьется едва заметно голубая жилка… каждая нота исполнена смысла. Он ненавидит ее за то, что она улыбается ему. Но больше всего ненавидит сам себя – за то, что творится с ним, когда он ее слышит… и видит. Он ненавидит себя за восторг, которым наполняется его сердце, когда его музыка ложится на тот именно голос, для которого написана. Это похоже на наркотик – он раз за разом приходит на репетиции, чтобы опять услышать, как голос ее подхватывает его мелодии и поднимает их на невероятную высоту… Они едины, его музыка и ее голос – это словно птица, вставшая на крыло и поймавшая поток попутного ветра. Он может часами смотреть на ее лицо – чем ближе спектакль и серьезнее репетиции, тем глубже она постигает свою героиню: грузинская принцесса Дардане страдает, надеется, выражает презрение и гнев, и борется со странной любовью, которая потихоньку рождается в ее сердце. И каждая мысль, каждое чувство звучат в голосе певицы, возникают в ее глазах. Невероятных, сияющих серых глазах, которые, кажется, находят его даже в закрытой ложе – даже сквозь задернутые занавеси. Он неотрывно следит за ее руками: длинные пальцы перелистывают ноты, теребят воротник платья, ерошат золотистые, цвета спелой ржи волосы. Ее губы изгибаются в легкой, необъяснимой улыбке – словно она смотрит внутрь себя, и видит там что-то приятное. В такие минуты Эрик завидует ей смертельно – он, глядя себе в душу, видит только тьму. Как хорошо ему было бы никогда не видеть этой девушки. Он не хочет ее видеть – не желает замечать ее движений, улыбок и жестов, не желает замечать красоты. Но он замечает, и ненавидит свое тело за то, как оно реагирует на мадмуазель Андерсон. Смешно: человеку, который всю жизнь прожил без общения с женщинами и без всякой надежды когда-нибудь его добиться, отсутствие интереса к ним не должно было доставлять особых огорчений. Он и правда был почти доволен ступором, в который погрузились в последний год все его чувства. Но один звук этого контральто, один поворот кудрявой головы – и его тело словно проснулось. И оказалось, что ему все же не хватало желаний, которые наполняют жизнь любого мужчины. Желаний, которым в его случае суждено остаться неудовлетворенными. Вечер того дня, когда он услышал ее, стал первым за многие недели, когда Эрик уснул без помощи алкоголя. Он словно в тумане дошел до своей квартиры на проспекте Оперы – той же, что он снимал и год назад. Разум его сдался без боя – повинуясь животному инстинкту он рухнул на постель, вспоминая незнакомую женщину, которую видел только что в театре. Ее голос принял Эрика, словно распахнутые объятия, память о звуке была реальнее всякого прикосновения. Целый год пустоты, целый год летаргии… Он смутно слышал собственный стон, знал, что по щекам его текут слезы. Ему было стыдно, и невероятно легко, и от этого еще стыднее. Это было странное, очень странное дежавю. Мужчина, он всего только мужчина, с обычными чувствами и желаниями. Ему нельзя поддаваться им… Он знает это прекрасно, и все равно поддается, и тысячу раз проклинает себя за слабость. За глупость. Вот только сегодня он видел, как она, устав ждать, пока репетировали другие, откинулась в кресле, заложив руки за голову. Свободные рукава платья соскользнули с запястий, обнажив руки почти до локтя. Она прикрыла на секунду глаза, и зевнула, и так забавно, по-детски сморщила нос… Бог знает почему, но она смотрит на Эрика с симпатией. Она подошла к нему в кабинете Бригана и пожала руку. Первая женщина в его жизни – сделала шаг ему навстречу, и сжала ладонь, и улыбнулась в лицо. Не как Кристина – в слезах и со взглядом, полным отчаяния и разочарования. Не как пьяные шлюхи, которые иногда приставали к нему на улицах… Нет слов, чтобы описать, что с ним в тот момент творилось. Она стояла так близко, что он видел небольшую трещинку на ее нижней губе, и зеленые искры в серых глазах, и то, как запутался в серьге завиток волос. Он чувствовал ее аромат – свежий, травяной какой-то запах… Потом он вспомнил – он знал этот аромат еще ребенком, когда кочевал с цыганами. Вереск. Это было безумие какое-то. Каждую секунду каждого дня Эрик проводил, думая о ней – вспоминая ее, слушая ее, наблюдая за ней в зале во время репетиции или потом, в коридорах и гримерных… С приближением премьеры она все больше времени проводила в театре, и он оставался, незримый, рядом с ней. Чтобы удобнее было следовать за девушкой, Эрик даже привел в относительный порядок убежище на озере. Сам себе он говорил, что сделал это без всякой связи с мадмуазель Андерсон, просто из соображений здравого смысла – так ли уж обязательно ходить по вечерам в съемную квартиру, когда несколькими уровнями ниже тебя ждет твой старый дом? Но сам себя не обманешь. Эрик точно знал, что с ним происходит. Он не мог не знать, потому что все это уже было с ним однажды. Снова дежавю. Он точно так же слушал уже, как ложится на идеальный голос написанная им музыка. Точно так же следил, неотрывно и отчаянно, за малейшим вздохом и движением девушки, которая пела этим голосом. Точно так же изнывал от вожделения и так же стыдился своих чувств. Глупец, глупец, глупец, упрямец, который не желает учиться на своих ошибках! Он ведь знает, чем это закончилось, и он знает, что должен взять себя в руки… То, что он позволил себе увлечься, само по себе плохо. Но то, что он совершил ту же ошибку во второй раз, уже непростительно. Очевидно, он просто болен. Что это еще может быть, как не странная, одному ему присущая форма безумия? Он ведь видел мадмуазель Андерсон до того, как она запела, и остался равнодушен! Но стоило ему только услышать ее голос, как она полностью преобразилась в его глазах. Каждый завиток ее волос, каждая ресница и веснушка наполнились смыслом, стали желанными и драгоценными. Он знает, как это происходит – он слишком хорошо это помнит. Невинное вначале желание снова и снова слышать и видеть ее. Стремление прикоснуться к ней. Страсть. Невозможность представить себе жизнь без этого лица, без этого голоса. Без этой женщины. К черту! Это совсем другое дело. Эрик любил Кристину. Не только ее голос и тело. Любил ее саму: девочку, подростка, женщину, пугливую и сильную, застенчивую и смешливую, наивную и мудрую, любил ее маленькое детское сердце, любил ее – и в ее лице любил весь мир. Он хотел знать о ней все – он знал о ней все, от звука ее дыхания во сне до того, каким движением она закалывает волосы в узел, от того, что она ела на завтрак, до того, какую книгу мечтает прочесть. Он любил ее… Кого он обманывает? Он и теперь любит ее. Но он не любит Джанет Андерсон. Он сходит с ума от ее голоса, и он жаждет ее тела. Но он не хочет ничего знать о ней: кто она и откуда, и куда денется после того, как споет в его опере. Его страсть к ней – ошибка, которая не делает чести ни его рассудку, ни порядочности. И никакого продолжения у этой ошибки не будет. Он не собирается свалять дурака второй раз – он ни за что не откроется ей. Он удержит себя в узде. Он просто переждет то, что с ним происходит. Это пройдет, как проходит всякая боль. Эрик поднимается с парапета на крыше Оперы. Уже давно стемнело, и он ужасно замерз, но он доволен: он разобрался в себе. Он знает, что нужно делать – вернее, чего делать не нужно. Ему следует оставить в покое мадмуазель Андерсон: слава богу, он и так ей не докучает, ему удается избегать ее. Но ему надо научиться еще и не думать о ней. Тогда ему станет легче. Подойдя к самому краю карниза, Эрик смотрит вниз – ему всегда нравилось это ощущение опасности, легкое головокружение, чувство, что, какой он ни есть, он стоит теперь выше всего остального мира. У служебного входа в Оперу останавливается экипаж. Лакей соскакивает с запяток и распахивает дверцу. Через секунду на занесенную снегом мостовую выходит мадмуазель Андерсон. Эрик легко узнает ее, даже с такого расстояния – он всегда отличит ее походку. Она стоит в свете фонаря, и прощается в кем-то невидимым в тени здания, и смеется: он точно знает, что смеется, она всегда именно так склоняет голову. Ему кажется, что он слышит ее смех. Ему чудится, что он чувствует ее аромат, аромат цветущего вереска, меда и нагретой на солнце пыли. Больше всего на свете ему хочется сейчас быть там, внизу, в экипаже вместе с ней – сжимать ее лицо в ладонях, и погрузить пальцы в короткие кудри, разбирая каждый завиток, и целовать губы, ее неяркие розовые губы с маленькой трещинкой – словно она слишком много улыбалась на морозе, и слышать, как ее низкий голос раз за разом повторяет его имя. С гневным рычанием Эрик ударяет каблуком по металлическому листу кровли: облачко снега срывается вниз и успевает рассеяться, не долетев до земли. Растревоженные неожиданным шумом, из-за его спины взлетают полдюжины голубей. Запахнувшись в плащ, Эрик начинает спускаться в глубину театра. Он жалок, безумен, смешон – и ничего не может с собой поделать. Он должен что-то придумать… Он должен как-то остановиться. Он должен сделать что-то, чтобы раз и навсегда забыть ее… Или завоевать? Говорят, что лучший способ избавиться от искушения – это поддаться ему… Она смотрит на него с интересом. Она улыбается ему. Он ей, очевидно, не противен… Осмелится ли он? Глава 10. Лицом к лицу. Париж, январь 1885 года. Улыбки, обрывки разговоров, прощания, нервные смешки – обычная суета, царящая в театральной труппе, которая почти готова к премьере. Обычно все эти вещи нравятся Джен, она с удовольствием болтает с девушками из хора, кокетничает с партнерами, живо обсуждает, как прошла репетиция. Но не сегодня. Сегодня она с трудом вытерпела всю эту суету, и намеренно отстала от остальных, и при первой возможности проскользнула в свою гримерную. Захлопнула дверь и замерла, прислонившись к ней спиной и сжимая в руках папку с нотами. Закрыла глаза, перевела дух. Наконец-то она одна... Ей необходимо подумать. С ней произошла ужасная вещь. Нет, не так. Она совершила глупость. Ужасную, непростительную, непоправимую глупость. Она ведь обещала себе, что с ней не произойдет ничего подобного. Она влюбилась. Шесть лет назад, по осколкам собирая свою разрушенную жизнь, она поклялась, что не будет делать этого. О, она не собиралась отказываться от романов, позволяла себе увлекаться. Но не любить – все, что угодно, но только не это… И вот же – пожалуйста. Как ее угораздило? Как, ради бога, как увлекательные фантазии о незнакомце с Оперной лестницы переросли в это… это чувство? Это никуда не годится – она на это не рассчитывала. Они с Господом так не договаривались. И главное, из-за чего? Как? Из-за того, что он избегал ее? Из-за ореола тайны, которым он окружен? Бог знает… Сначала она просто хотела расшевелить его, заставить обратить на себя внимание. Она играла с огнем – только слепой не заметил бы, что она флиртует… Он не желал подыгрывать ей, а она не желала отказываться от своих фантазий. Она хотела узнать о нем как можно больше, и осторожно расспрашивала людей. Никто не мог сказать ничего определенного – знаменитый маэстро появился на европейской оперной сцене, как черт из коробочки, без прошлого, без корней, без сплетен и знакомых. Джен не сдавалась. Его первая опера была поставлена в Милане, и она, скрепя сердце, написала в Италию. Она делала это редко – старалась не вспоминать о существовании этой страны, и не напоминать ее жителям о себе. Но тут не удержалась – написала своей подруге, Флоре Понтормо, прима-балерине Ла Скала. Флора ответила быстро – но сведения ее были скупы: бывая в Милане, де Санном жил уединенно, общаясь только с музыкальными издателями и Бойто. Говорят, что он одинок. Говорят, что он временами сильно пьет. Говорят, что он приехал из Парижа три года назад, после пожара в Опере, и говорят так же, что его нелюдимость как-то связана с этим пожаром. Но никто не знает подробностей – ни о его прошлом, ни его связях, ни о его маске. Он так быстро прославился, что его странные привычки перестали коголибо занимать – победителей не судят. Не узнав ничего определенного, Джен осталась наедине с тем, что говорило о маэстро де Санноме откровеннее всего: с его музыкой. Никогда в жизни еще она не работала над партитурой более внимательно, чем теперь. Она вдумывалась в каждую ноту – не только своей роли, но и всей оперы. И ей стало казаться, что она понимает его – молчаливого мужчину в маске, мужчину, в чьей груди бьется страстное, в кровь израненное сердце. Если его музыка хотя бы отчасти отражает душу, то он поистине необыкновенный человек… Наверное, тогда это и произошло. Когда начались оркестровые репетиции, и музыка стала звучать уже не в фортепьянном клавире, а в полную силу, и сопротивляться ей стало невозможно. Раз за разом Джен замечала, что на глаза у нее наворачиваются слезы – не потому, что опера была так уж грустна, хотя веселого в ней было мало… Но потому, что слишком сильные эмоции вызывала эта музыка, пронизанная печалью, и надеждой, и связанной обетом молчания страстью. Но на сегодняшней репетиции произошло нечто большее. Марсель Тардье, молодой певец, исполняющий партию Синего Чудовища, Дзелу, никак не мог справиться со сложным пассажем в дуэте третьего акта. У него все получалось на фортепьянных репетициях, но с оркестром что-то не ладилось. Они повторяли сцену бесконечно, и все устали, и были раздражены… А потом произошло невероятное: мсье де Санном вышел в зал из своей зашторенной ложи. Видно было, что он разгневан – губы сложились в суровую линию, и глаза как-то нехорошо сверкнули, когда он подошел к Тардье. Потом он скомандовал дирижеру, чтобы тот начал сцену снова, и сделал Тардье знак молчать. И запел сам – решил, очевидно, что ему остается только показать певцу, что ему нужно делать. В этот момент Джен и поняла, что пропала. Она слышала и раньше, что у него красивый голос – его речь была очень мелодична. Но ей и в голову не могло придти, что он умеет петь, – для композитора это умение было более чем странным, – и что голос его при этом приобретает какое-то сверхъестественное звучание. Никогда раньше она не встречала такой глубины, такого объема, такого необычного тембра, такой точности и такого чувства. Никогда раньше она не слышала такого певца. Как во сне, она вступила на нужной ноте, исправно исполняя свою часть дуэта. Де Санном спел всего несколько фраз, то место, что не давалось Тардье. Несколько секунд их с Джанет голоса звучали вместе, а потом он резко замолчал и, в наступившей тишине, спросил: - Вам понятно? Тардье кивнул, и действительно с этого момента пел уже без ошибок. Де Санном без единого слова снова покинул зал. Джен только беспомощно смотрела ему вслед. Казалось, он только что держал на ладони ее сердце. Время остановилось, все звуки теперь доносились до нее словно издалека. Влюбилась, господи, она влюбилась в его музыку, в его голос… Влюбилась в него, а он даже не желает с ней разговаривать! Усилием воли Джен возвращается к реальности и отходит, наконец, от двери. В коридоре тихо – уже поздно, театр опустел. Пора уходить и ей, но так не хочется возвращаться в пустой дом… Со вздохом Джен садится за свой туалетный стол, чтобы приготовиться к выходу. Рассеянно приглаживает волосы, перед тем, как надеть шляпку, находит среди гримировальных принадлежностей перчатки. Боже, на левой жирное пятно от грима – что за злосчастье, это уже вторая пара, которую она испортила за месяц! Через два дня премьера, и директор Оперы загодя начал задаривать свою примадонну цветами: по сторонам зеркала стоят четыре букета в разной стадии увядания, лилии и розы, и их тошнотворно-сладкий запах заставляет ее поморщиться и потереть виски. Она смотрит на себя в зеркало – вид у нее смятенный и усталый. Что же ей делать? Прежде всего – успокоиться. Негоже, если ее волнение скажется на спектакле. На самом деле, ей нечего особенно делать. Она сама виновата в том, что с ней произошло, и сама должна постепенно выбраться из западни. Эрик равнодушен к ней – он видит в ней только певицу, пусть и прекрасную. Значит, она должна тоже взять себя в руки и отрешиться от своей глупой влюбленности, и не ударить в грязь лицом – сделать так, чтобы опера его имела тот успех, которого заслуживает. Она проводит рукой по папке с нотами. Мягкая кожа обложки ласкает пальцы. Это великолепная, поразительная партитура, и для нее счастьем должно быть уже то, что ей доведется спеть ее… Эта партия сделает ей имя. На этом ей нужно остановиться. Ей не следует забывать, что она собой представляет, каково ее положение. С таким человеком, как де Санном, нельзя играть. А она не может предложить ему ничего серьезного. Остается надеяться, что чувство ее пойдет на пользу исполнению. А с сердцем своим она справится… хотя пока и не знает, как. Надо, наконец, уходить. Она задувает свечу на столике – теперь комната освещена только слабым фитильком газовой горелки на потолке. В ее свете красные стены гримерной приобретают какой-то неприятный оттенок, и нелепые цветы, которыми расписаны двойные двери, кажутся гротескными и зловещими, словно ядовитые болотные растения. Джен поднимается из-за стола и, на ходу застегивая обтянутую атласом пуговку на перчатке, направляется к выходу. И, проходя мимо большого напольного зеркала, укрепленного на стене напротив двери, в который уже раз чувствует сквозняк. Что же там такое? Джен снова снимает перчатки, бросает их на туалетный столик и подходит к зеркалу. Его простая широкая рама из мореного дуба плотно примыкает к стене. Однако, если провести рукой по щели, по месту стыка, явственно ощущается движение воздуха. Любопытно. Джен опускается на колени, осматривая нижнюю часть рамы. Как она ни проста, резьба на ней все же есть, и один ее участок вызывает подозрение: он будто другого цвета. Зачем только она свечу потушила? В темноте ничего не разглядишь. Бормоча под нос английские ругательства, девушка тщательно ощупывает подозрительный кусок рамы. Нажимает на него. С трудом, но дерево подается, и внезапно стеклянная панель зеркала отодвигается в сторону, открывая проход в стене. Из темного коридора веет сыростью и холодом. Джен невольно вздрагивает и вглядывается во мрак. Что это все значит? Она делает шаг вперед, желая осмотреть раму зеркала с другой стороны, и ненароком задвигает ее… Господи, что она наделала – она заперла себя в темном коридоре! Ее здесь никогда в жизни не найдут… Стоп. Это ерунда – ничего с ней не случится. Наверняка ей удастся открыть зеркало с внутренней стороны – а оно ведь должно открываться с двух сторон, иначе какой в нем смысл? Хороший вопрос. Какой смысл был устраивать в театральной гримерной потайной ход? В общем, в худшем случае ей придется просидеть здесь до утра, пока не придут уборщицы: они услышат ее стук. Глупо только, что она не взяла свечу – с ней найти механизм, открывающий зеркало, было бы легче. Но в темноте… И в этот момент девушка понимает, что в коридоре, на самом деле, не темно. Там, где она стоит, разлито пятно приглушенного света, который идет… из-за зеркала. Вглядываясь в стекло, Джен с изумлением понимает, что оно является зеркальным только со стороны гримерной. Отсюда оно прозрачно и позволяет видеть всю комнату: дверь, старые афиши на стенах, ее туалетный столик с вянущими цветами и небрежно брошенными перчатками. Тусклый свет и толща мутного стекла делают картину какой-то нереальной, призрачной. Кто и зачем установил здесь это странное зеркало? Неожиданно Джен слышит осторожный стук в дверь – и не решается ответить: ведь, строго говоря, ее нет в комнате. Она видит, как поворачивается дверная ручка, как дверь приоткрывается и некто заглядывает в гримерную. В узкой щелке мелькает белизна маски… Де Санном? Но что ему могло понадобиться в ее комнате? Затаив дыхание, Джен смотрит, как Эрик осторожно заглядывает в помещение. Убедившись, что гримерная пуста, он заходит и на мгновение замирает посреди комнаты. Он сжимает в руке что-то небольшое… Подходит к ее столу и оставляет там то, что принес. Некоторое время он смотрит на ее вещи, а потом, очень нерешительно, робко даже берет с поверхности из красного дерева одну перчатку. Закрыв глаза, подносит ее к лицу, прижимает к своей открытой щеке, а потом – к губам. Выражение его лица невозможно описать словами. Тоска? Желание? Обреченность? Нежность? Он коротко вздыхает и, не открывая глаз, проводит по ткани перчатки раскрытыми губами, лаская гладкий атлас – так, как можно было бы ласкать ее кожу. Сердце Джен готово выпрыгнуть из груди. Она ошибалась – ошибалась… Загадочный маэстро отнюдь не равнодушен к ней. Она достаточно видела в жизни мужчин, которыми владеет страсть, и она узнает эти движения, эти отрешенно закрытые глаза, это неровное дыхание. Он желает ее – в этом нет никаких сомнений… Но почему он скрывает свои чувства? Почему избегает ее? В следующую минуту она получает ответ на свои вопросы. Эрик резко, словно очнувшись, открывает глаза и кладет на стол ее перчатку. На лице его появляется гневное выражение – он злится на себя и качает головой, в ответ своим невеселым мыслям. Она слышит, как он шепчет: - Глупец… Глупец. Он отвлекается от стола Джен и неожиданно направляется к зеркалу, за которым она прячется. На секунду становится страшно, и ей приходится напомнить себе, что она для него невидима. Эрик подходит к стеклу и несколько мгновений смотрит на себя с невероятной горечью. У него такие несчастные глаза, что ей хочется позвать его из-за зеркала, утешить хоть чем-то в его неведомом горе. В этот момент Эрик, усмехнувшись, снимает маску и вплотную приближает лицо к зеркалу. Господи!.. Она с трудом удерживает вскрик. Он тихо, язвительно говорит: - Это ты, Эрик. Ты... Что она сказала бы, если бы видела тебя сейчас? Они стоят лицом к лицу, разделенные только зеркальным стеклом. Она смотрит прямо на него, не в силах отвести взгляд, и закусывает костяшки пальцев, чтобы удержать слезы и не выдать себя случайным звуком. Он не должен знать, что она видела его… Не теперь, когда он так уязвим – когда он этого именно и боится. Бедный, бедный Эрик! Что с ним случилось? Почему он… такой? Господи, да какое это имеет значение… Сердце ее обрывается при мысли о том, как он переживает это. Что должно значить подобное несчастье для человека такой… такой красоты? Это все, все объясняет. И холодность его, и скрытность… Ей хочется теперь отодвинуть зеркало, и броситься к нему, и взять в ладони лицо, на котором она по-настоящему замечает только полные боли светлые глаза, и целовать до тех пор, пока он не забудет… Пока не утешится. Но она не успевает сделать ничего подобного, потому что в следующую секунду Эрик уже отворачивается от стекла, и снова надевает маску, и решительно выходит из комнаты. Словно в тумане, Джен нащупывает механизм, открывающий зеркало изнутри. Это оказывается очень просто – проще, чем со стороны гримерной. Она входит в комнату, поражаясь тому, как сильно изменился ее мир всего за пару минут. Еще недавно ей казалось, что она лишь увлечена надменным и самодовольным красавцем в претенциозной маске. Теперь она знает, что скрыто под его маской. И знает, что любит его. Оставшись одна, она наконец позволяет себе расплакаться. От потрясения. От боли за него… От сочувствия?.. И от безотчетной радости – потому что теперь она знает, что он избегает ее вовсе не потому, что она ему не нравится. Столько противоречивых чувств, и выразить их можно только слезами. Ладонью вытирая мокрые щеки, Джен подходит к столу, чтобы взять перчатки, которые он только что так трепетно целовал. То, как он прикасался к ним, для нее важнее теперь, чем правда о его лице. Надо идти, наконец, домой. И тут она замечает то, что он принес ей. Это букет – маленький букет вереска. Господи, где он его взял? Зимой, в Париже… И это не обычный вереск, а белый. В Шотландии его дарят на счастье. Удивительно, что он это знает. Цветок ее родины. Талисман перед премьерой… О нет, маэстро Эрик де Санном к ней отнюдь не равнодушен. Глава 11. Былые, знакомые лица. Париж, февраль 1885 года. Последние две недели накануне премьеры «Синего чудовища» сеньор Убальдо Пьянджи провел в состоянии панического ужаса. Он и его обожаемая супруга Карлотта с радостью откликнулись на приглашение директора парижской Оперы, мсье Бригана, выступить в этой новой вещи, которой все прочили сенсационный успех, и исполнить роли Фанфура, царя Нанкина, и его порочной супруги Гулинди. Партии небольшие, но и они с Карлоттой уже не так молоды – стоит, очевидно, признать, что времена главных ролей для них миновали. Тем более что и голоса их несколько увяли. Голос дорогой Карлотты утратил часть своего диапазона после рождения caro bambino Гвидо – но, право слово, ни на какие колоратуры мира они, счастливые родители, не променяли бы воркование своего румяного первенца. Голос самого Убальдо пострадал по другой причине… Три года прошло, но тенор до сих пор живо помнил ужасный вечер премьеры «Триумфа Дон Жуана»: то, как выпрыгнул на него из-за кулис этот монстр в маске, и то, как померк свет в его глазах, когда ему на шею легла удавка. Чудовище, очевидно, не имело намерения убить его – Пьянджи оказался только слегка придушен, и потерял сознание. Лежа за сценой в обмороке, он пропустил все самое интересное: сценический дуэт Призрака Оперы и Кристины Даэ, и то, как она сняла с него маску, и обрушение люстры, и начало пожара. Очнулся тенор, только когда театр был уже полон дыма, от того, что на груди его рыдала Карлотта – дорогая подруга сочла своего Убальдо умершим, и безутешно оплакивала, несмотря на царящий вокруг хаос. Ее радости от «воскрешения» Пьянджи не было конца – после этого она, собственно, и согласилась наконец пожертвовать своей свободой и увенчать их многолетнюю страсть законным браком. Счастье их омрачали только проблемы с голосом Пьянджи – частичное удушение не пошло ему на пользу. Упорная работа над собой позволила ему частично восстановиться, но все равно – времена главных партий, как уже было сказано, остались для него в прошлом. В этом были свои плюсы: хороший компримарио может неплохо заработать, и Убальдо не надо было больше терзать себя диетой, чтобы играть разных влюбленных дураков. Как уже было сказано, семейство Пьянджи прибыло в Париж воодушевленным: они не выступали в Гранд Опера со времен пожара, все скверное давно успело забыться, и они рады были вернуться. Приехали они не к началу репетиций – в силу небольшого объема партий времени на их подготовку требовалось меньше. В первый же час пребывания в восстановленном театре Пьянджи ожидал весьма неприятный сюрприз. Тенор только-только освоился в отведенной ему гримерной, разложил свои ящички с гримом и примерил еще недошитый костюм царя и уселся перед зеркалом, чтобы привести в порядок усы, когда за спиной его совершенно бесшумно и словно бы прямо из воздуха, как и подобает потустороннему существу, возник… Призрак. Сомнений быть не могло – Пьянджи ни с кем бы не спутал эту внушительную фигуру в белой полумаске. Правда, когда он видел Призрака Оперы в последний раз, маска на том была другая – черное домино Дон Жуана. Но в остальном это был определенно он. Первая реакция тенора была весьма красноречивой: он инстинктивно схватился руками за горло. Человек в маске усмехнулся и приложил палец к губам: - Тсс… Вижу, вы узнали меня, сеньор Пьянджи. Тенор испуганно кивнул, не в силах произнести ни слова. Призраку, видимо, этого ответа было достаточно. Он продолжил: - Я рад, что наша предыдущая встреча закончилась для вас благополучно – я не хотел причинить вам вреда. И я поздравляю вас и мадам Карлотту с браком и рождением наследника. Пьянджи вытаращил глаза: чего-чего, а любезных поздравлений он от зловещего фантома никак не ждал. Призрак снова улыбнулся – поведение тенора его явно забавляло: - Вас, вероятно, мучает вопрос – чем вызван мой нынешний визит к вам. Все очень просто. Я нахожусь в этом театре не в прежнем своем качестве – мое положение изменилось. До вашего приезда здесь не было никого, кто знал бы меня в прошлом. И я хотел бы, чтобы эта ситуация сохранилась. Вы меня понимаете? Тенор недоуменно нахмурился – признаться, он не мог пока понять, к чему клонит его зловещий гость. Призрак иронически поднял бровь: - Вам нечего бояться. И вы, и ваша прекрасная супруга будете в полной безопасности, если не станете распускать языки. Мы скоро встретимся с вами вновь, и вы ни словом, ни жестом не покажете, что знаете меня – и мое прошлое. Вы никому, ничего не будете рассказывать о Призраке Оперы… Договорились? Пьянджи растерянно кивнул, еще раз нервно потянулся к горлу – и сделал вид, что просто хотел поправить шейный платок. Призрак удовлетворенно склонил голову: - Вижу, что мы с вами поняли друг друга. До скорой встречи. Он развернулся и, вместо того, чтобы просочиться сквозь стену, направился, как самый обычный человек, к выходу из гримерной. Пьянджи тем временем собрался с мыслями и осмелился переспросить, обращаясь к широкой спине собеседника: - Но кто же вы… теперь? Призрак остановился на пороге, очевидно намереваясь ответить, но не успел: дверь распахнулась, и в гримерную зашел директор Оперы Бриган: - Сеньор Пьянджи – я решил проверить, как вы устроились… О, какой приятный сюрприз – я вижу, маэстро де Санном тоже здесь. Как любезно и предусмотрительно с вашей стороны: вы зашли поприветствовать сеньора Пьянджи? Тенор заметно побледнел. Де Санном – теперь его следовало звать именно так – кивнул: - Можно сказать и так. Рад видеть вас в Опере… Убальдо. С этими словами он вышел из комнаты, оставив Пьянджи обливаться холодным потом. Конечно, в тот же день тенор рассказал о произошедшем Карлотте. Бывшая дива не особенно обрадовалась такому повороту событий, но отнеслась к нему разумно. «Убальдо, mio caro, – сказала она. – Конечно, это неприятно. Но что мы можем поделать? Не уезжать же отсюда – мы потеряем деньги. Нам придется принять его условия и довериться ему. В конце концов, в прошлом он всегда был любезен с теми, кто выполнял его указания и не перечил ему – точно как mafiosi у нас дома, в Палермо: берут с торговцев деньги за “защиту” от самих себя… Но ведь не трогают же они тех, кто платит!» Чета певцов приступила к репетициям, и подготовилась к премьере вполне успешно. Маэстро де Саннома они видели редко: он, в основном, рассылал свои столь памятные им записки, командовал из зашторенной ложи и вышел в зал только пару раз, чтобы уточнить какой-то момент в пении сеньориты Андерсон и показать сложный пассаж Марселю Тардье. В Опере и правда было спокойно – никто не поминал Призрака и, похоже, не улавливал связи между ним и прославленным маэстро. Да и то, говорила Карлотта – кому было бы вспоминать о нем? Этой старой кошке, мадам Жири? Так она удалилась от дел в связи с замужеством дочери: маленькая вертихвостка Мег выскочила замуж за какого-то аристократа, барона, кажется. Теперь у нее родился сын, и мадам Жири посвятила себя заботам о внуке. Да, в театре все было спокойно. Но все это время репетиций Пьянджи не оставляло нехорошее, липкое какое-то ощущение – не страх даже, а предчувствие катастрофы. Сегодня, в вечер премьеры, оно достигло апогея. И, как выяснилось, не зря. Правда, на первый взгляд проблема не имела отношения к Призраку Оперы: просто так случилось, что Марсель Тардье потерял голос. Самым обычным, судя по всему, образом – простудился, или выпил что-то холодное. Пришел в театр, начал одеваться – и понял, что не может издать ни единой благозвучной ноты. Карлотта, узнав об этом, многозначительно подняла брови – она хорошо помнила, как однажды случилось потерять голос ей, и что – вернее, кто – был тому причиной. Но, верная данному обещанию, певица смолчала и ничем не выдала своих подозрений. В любом случае всем в театре было не до нее: у Тардье не было замены, и премьера находилась на грани срыва. Мсье Бриган метался в полном отчаянии по своему кабинету, где сидели, кроме него, огорченный Тардье, главный дирижер мсье Рейе, и сам маэстро де Санном – по случаю кризисной ситуации композитор соизволил сделать послабление в своем затворничестве и выйти к людям. Бриган бегал по комнате, ломая руки, пока в голову ему не пришла парадоксальная мысль. Остановившись перед де Санномом, он сказал: - Маэстро… Только вы можете спасти нас. Мы все слышали на репетиции два дня назад ваше пение… И, хотя никто из нас не подозревал о ваших способностях, вы поразили нас своим мастерством. Может быть, вы спасете собственную премьеру? Де Санном смотрел на него с искренним недоумением: - Что вы имеете в виду? Бриган живо ответил: - Вы могли бы спеть Дзелу сами! Гнев композитора был почти осязаем – он бросил на директора ледяной взгляд и сказал с металлом в голосе: - Это совершенно абсурдная идея. Я не желаю даже обсуждать ее. Надо отдать должное Бригану – директор Оперы оказался человеком смелым. Он заметно смутился, но не сдал своих позиций, несмотря на угрожающий тон де Саннома: - Маэстро, я понимаю – моя просьба идет вразрез со всеми вашими привычками… Вы не любите бывать, гм, на людях. Но подумайте: ведь Синее Чудовище все время пребывания на сцене остается… Чудовищем. Никто, в сущности, вас и не увидит! До занавеса полчаса, публика уже начала собираться… Конечно, мы можем объявить о переносе премьеры и вернуть деньги. Но это будет так некрасиво выглядеть, и это так неудачно для новой постановки. Все так ждут вашей оперы… Маэстро? Я умоляю вас. Несколько секунд в кабинете царила тишина. Де Санном безмолвно глядел на смущенного директора: выражение лица у него было совершенно непроницаемое. Мсье Рейе тоже молчал, старательно изучая рисунок потоптанного персидского ковра на полу. Тардье горестно кашлянул. Треснули горящие поленья в камине. Наконец – пауза казалась уже бесконечной – де Санном ответил: - Я повторюсь – это в высшей степени странная идея. Но при том, как вы ее излагаете, вероятно, осуществимая. Мне не больше вашего хочется переноса премьеры. – Бриган облегченно вздохнул, но Эрик еще не закончил. – Но у меня есть условие: вы не будете объявлять о замене. К чему будоражить публику? Пусть зрители думают, что поет мсье Тардье. Уверен, что к следующему спектаклю он поправится, и все вернется на круги своя. – Композитор перевел взгляд на мсье Рейе. – Но на самом деле, конечно, решение должен принять мсье Рейе. Что вы скажете, маэстро? Я справлюсь? Мсье Рейе – сухонький, благообразный пожилой человек с мягким взглядом близоруких глаз – оторвался от рисунка на ковре и произнес вежливо: - Мы оба знаем ответ, мсье. Конечно, справитесь. Однако вам следует распеться. И помнить во время спектакля, который так неожиданно свалился вам на голову, что ваш голос – по крайней мере, судя по тому, что я слышал, – примерно на октаву ниже, чем стандартный тенор, для которого написана партия. Это, как вы сами прекрасно знаете, не простая партия. Вам нужно будет быть осторожнее с верхними нотами. Я помогу вам, чем смогу. Эрик кивнул, выражая благодарность. Бриган засуетился: - Вам нужна гримерная, и костюмер… К счастью, костюм вам подойдет – мсье Тардье только на пару сантиметров ниже вас… Я немедленно пришлю помочь вам. - Нет. – Голос де Саннома прозвучал неожиданно резко. – Мне никто не нужен. Я оденусь и загримируюсь сам. Бриган пожал плечами: - Как угодно. Боже, я так вам благодарен, так благодарен! Мы задержим начало минут на двадцать, мсье Рейе, как вы думаете? - Думаю, этого будет достаточно. Теперь мы должны отпустить мсье де Саннома – ему нужно готовиться. Все заторопились – решено было, что Эрик займет на сегодня гримерную Тардье. Выходя из комнаты, композитор на секунду задержался возле дирижера и бросил на него настороженный взгляд. Мсье Рейе ответил ему безмятежной улыбкой и сам вскоре заторопился на свое место в оркестре. Происходившее в театре весьма забавляло мсье Рейе. Дирижер был очень, очень близорук, и он плохо помнил и различал человеческие лица. Но он никогда не ошибался в голосах. Три года назад, во время премьеры «Дон Жуана», он не разглядел лица Призрака Оперы. Но он хорошо успел изучить его голос… баритональный тенор, на октаву ниже стандартного, и очень необычного тембра. Он никогда, ни с чем бы его не спутал. Мсье Рейе услышал его два дня назад, на репетиции, когда де Санном вышел в зал к Тардье. Он почти не удивился, когда с тенором случилась неприятность, и оказалось, что петь он не сможет. Поразительное совпадение, конечно, но случайности бывают. Мсье Рейе не держал особенного зла на Призрака – театральное привидение всегда относилось к нему с уважением, и он сам, в свою очередь, признавал за таинственным патроном Оперы отличный вкус, а потом и музыкальный гений. «Триумф Дон Жуана» был великолепной оперой – жаль, что премьера ее была сорвана столь постыдным образом. Право слово, мадмуазель Даэ вполне могла бы подождать со своими разоблачениями до конца действия. А теперь и партитура оперы утрачена… Нет, мсье Рейе не держал на Призрака зла – он даже сочувствовал ему. И если тот смог создать для себя новую жизнь, и зачем-то вернулся в Оперу – что ж, мсье Рейе не тот человек, который станет выдавать чужие секреты. Дирижер просто забавным находил сегодняшнее досадное и неожиданное несчастье с тенором, и то, как гневно среагировал на просьбу заменить певца де Санном – и то, как легко он дал себя уговорить. Особенно забавным все это выглядело в свете того, что на пюпитре перед ним лежал дирижерский экземпляр клавира «Синего чудовища», собственноручно оркестрованный маэстро де Санномом в знак особого уважения к мсье Рейе. И в этом клавире партия Чудовища Дзелу была транспонирована вниз на октаву. Удивительная предусмотрительность. Маэстро словно предчувствовал, что с ведущим тенором что-то случится… Мсье Рейе улыбнулся еще раз, пригладил закрученные светлые усы, которыми очень гордился, обвел подслеповатым взглядом готовый к работе оркестр и поднял палочку. Наступило время увертюры. Глава 12. Синее Чудовище. Париж, февраль 1885 года. Эрик стоит в полумраке за холщовой ширмой, на внешней стороне которой нарисована скалистая гора с пещерой. Прямо перед лицом его пересекаются деревянные рейки, на которые натянута ткань. За ним – задник, изображающий мрачный лес в окрестностях Нанкина. Эрик чувствует запах свежей краски, и пыли, от которой в театре никуда не деться, и видит сквозь прорези материи освещенную сцену и задернутый занавес. Он слушает короткие, свирепые аккорды собственной увертюры – «Синее чудовище» начинается с грозы. Эта гроза – не просто явление природы: ее устроил заглавный герой, Синее Чудовище, горный дух Дзелу. Когда-то, сто лет назад, он был прекрасным юношей, но мудрецы Священной горы покарали его за гордыню, превратили в монстра и поставили условие – он сможет вернуть себе подлинный облик, только переложив свои страдания на пару влюбленных, которые верны друг другу, как никто в мире. Такая пара нашлась – это юные молодожены, нанкинский принц Таэр и грузинская принцесса Дардане. Чтобы соединиться, они преодолели множество препятствий. Они не знают, что главное испытание их любви еще впереди, и виновником его будет Дзелу. Синее Чудовище. Он, Эрик. Сейчас она выйдет на сцену. Как завороженный, Эрик наблюдает за тем, как расходятся в сторону тяжелые полотнища занавеса. Публика в зале аплодирует великолепной декорации. Сейчас… еще секунда… Вот она: устроенная Дзелу гроза разделила влюбленных, и Дардане оказалась одна в лесу… Так странно. Эрик видит холсты, и суфлерскую будку, и линию огней рампы, и мсье Рейе в оркестровой яме, и темный, полный неразличимых лиц зал. Но одновременно он видит все это преображенным: видит волшебный лес, и далекий Китай, и свет солнца после грозы. Она делает все это живым – ее голос дарит дыхание придуманному им миру. Джен Андерсон. Душа его оперы. С той минуты, как они спели вместе несколько фраз на репетиции, Эриком овладела навязчивая идея выйти с Джанет на сцену. Когда она запела с ним, остальной мир перестал существовать, и он был так близок к ней – так невероятно, волнующе близок, словно это не голоса звучали в унисон, а губы встречались в поцелуе. Он хотел снова ощутить это. Пусть только на сцене, только на один вечер… Может быть, для него это единственный способ быть рядом с ней. Это плохо, неправильно – «Дон Жуан» мог бы научить его, что единение на сцене обманчиво, что музыка его действует на душу возлюбленной лишь до тех пор, пока звучит, и первая секунда тишины становится мигом его поражения. Но он не сумел устоять. Возможно, это тоже часть его странной душевной болезни?.. Принцесса Дардане испугана, растеряна – она зовет мужа и жалуется на звезды, которые так жестоко преследуют их. Она замирает, присев на камни… Пора. Эрик появляется из своей «пещеры» – грозная фигура, одетая с блестящую синюю чешую: в облике Дзелу смешались мифологический дракон и рыцарь, который должен его побеждать. На его голове – синий шлем: его маска – это забрало, закрывающее всю верхнюю половину лица. На синей поверхности маски – красные рубцы: как полоски на морде тигра, они расходятся от носа к вискам и переходят в драконьи рога… Костюм придает фигуре Эрика нечеловеческие пропорции – Дзелу кажется едва ли не в два раза выше, чем перепуганная его явлением Дардане. «Дардане! От звезд враждебных мало ты терпела: Еще должна ты много претерпеть!» Услышав его голос, Джанет заметно вздрагивает, и в глазах ее на секунду мелькает смятенное выражение. Она не верит своим ушам, и настороженно вглядывается в страшную синюю маску… Но уже через секунду в ее глазах начинает брезжить понимание. «Мой бог… Кто ты, чудовище? Мне страшно…» Эрик внимательно изучает ее лицо: она узнала его, конечно. Но она не возражает против его появления, не испугана – она включилась в игру… Короткий дуэт благополучно завершается: Дзелу рассказывает Дардане, что ее ждут ужасные горести. Если она хочет вновь увидеть мужа, то должна переодеться в мужское платье и поступить воином на службу к старому царю Нанкина, Фанфуру. Это отец Таэра: отчаявшись дождаться возвращения сына (который сгинул пять лет назад, уехав добиваться Дардане), Фанфур женился вновь – на порочной рабыне Гулинди. Дардане предстоит познакомиться с ними, и сразиться с чудовищами, которые разоряют Нанкин в наказание за черное сердце Гулинди: ядовитой Гидрой, призрачным Рыцарем и самим Дзелу. При этом Дардане под страхом смерти, своей и Таэра, не должна выдать, что на самом деле она – женщина. Дардане уже готова уйти, но Дзелу вдруг останавливает ее: «Взгляни же, дочь моя, Внимательно на страшный облик мой». «Гляжу… С трудом не отвожу я взгляда. Твой страшен лик, чудовищен твой образ, Не заставляй меня еще смотреть», – отвечает она. Чудится это Эрику, или в глазах Джанет в этот момент и правда мелькнула какая-то необъяснимая, странная нежность? Дардане уходит в Нанкин – на сцене появляется принц Таэр. Это крошечная партия, на которую Эрик попросил найти тенора очень юного и очень красивого. Дзелу и перед ним рисует страшную картину испытаний, которые ждут его и Дардане. Грубый юноша говорит неосторожно: «Противна близость мне твоя; не в силах Переносить твой мерзкий вид». Мрачно, очень мрачно звучит ответ Дзелу – он удерживает Таэра за руку: «Очень скоро, Не будешь называть меня ни мерзким, Ни гнусным». Юноша вырывается, но Дзелу зловеще объясняет, что очень скоро внешность Таэра изменится так сильно, что Дардане его не узнает – даже голос его станет другим. Однако он должен скрывать, кто он, под страхом немедленной смерти. Таэр, говорит Дзелу, должен оставаться в его пещере, и, при встрече с Дардане, быть ласковым и вежливым: «Добейся, любыми униженьями, мольбами, Чтоб в Дардане зажглась к тебе любовь». Если она не полюбит его, Таэр умрет с последним предзакатным лучом. Если же полюбит – все их беды кончатся. Таэр смеется – ведь Дардане и так любит его больше всех на свете: «Ты глупое чудовище!» «О, скоро, Узнаешь ты, к несчастью своему, Что я не глуп…» С этими словами Дзелу вызывает новую бурю – и, когда мрак рассеивается, красивого юноши Таэра на сцене уже нет: горный дух Дзелу получил свободу, а юный принц превратился в Синее Чудовище. Уйдя со сцены, Эрик торопливо скрывается в гримерной Тардье. Он не хочет, чтобы кто-то видел его за кулисами, пока опера не закончится. Он избегает посторонних глаз – единственные глаза, которые он хочет видеть, это глаза Джанет. Да и то – только на сцене… Пока – только на сцене. Вторая картина оперы происходит во дворце Фанфура. Дардане явилась туда под видом юноши Ахмета, и немедленно попала в щекотливую ситуацию: царица, Гулинди, безумно в нее влюбилась. Эрик внимательно прислушивается к происходящему на сцене: Пьянджи очень трогателен в роли благородного, но ослепленного поздней любовью царя. Карлотта – неимоверно хороша в качестве жестокой и развратной царицы… Странно, что когда-то она так раздражала Эрика. Возможно, дело было в том, что она пела не те партии: Карлотта не создана для романтических героинь, ее конек – острые характеры. Гулинди соблазняет Ахмета. «Юноша» стойко сопротивляется. Чтобы отомстить ему за холодность, царица заявляет Фанфуру, что его новый воин вызвался победить в бою страшное Синее Чудовище, которое разоряет окрестности города уже год. У Дардане нет выбора – она отправляется на, как она полагает, верную смерть… Антракт тянется мучительно долго, и Эрик, сидя в гримерной Тардье, как будто забытый игрок в прятки, которого уже не ищут, и, стянув с рук когтистые «лапы» (синие кожаные перчатки), нервно грызет ногти и задается вопросом – чего он так нетерпеливо ждет? Начала акта? Новой возможности оказаться рядом с ней? Потому что следующий акт целиком принадлежит им: с этого момента опера – почти сплошь один длинный, мучительно-тревожный, полный недомолвок и намеков, и смертельной тоски любовный дуэт между чудовищем и красавицей, которую неодолимо влечет к нему, несмотря на отвращение. Начинается второй акт. Занавес вот-вот откроется, и Эрик, снова занявший свое место за ширмами, с удовлетворением слышит напряженное гудение зала: он слаще даже, чем аплодисменты, этот звук, который издает толпа, которая бурно обсуждает увиденное и с нетерпением ждет продолжения. Это звук успеха. Дардане приходит к пещере Дзелу, готовая к смертельной схватке. Вместо этого Таэр-Дзелу встречает ее смирением и слезами: он вручает ей меч, которым она сможет поразить его наверняка: «Вот грудь Чудовища, она готова К смертельной ране от твоей руки. Легко тебе со мной сражаться будет!» Дардане готова убить его… Именно этот момент был изображен на гравюре в издании сказок Гоцци, которое Эрик нашел в Венеции. Девушка на той гравюре показалась ему похожей на Кристину. Как странно, невероятно странно было ему теперь разыгрывать эту сцену с другой женщиной… В мужском костюме, в сияющих доспехах и с короткими золотыми кудрями она была теперь похожа на средневековый витраж, изображающий юных рыцарей Грааля... Дзелу падает перед Дардане на колени: «Ужели у тебя хватило б духу Моею кровью обагрить десницу, В которую тебе вложил я меч?» Конечно, девушка смягчается и решает просто взять Дзелу в плен и отвести в царскую темницу. Но перед этим он должен открыть ей страшное условие – единственный способ спасти Таэра от смерти. «Твой трудный подвиг будет тем труднее, Чем более меня ты ненавидишь. Смотри в мой лик и победи себя. Не презирай меня. Узнай: твой милый Твоим не будет больше никогда, Коль раньше сердцем не смягчишься ты И не полюбишь этот страшный образ». Дардане ударяется в слезы: «Возможно ли к Чудовищу такому Смягчиться сердцем? Полюбить его? Таэр, Таэр, так ты навек потерян!» Эрик слушает ее рыдания, повторяет мягкие, кроткие мольбы, которые вложил в уста своего Дзелу – и в глазах у него темнеет. Он так ясно видит вдруг лицо Рауля с накинутой на шею петлей. Заплаканную Кристину. Свои собственные хриплые крики… Ему нужно было тогда умолять ее – на коленях стоять перед ней, как делает это Дзелу. Но Эрик и Рауль не были одним и тем же человеком. Предлагая Кристине спасти жизнь возлюбленного, Эрик молил не за себя… «Не плачь, о Дардане: не плачь, быть может, Сама не зная, любишь ты меня… Прошу твоей любви – но из любви К Таэру, сам горю к тебе любовью, Но для Таэра. Этими устами Таэр тебе моленья посылает: Люби меня!» Дзелу останавливается – он едва не выдал себя, и чувствует приближение смерти… Скрипки подхватывают его голос, когда он вкладывает в ее руки цепь, предлагая сковать себя: «Сюда пришла ты, чтоб меня убить, Но для тебя нет пользы в этой смерти. Возьми – вот цепь… Вот руки… вот вся жизнь моя: Все отдаю тебе я добровольно… Когда тебе приблизиться противно, Вот – на себя я сам надену цепь. Я раб твой! И молю я об одном: Чтоб ненависть уменьшилась твоя…» Джанет начинает отвечать, и под звуки ее голоса боль, которая тисками сжимала сердце Эрика, на секунду отступает – картины прошлого меркнут, уступая место настоящему: прекрасному лицу, на котором нет слез, светлым глазам, которые смотрят на него с недоуменной нежностью, рукам, которые протянуты к нему, чтобы поднять с колен: «Жестокость… Нежность… Ласка, и угрозы, И милосердье в этом страшном звере… Мутится ум… О, если для спасения Таэра… Сердце вынести не в силах…» И все-таки она отвергает его, и он безропотно бредет за нею в город. Следующая картина не приносит персонажам облегчения. Чудовище заключено в тюрьму – собственный отец, Фанфур, приковал его цепью к стене. Дардане-Ахмет, провозглашенная героем за поимку Чудовища, опять попалась к сети коварной Гулинди. Царица снова приставала к юноше, снова была отвергнута, и теперь Ахмет якобы вызвался победить оставшихся монстров: Гидру и Рыцаря. Чудовище знает, как одержать победу, и дает Дардане полезные советы, но есть еще одна проблема. В пылу ссоры Дардане сказала, что Гулинди – коварная изменница, и на месте Фанфура она дала бы ей яду. Все бы ничего, но жизнь Гулинди таинственным образом связана с жизнью Гидры: убьешь одну – умрет другая, и новая победа обернется для Дардане обвинением в убийстве царицы. Дардане навещает Дзелу в тюрьме, и он снова молит ее о любви. На этот раз – чуть успешнее: «Исчез мой страх, и говорить мне стало С тобой легко. Твоя ли человечность… А, может быть, глаза мои привыкли К ужасной внешности твоей – но больше Не содрогаюсь, глядя на тебя…» – говорит девушка. Наверное, Эрик чересчур увлекся ролью – ему кажется, что не Дардане, а Джанет обращается к нему с этими словами. Хотя почему бы она стала делать это? Разве она знает его тайну? Разве ей есть до него дело… Он едва слышит гром аплодисментов, которыми разражается зал. Следующий антракт Эрик снова проводит в уединении. Он специально гасит газ в гримерной и сидит в темноте, бездумно глядя на полоску света под дверью. Его тело сотрясает крупная дрожь, сердце колотится в горле – на сцене он усмиряет его, чтобы не мешать пению, но теперь, когда Эрик один, он позволяет себе ненадолго расслабиться. Во что он ввязался? С чего он, безумец, взял, что выдержит это – выдержит целый вечер пребывания с ней на одной сцене, и целую вечность страстной музыки, которая так откровенна и в то же время так условна, выдержит эту иллюзию разделенной страсти, зная, что на самом деле все это – обман? Сумасшедший. Он спел с Кристиной один дуэт – и это едва не стоило ему жизни: момент пробуждения, когда она сняла с него маску, был подобен удару стилетом в сердце. Как он собирается жить после того, как споет с Джанет целую оперу? Эрик усилием воли унимает дрожь, замедляет ход колотящегося сердца. Он, конечно же, не в себе, потому что ловит себя на мысли: даже если он вот теперь же, во время последнего акта, упадет на сцене бездыханным – оно того стоило. Он будет рядом с ней. Он умрет рядом с ней. Последний акт. Гулинди умирает, и Фанфур твердо намерен покарать Ахмета, которого считает соблазнителем и убийцей. Дардане, которая клялась не открывать свой пол, оправдаться не может. Они с Дзелу теперь заключены в тюрьму вместе и оба ждут смерти. Дардане – казни. Он… Он, Таэр, умрет на закате, потому что Дардане не полюбила его в образе Чудовища. Помня о том, что Таэра ждет смерть, но не догадываясь, что перед ней именно он, Дардане обрушивает на Чудовище свой гнев: «Я проклинаю Судьбу и то мгновение роковое, Когда я встретила тебя! Зверь гнусный, Проклятый небом, вышедший из ада Со всей своею дьявольскою тайной, Неслыханной и невообразимой!» Как помнится Эрику искаженное гневом и болью лицо Кристины… Когда она сняла с него маску, а он в гневе оттолкнул ее на пол… Отвратительная горгулья. Гнусный зверь… Жалкое создание… Лицо уродливее ночного кошмара, душа уродливей лица… Он помнит, как она говорит это – помнит, как его слезы падают на пожелтевшую от времени страницу томика Гоцци, когда он внезапно видит эти же, или почти такие же, слова. Дзелу тихо отвечает девушке: «Да, ты права…» Он снова молит ее о любви – от ее любви и в самом деле, без романтических преувеличений, зависит его жизнь, – и снова получает отказ… Скрипят засовы – двери темницы распахиваются, чтобы впустить царя и свиту. Казнь неминуема – Дардане не может открыть свою тайну, а Дзелу не видит возможности спасти ее. Темп дуэта возрастает, голос Дардане наполняется гневом – и в нем безошибочно начинает сквозить противоречивая страсть: она требует, чтобы он повторил и поклялся, что условие его правдиво – если она не ответит на любовь Чудовища, Таэр умрет. С неожиданной мягкостью и полной обреченностью Дзелу отвечает: да. Наступает пауза, которую Эрик растянул на девять тактов. Девять тактов полной тишины, после которой Дардане говорит наконец: «Так невозможно победить мне сердце И полюбить тебя…» Это смерть надежды. Конец мира. Так уже было. Эрик помнит это. Он заметно бледнеет: так живы в нем воспоминания о другом отказе, о другом моменте тишины, который закончился жестокими словами. Он едва соображает, где находится: в подвале ли своем с Кристиной и Раулем? На сцене ли во время «Дон Жуана»?.. Нет – перед ним Джанет, даже не она – грузинская принцесса Дардане, которая отвергает любовь Чудовища из желания сохранить верность... ему же. С видимым усилием Чудовище берет себя в руки и говорит с горечью: «Таэр умрет, Но ты – ты будешь жить, Терзаема тоской и угрызеньем, Что ты могла так люто ненавидеть Того, кто спас тебя от лютой смерти, Кто плакал о тебе и тосковал, Кто хочет возвратить тебе супруга. Ты ни его моленьям, ни слезам Не верила. Таэра ты убила». «Ты с воздухом беседуешь, Дзелу», – эта невыносимо жестокая фраза – последняя перед появлением палача. Дардане уже стоит у плахи – меч уже занесен, когда Таэр-Дзелу, наконец, понимает: она не должна открывать своей тайны, а ему сделать это никто не запрещал. Чудовище объявляет, что осужденный юноша – принцесса Дардане, жена наследного принца, которая через минуту уже станет вдовой. Она спасена – а его жизнь подошла к концу, потому что солнце садится: «Мне хладная рука сжимает сердце… О Дардане… ты не могла любить… Мой страшный лик… но более ни слова… Неблагодарная!.. Молчу… Молчу… Я умираю…» Грозный некогда синий дракон опускается, обессиленный, на каменный пол темницы. Изумленный царь в недоумении смотрит на странную сцену. А Дардане спрашивает, не веря своим глазам: «Ты… Ты умираешь?» Глубокий голос Джанет заполняет весь театр, он звучит с детским каким-то изумлением: «Но если смерть ждала Таэра – не Дзелу? Дзелу был должен жить, Таэр погибнуть? О, сколько нежных слов, и слез, и мук Из-за меня?.. О луч небесный, Ты озарил, как молния, меня, Ты пробудил такое подозренье… Дзелу, о боги!..» Она склоняется над ним. Он неподвижен. Прижимает ладонь к его груди, берет за руку. Спрашивает с отчаянной надеждой: «Но еще не поздно?.. На помощь, небеса… Дзелу… От ужаса не содрогаюсь больше, Твой страшный лик не ненавистен мне. Смягчилось сердце… Я сама не знаю, Что чувствую… Смятение… Надежду… Я не могла души твоей прекрасной Не полюбить! И родилась любовь Из благодарности, из состраданья… Живи, Дзелу, живи! Люблю тебя!» Она приближает свое лицо к его лицу. Эрик ждет, что она просто подержит, как всегда делают на сцене, свою щеку вблизи его щеки. Она кладет ладони на его маску, и на секунду он леденеет от безотчетного ужаса: ему кажется, что девушка сейчас снимет ее. Вместо этого Джанет целует его в губы. Нежно, но настойчиво. Понастоящему. Без всякого театрального обмана. Он смотрит на нее, не понимая. В гриме ее лицо выглядит гротескно – брови и глаза подведены, на веках яркие тени, и только глаза ее ничто не может замаскировать, они такие же яркие, и светлые, и… нежные? Ее лицо кажется ему сейчас самым красивым в мире. На все это уходит едва ли секунда – сюжет оперы требует волшебного превращения, и через мгновение Эрик уже скрывается через люк вниз, под сцену, оставляя наверху юношу, играющего «настоящего» Таэра, и Джанет – они стоят перед хором радостных придворных в счастливом финале. У принцессы Дардане немного растерянный вид. Она ведь любит свое Чудовище… Зачем ей этот прекрасный принц? Эрик стоит внизу, в одиночестве, среди старого реквизита и сценических механизмов, тяжело дыша и прижимаясь спиной к стене рядом с панелью управления песчаными противовесами. Она поцеловала его. Там, на той самой сцене, где Кристина сорвала с него маску, эта женщина поцеловала его. Это не нужно было по сюжету – он не просил об этом, не умолял, не стоял на коленях. Он просто разделил с ней свою музыку – музыку, которую она помогла создать, – и она поцеловала его. Всего лишь секунда. Но эта секунда навсегда изменила его жизнь. Глава 13. Ночь в Опере. Париж, февраль 1885 года. После премьеры в театре еще долго царит толчея: труппа не расходится, празднуя успех, кто за сценой и под сценой, кто в кабинете директоров, кто по гримерным. За кулисами собирается множество пестрого народа – патроны Оперы, поздравляющие Бригана, композиторы, кусающие локти от зависти, повесы и офицеры, поджидающие хористок и балерин, восторженные студенты, провозглашающие «Синее Чудовище» идеалом нового романтизма, ответом итальянцам с их скучной музыкой веризма – «правды жизни». Журналисты, которые стремятся в суете разузнать подробности вечера, расспрашивают мсье Рейе и надеются подстеречь на выходе из гримерной мадмуазель Андерсон, новую сенсацию Парижа, новую примадонну – кто-то в зале успел уже окрестить ее «Королевой Шотландской», и прозвище пошло в народ – завтрашние газеты его наверняка подхватят. На мсье Тардье рассчитывать не приходится – несмотря на свой триумф, он очень быстро сбежал из театра. На то, что удастся поговорить с маэстро де Санномом, никто и не надеется – его репутация затворника слишком хорошо известна. Повсюду шумят голоса и смех, хлопают пробки от шампанского, цветов столько, что по коридорам буквально не пройти. В этой толпе трудно спрятаться – но легко затеряться, и Эрик, который знает в театре каждую щель, успешно избегает любопытных взглядов, ожидая, когда схлынет поток людей. Он не может просто так уйти из театра – вернее, скрыться в своем старом убежище в подземелье, как он сперва собирался. Ему наплевать на восторги публики – он знал, что опера его хороша, и не ждал иного. Все сладкие слова, которыми наградят его музыку равно и ценители, и профаны, он сможет завтра прочесть в газетах. Его держит в Опере другое. Джанет Андерсон. Он должен увидеть ее. Поговорить с ней. Он должен – пусть даже ценой жестокого разочарования – понять, что произошло на сцене. Он знает, что готов был, вслед за своим героем, отдать ей жизнь. Но она – что имела в виду она, когда поцеловала его? Находилась ли во власти музыки? Или – возможно ли это… выражала какие-то иные чувства? Где-то в глубине сознания он задает вопрос и себе – а он? Не оказался ли и он пленником собственной оперы? Ураган чувств, которые теперь владеют им – настоящие ли они, эти чувства, или сердцем он все еще на сцене? Не все ли равно?! Он чувствует – он жаждет ее прикосновения, и хочет снова услышать ее голос, и увидеть, как смеются ее глаза. И будь он проклят, если позволит сомнениям и страхам отравить его существование сейчас, в эту короткую минуту счастливого забвения. Что бы ни вызвало это затмение разума, результат один: Эрик делает то, чего не позволял себе уже многие, многие месяцы – он надеется. И будет надеяться, пока Джанет не рассмеется ему в лицо. А потом уже посмотрит, что делать со своим сердцем. Эрик давно уже переоделся и снял сценический грим, и надел обычную маску. Он спрятался в одной из своих старых ниш в коридоре при ее гримерной – это бывшая гримерная Кристины, но он старается не думать об этом, или думать как можно реже, потому что иначе гротескность его надежд, унизительность его положения становятся совсем уж очевидны, как это было два дня назад, когда он зашел, чтобы, как влюбленный мальчишка, оставить ей белый вереск на счастье, и едва не разбил из презрения к себе свое же зеркало. Он ждет, чувствуя себя глупо, будто в стенном шкафу спрятался, пока из гримерной ее уйдут последние поклонники, бормочущий поздравления Бриган… Наконец, из дверей выходит даже костюмерша. Джанет осталась в комнате одна. Бесшумно, как кошка, Эрик пересекает коридор. Нормальный человек постучал бы, но не Эрик – он просто осторожно приоткрывает дверь, и заходит, плотно прикрыв створки и прислонясь к стене. Она сидит перед туалетным столиком, на плечи ее накинут халат. Эрик видит в зеркале ее лицо – на нем нет больше яркого грима, и она выглядит какой-то потерянной и немного обиженной, словно ждет чего-то, и не может дождаться. Она рассеянно перебирает цветы, и Эрик видит вдруг, что в руке у нее веточка белого вереска – его вереска. В ту же секунду она замечает его отражение в зеркале, и лицо ее освещается радостью, и она улыбается, и смущенно закусывает нижнюю губу. Она ждала его. В это невозможно поверить, но, очевидно, это так. Потому что она стремительно оборачивается к нему, и встает, и через секунду она уже стоит рядом и смотрит на него снизу вверх – вопросительно? Выжидательно? Ее волосы кажутся сейчас особенно кудрявыми – наверное, она причесала их мокрой щеткой. Он видит плохо смытые, бледные полоски грима на ее веках, видит, как зацепились друг за друга две длинные ресницы. Видит свое отражение в ее глазах. Сколько раз ему случалось подойти к человеку так близко, чтобы увидеть себя? Да никогда, никогда этого раньше не было… Ее губы слегка приоткрыты, и он замечает их влажный блеск. Без единой мысли, едва отдавая себе отчет в том, что делает, Эрик наклоняется и целует ее. Они мягкие, ее губы, и теплые, и на них нет соленых следов слез – они сладкие, и это не романтический бред, они правда сладкие, потому что на них вкус шампанского. Они такие нежные, ее губы, что их не хочется отпускать никогда: если бы можно было выпить, вобрать в себя эту мягкость, эту влагу… Он невольно делает несколько коротких вдохов, но губы их все еще соединены, и получается, что он углубляет поцелуй, и касается внутренней поверхности губ, Господи, они такие гладкие, и тут она вдруг трогает языком его зубы, и он вздрагивает от неожиданности, и отвечает, и позволяет своему языку коснуться ее, и он пропал: если губы ее ему хотелось пить бесконечно, то ее язык… Господи, как же может быть, чтобы плоть человеческая значила так много, за долю секунды становилась средоточием мира, источником влаги, воздуха, жизни? Из ее горла, из ее великолепного, музыкального горла вырывается низкий короткий вздох, и он понимает вдруг, что и сам стонет, едва слышно, в ее раскрытые губы. Живот сводит, будто судорогой, в брюках тесно. Он возбужден, как никогда в жизни, и черт, черт, черт – нет никакой возможности скрыть это от нее, потому что он, оказывается, крепко прижал ее к себе, а она едва одета. Эрик отрывается от ее рта, и откидывает голову назад, к стене. Он покраснел, но Джанет не дает ему отстраниться: с изумлением он понимает, что ее руки сомкнуты у него за спиной, и его реакция на близость ее очевидно не возмущает и не смущает. Наоборот, она прижимается к нему плотнее и говорит, с улыбкой: - Слава богу… А я боялась, что вы сердиты на меня. - Сердит? – Он едва находит голос, чтобы ответить. – За что я могу быть сердит на вас?.. - На сцене… Я вас шокировала. Вы были всегда так холодны со мной. – Девушка качает головой, и хмурит брови, силясь выразить едва уловимую мысль, но не разжимает объятий и не отстраняет своих бедер. – Но я не могла ничего поделать с собой. Музыка… Поцеловать Дзелу, вас поцеловать – это казалось так… правильно. - Холоден?.. – Он касается губами ее виска, потом уха, потом щеки и снова – уголка рта. – Я был с вами холоден, потому что я знал, что будет, если я приближусь к вам… Вот это. И это… – Его губы оказываются на ее шее, и спускаются вниз, к ключице, и она выгибает свою длинную шею и поворачивает голову, чтобы ему было удобнее, и снова издает этот гортанный стон, от которого у него мутится рассудок. – Вот это. – Он целует ее плечо. – И это.. – Он проводит губами вверх, от плеча назад, к ее уху. Откуда слова-то эти берутся в мозгу человека, который ничего подобно не делал раньше никогда? «Я знал, что будет, если я к вам приближусь! Вот это… И это…» Ради всего святого… Он и сейчас не знает, что будет! Он проводит ладонью по ее спине, и понимает вдруг, что на ней нет корсета. Значит, только нижняя рубашка, и бархат халата, и ее тело – он чувствует под рукой ее лопатки, и прослеживает линию ребер, и талию, а потом вниз, ягодицы, и он резким движением инстинктивно прижимает ее к себе, и ему жарко становится от собственной дерзости. А она… она улыбается, глядя ему в глаза, и говорит: - Я не была бы против… - Нет? - Нет. Эрик не в силах оторвать взгляд от ее лица, от пушистого золота кудрей, от темных бровей вразлет, от полуприкрытых глаз, от ложбинки на верхней губе, от полураскрытых губ – теперь он знает, какие они на вкус. Он берет ее лицо в ладони – он так давно хотел этого, так давно хотел провести пальцами по волосам, разбирая каждую прядь, – и шепчет: - Вы так прекрасны. Через секунду он снова целует ее, и оказывается, что память у него короткая – всего несколько мгновений прошло, а он уже забыл, каково это – целовать ее, и пить, пить с губ нежность, которую она непонятно почему дарит ему, пить ее, как в душный полдень холодную воду из лесного ручья. Он закрывает глаза, и как будто издалека слышит, как она отвечает ему: - И вы… Эрик. Он переводит дыхание, не понимая, что она сказала только что. И он… что? Прекрасен?! Она не может так думать. О боже – она целует его, но ведь она не знает… Эрик качает головой, стараясь стряхнуть наваждение, и пытается что-то сказать, как-то объяснить ей то, о чем на самом деле ему говорить вовсе не хочется: «Я… нет… вовсе нет… вы не понимаете…» Но Джанет пресекает его попытки – она прижимает палец к его губам: - Тсс. Мне лучше знать. Она не знает, ничего не знает о нем, и он не должен пользоваться этим – но он не может ничего поделать с собой, не может остановиться, ведь ее губы так близко, и ее волосы пахнут вереском, и ее дыхание становится таким прерывистым, когда его руки касаются обнаженной кожи ее плеч. Господи, помоги ему. Он не сможет теперь отказаться от этого. Не сможет остановиться. Животное, животное, он должен презирать себя – но сама мысль о том, за что – за то, что осмелился целовать женщину, жадно ласкать ее раскрытыми губами, и прижимать к себе ее бедра… само перечисление этих преступлений делает желание еще острее, и отступить уже вовсе невозможно. Шум в коридоре заставляет их обоих на секунду отвлечься – поднять головы и обернуться на звук, словно две нервные птицы. Пьяные рабочие сцены плетутся куда-то с песней – может быть, с кем-то из уступчивых хористок, и налетают на дверь, она едва не распахивается от толчка. Джанет инстинктивно прижимается к нему ближе, и говорит тихонько: - Нам нельзя здесь оставаться. Сюда могут войти. Сейчас. Он должен решить прямо сейчас. - Вы правы. – Голос его звучит спокойно, но каких усилий ему это стоит! – Нам следует уйти. Джанет… – Господи, только бы губы его не дрожали так сильно… – Джанет. Вы любите приключения? Откинув назад голову, она смотрит ему в лицо: - О да. Не говоря ни слова, Эрик отстраняется от нее, берет за руку, и подводит к большому зеркалу. Наклонившись, отжимает скрытый рычаг, и рама бесшумно скользит в сторону, открывая проход – не такой темный, как в прошлый раз, когда Джанет видела его: на стенах горят в проржавевших консолях несколько факелов. Эрик не видит, что за его спиной девушка вопросительно поднимает брови: интересно, откуда маэстро знает о тайных ходах в Опере? Она, однако, безмолвно следует за ним вдоль по коридору, слегка поеживаясь от холода и крепко держась за его теплую ладонь. Вниз по пологим ступеням лестницы, к зеленой воде канала, к черной с серебром лодке. Он безумен, определенно безумен. Он еще и подлец. Что он, собственно, имеет в виду, ведя за собой Джанет тем же путем, что когда-то Кристину? Он хмуро, едва ли не с гневом смотрит на девушку – словно это она, а не он, виновата в том, что Эрик тут устраивает. Но странным образом он чувствует, даже в этот момент острого раскаяния, что все происходит теперь по-другому. Эта девушка не ждет от него чудес. Она просто идет рядом с ним… чтобы быть рядом с ним. Только поймав себя на этой мысли, он тут же проклинает себя: ну не дерзость ли с его стороны думать так? Отталкиваясь шестом от дна канала, он бросает взгляд на Джанет: она сидит на бархатной подушке на носу лодки, поджав под себя ноги, и улыбается ему. У нее такой вид, будто все это в порядке вещей, и это странное путешествие – самое естественное дело на свете. Они оказываются на том берегу озера быстро – слишком быстро для мужчины, который не знает: что, собственно, ему теперь делать. Свечей горит не много – Эрик, на самом деле, не ждал сегодня гостей. Своды подземелья теряются во мраке, вода едва слышно плещет о берег. Тлеют угли в догоревшем камине. Сегодня здесь как-то странно, пугающе тихо. Его старый дом сохранил лишь тень былого великолепия – это и не дом больше, а временное пристанище, место для ночлега на случай, когда он слишком устал, чтобы идти в обычный мир. Но здесь, тем не менее, есть какие-то его бумаги, черновики оркестровки для мсье Рейе, и скрипка, и кровать – его старая кровать в форме лебедя, украденная им после постановки «Лоэнгрина». Джанет стоит на берегу, обводя взглядом все, что видно в полутьме. Отблеск свечей лежит на ее золотых волосах, халат из темно-зеленого бархата кажется почти черным. Она так невероятно красива – благодаря росту своему, осанке, или тому, что кажется полностью расслабленной, ничуть не смущенной этим странным приключением, но она выглядит совершенно естественно. Словно ничего необычного нет в том, чтобы среди ночи стоять в дезабилье посреди подвала Оперы в обществе мужчины, с которым она обменялась в жизни парой вежливых фраз – и несколькими поцелуями. Она оборачивается к Эрику, и обводит жестом свое окружение: - Какое поразительное, какое красивое место. – Она делает паузу. – Знаете, несколько лет назад я пела первый акт «Тангейзера» в Линдерхофе, у Людвига Баварского, в гроте Венеры. Это место подходит гораздо больше… И, словно чтобы доказать свои слова, она напевает несколько фраз из партии богини любви, которую заплутавший рыцарь вот-вот покинет для того, чтобы вернуться к своей смертной возлюбленной. Эрик закрывает глаза, вслушиваясь в то, как звучит в подземелье ее голос. Он едва может дышать. Ее голос. Ее голос спас его, в этом подвале, не дал ему умереть в момент, когда он хотел этого больше всего на свете. Она замолкает с легким смешком: - Господи, какой я наверное кажусь вам дурочкой. Стою здесь, одетая не пойми во что, и пою вам Вагнера… Это смешно. Эрик смотрит на нее пристально, и говорит, удивляя сам себя: - Это не смешно. Вы и есть Венера. Джанет отвечает ему взглядом недоверчивым и смущенным: - Богиня любви? Я? О, Эрик... – Она неожиданно подходит к нему вплотную, и берет за руку. – Хотите, я скажу вам, кто вы такой? На секунду ему становится страшно. Что он наделал? Зачем привел ее, эту умную, необыкновенную женщину, в место, где все пропитано его прошлым, где все дышит его тягостной тайной? Что значит – скажет ему, кто он такой? Но Джанет не замечает его смятения. Она говорит просто, и очень серьезно: - Вы – дух, гений, наподобие тех, что у греков жили в лесах и полях и давали душу ручьям и деревьям. Вы Пан, играющий на свирели. Бог музыки. Дух этого театра, всего этого места. Я вечно буду благодарить небеса за то, что узнала вас. - Вы меня совсем не знаете… - А вы – меня. Но мы с вами – хозяева мира, в котором живем. Если уж мы с вами боги, то вполне можем установить в нем свои правила? Она улыбается, но она не шутит. Она смотрит ему в глаза, и поднимает руку к его лицу. Господи, нет. Она хочет снять маску… Но еще до того, как Эрик успевает шарахнуться в сторону, Джанет убирает ладонь, только коснувшись белоснежной поверхности кончиками пальцев. Это прикосновение, которого он и почувствовать-то толком не мог, почемуто кажется ему более волнующим, чем самая смелая ласка. Он прерывисто вздыхает, и, снова потеряв над собой контроль, заключает девушку в объятия. Здесь, в глубине подземелий, нет пьяных рабочих сцены. Здесь исчезает куда-то память о том, что нужно идти домой. Здесь нет обычного мира – здесь даже времени, кажется, нет. Здесь ничто не может остановить его, когда он, как безумный, покрывает поцелуями ее лицо, и сжимает ее затылок, зарываясь пальцами в волосы и принуждая откинуть голову, чтобы губы его могли блуждать по ее шее, и терзать плечи, оставляя на них красные следы, и снова прижимает к себе ее тело, грубо, отчаянно, каждую секунду ожидая пощечины. Но она отвечает на его поцелуи, и руки ее давно уже расстегнули его сюртук и жилет, и развязали дурацкий галстук… У нее ловкие, умелые, лишенные стеснения пальцы. Она давно уже скинула халат, и осталась в нижней рубашке, в которой он так по-хамски застал ее в гримерной, и на ней действительно нет корсета – она пела без него, и не успела надеть его потом, и Эрик может видеть сквозь ткань очертания ее тела, ее тонкую талию, и ее грудь, к которой она разрешает прикоснуться… Не просто разрешает – она складывает его ладони чашкой, и накрывает ими свои груди, и шепчет: - Так. Да, так… У него нет больше сил терпеть – он сдвигает ткань у выреза ее рубашки так резко, что она с треском рвется. Господи, как она красива – светлая кожа с россыпью веснушек, и мягкие тени, и соски – такие же розовые, как ее губы, и наверное такие же нежные. Нежнее… они нежнее – пальцы слишком грубы, чтобы прикасаться к ним. Только губами… благоговейно. Ласково… Она издает глухой стон. Она довольна. Боже – боже. Она рада его прикосновению. Рада ему. Хочет его. Когда он успел снять свою рубашку? Как ему устоять на ногах, если Джанет… Джен… если она будет вот так целовать его плечи, его руки, словно он и правда божество, которому надо поклоняться? Если она будет, обнаженная, прижиматься грудью к его груди, и гладить спину, и если ее рука вот так же будет касаться его спереди, как ему не умереть прямо сейчас, сию секунду? Ботинки, брюки, белье, носки, подвязки, ее чулки, ее панталоны – сколько бессмысленного тряпья, которому самое место на полу. Ее тело – длинное, бледное, ее тело на темном атласе его покрывала – только это имеет смысл. Его тело, которое бунтует – нет сил больше ждать, хватит уже, десятки лет, вечность, это слишком долго, это просто уже невыносимо! Он останавливается у края кровати, тяжело дыша. Желудок сводит от страха. Что он, собственно, собирается делать? Он ведет себя, как скотина, как зверь бессловесный. Он должен как-то успокоиться. Это ведь женщина перед ним, и не просто женщина. Джанет. Джен. Его голос, его грузинская принцесса, его шотландская королева. Его душа… Она смотрит на него секунду с легким недоумением: лицо его приобрело страдальческое выражение, он борется с собой, и она не сразу понимает, в чем дело. Потом складка меж ее бровей разглаживается, и она говорит ласково: - Эрик… Дай мне руку. Он подчиняется – она берет его руку в свою, разводит ноги, и направляет его пальцы туда, где хочет их почувствовать. Легче, он должен прикасаться к ней легче, и движения его должны быть чуть быстрее… Она стонет под его руками, и несколько раз вздрагивает. Влажная. Нежная. - Эрик… Господи. Боже. Женщина… произнесла его имя со вздохом наслаждения. Джанет. Джен. Довольна им. Счастлива рядом с ним… Словно издалека, до него доносится ее голос – низкий, глубокий, сейчас в нем звучит легкая хрипотца: - Иди ко мне. Плоть его занимает, наконец, место руки. Он не может удержать вскрика. Ничего, на свете нет ничего, что могло бы с этим сравниться. Ее лоно обволакивает его так же, как ее голос, когда она поет – заслоняет весь мир, и принимает его, и любит его. Двинуться – для того, чтобы теснее соприкоснуться с этим чудом, с этим жаром, с этой гибкой нежностью. Двинуться – чтобы глубже войти в этот новый мир. И еще. И еще раз… Она трепещет, принимая его, и говорит едва слышно: - Да, милый, так… Так. Так. Yes… That’s right… That’s it. Он не может больше ждать. Так жарко. Так мучительно. Сердце колотится в горле. Еще. Еще раз. Еще… Джанет. Господи. Кристина… Кристина! Джанет. Джен… Трудно сказать, что за звуки вырываются из его горла. Слова? Стоны? Рыдания? Потому что он плачет – опуская голову на покрывало рядом с плечом женщины и пряча во впадине ее шеи свое скрытое маской лицо, он плачет. Она не говорит ни слова – дает ему успокоиться, и только гладит нежно его вздрагивающие плечи и спину, и не спешит прогонять из своего тела. Глава 14. Странный роман. Париж, апрель 1885 года Долгие ленивые утра, когда двое часами не могут заставить себя вылезти из постели, и занавески остаются задернутыми, и на смятых простынях появляются пятна масла и джема, и крошки от круассанов, когда веселая болтовня раз за разом сменяется нежным шепотом, и тяжелое покрывало соскальзывает с кровати на ковер, накрывая грязные кофейные чашки. Длинные тихие дни, когда тикают часы над камином, и потрескивает огонь, и шелестят страницы книги, и раздается нестройное треньканье рояля, и за окном вдруг появляется яркое солнце, и руки встречаются над столом, и двое выходят в сад, чтобы глянуть на первый в этом году бутон розы. Волнующие вечера, когда аромат цветов на столе смешивается с запахом горящих свечей, и мерцает в полумраке серебро и хрусталь, и все так вкусно, но нет никакой возможности сосредоточиться на еде, потому что человек напротив занимает все твои мысли, и хочется только смотреть в глаза, и, делая вид будто тянешься за хлебом, прикасаться ненароком к руке, и замечать движение губ, касающихся кромки бокала, и следы влаги на них, и стирать этот винный след поцелуем, роняя на скатерть смятую салфетку. В жизни Джен Андерсон нет ничего подобного. Ее роман с Эриком очень, очень странен – думая о нем, девушка все время вспоминает строчки Мэтью Арнольда: «Чудно’ Любви моей начало И сети, что она сплела: Ее Отчаянье зачало И Невозможность родила…» Их первая ночь была настолько фантастичной, что Джен иногда приходится напоминать себе, что все это было наяву. Невероятная опера, которую Эрик вышел петь вместе с ней. Поцелуй на сцене. Поцелуй в гримерной. Необъяснимое путешествие в подвалы Оперы. Это странное подземелье, где Эрик почему-то чувствовал себя, как дома. Его страсть, одновременно неукротимая и неловкая, настойчивая и робкая. Каждый смелый жест нес в себе элемент сомнения – будто Эрик ждал, что она оттолкнет его. Он смотрел на нее так, словно она виновата в чем-то – гневно, сумрачно. И в то же время с такой мольбой, с такой тоской. Его губы дрожали, когда он наклонялся к ее лицу, его пальцы не слушались, когда он рвал на ней рубашку. Как она могла отвергнуть его? Для этого нужно вовсе не иметь сердца. У Джанет было сердце, и она любила его. Конечно, он несколько удивил девушку своей стремительностью – с момента знакомства они сказали друг другу едва ли сотню слов, и как-то неожиданно оказались наедине нагими. Но она не выказала ни сомнений, ни колебаний: шестым чувством она знала, что сегодня Эрик действует импульсивно, из-за оперы своей, или еще почему, и что он может никогда больше не решиться приблизиться к ней – даже заговорить. Она любила его – сознавала это на сцене, глядя в его светлые, смятенные и страстные глаза, блестевшие из-под синей маски Дзелу. Сознавала это в гримерной, слушая несносную болтовню поклонников и каждую секунду спрашивая себя – ну где он, черт возьми? Почему не идет? Любила его, когда наконец он поцеловал ее в губы, и отшатнулся, испуганный собственной дерзостью, только чтобы через секунду целовать снова. Любила его, когда он слушал, как она поет Вагнера – и закрыл глаза, и сглотнул так, что она увидела, как дрогнул его кадык, и он снова открыл их, и назвал ее Венерой. Она любила его, этого странного мужчину, и она не собиралась упустить шанс стать к нему ближе из-за ложной скромности. Он страстно желал ее, и безумно боялся. Он бросился в ее объятия, как прыгают в воду – зажмурившись и осенив себя крестным знамением. Это было невероятно, неправдоподобно, невозможно себе представить, но, похоже, он никогда не делал этого раньше. Странно – такой красивый мужчина, и такой темпераментный. Но все же, видимо, это было правдой. Он был страстным, но неловким любовником. Чутким, чувственным и таким интуитивно внимательным – казалось, он прислушивается к ее телу, как к звучанию музыкального инструмента. Эрик быстро овладел игрой на новом инструменте. Поистине, гениальный музыкант. Но вначале его неопытность была очевидна. Видимо, это было связано как-то с его лицом. С его маской – Джен так и не видела больше его лица, и у нее хватало мудрости не просить об этом и не говорить, что она знает, что скрыто под белой полумаской. Впрочем, у Джен вообще было мало возможностей говорить с ним. Ночь, которую они провели в Опере, была бурной, исполненной вожделения – и молчаливой. Они не обменивались словами любви, не давали друг другу обещаний, не делились рассказами о том, как в каждом из них зарождалась страсть. Их тела понимали друг друга без слов, и Джанет, признаться, боялась лишних речей. Она боялась того, что Эрик может сказать ей, и что захочет от нее услышать. На самой вершине страсти, изливая в нее семя, он назвал ее именем другой женщины. Джанет не хотела спрашивать, почему. Она не хотела отвечать на вопросы, которые он мог бы, в свою очередь, задать ей. Утром в подземелье их разбудил Эрик – каким-то образом он, похоже, знал, как меняется наверху время суток. Между ними не было ни неловкости, ни особой теплоты. Эрик был молчалив, он едва смотрел на нее, и она, в свою очередь, к нему не приставала. Мужчины часто совершают необдуманные поступки, и им потом надо разобраться в себе. А она уже не девочка, чтобы бросаться к нему на шею со словами любви – как бы сильно ей этого не хотелось. Он молча подал Джен то, что осталось от ее одежды, а потом, после секундного раздумья, накинул ей на плечи свой плащ. Только один раз, уже в коридоре, ведущем к зеркалу в ее гримерной, он вдруг обернулся и крепко, до боли сжал ее в объятиях, и накрыл рот поцелуем. Этого было достаточно для нее – он не прощался, но обещал ей будущее. Такое, какое в силах был дать. Она оделась в оставленную накануне одежду, и вышла из Оперы в серой рассветной мгле. К ее изумлению, Эрик ждал ее у служебного входа с экипажем и отвез домой. У дверей особняка поцеловал руку – и исчез в тумане. Он вернулся вечером, и снова между ними возник странный, бессловесный, на одних междометиях построенный диалог – даже дуэт скорее, странный непристойный вокализ с бессвязным текстом из слов «так», «да», «пожалуйста», «здесь», «господи», «ты прекрасна» и «иди сюда». Он снова ушел на рассвете. И опять пришел следующим вечером. Она спела все положенные спектакли «Синего чудовища»: опера имела грандиозный успех, хотя критики отмечали, что мсье Тардье не удавалось больше подняться до невероятной чувственности, с которой он пел Дзелу на премьере. Джен стала настоящей примадонной – вот уж не думала она, что женщину с ее голосом будут толпой встречать у входа в театр. Бриган срочно пересматривал репертуар нового сезона, чтобы найти побольше опер, пригодных для мадмуазель Андерсон, и валялся в ногах у де Саннома, умоляя написать для «Королевы Шотландской» что-нибудь еще. Эрик ничего не обещал, но оставался в Париже и постепенно начал принимать все большее участие в делах Оперы. Бриган находил его советы по выбору репертуара и оформлению постановок очень ценными. Мсье Рейе благосклонно улыбался. Сеньор Пьянджи и Карлотта остались в Париже – Бриган предложил им постоянное место в труппе. В конце концов Бриган решил ставить для мадмуазель Андерсон «Золушку» Россини. До премьеры было еще далеко, и Джанет давала концерты. Эрик купил в Париже дом. Очень уединенный, на окраине Булонского леса. Купил вместе с обстановкой, скупо объяснив Джен, что мало интересуется деталями – главное переехать из съемной квартиры. Исключение составил его кабинет – здесь он все переделал по своему вкусу, даже орган установил. Оказывается, ему удобнее всего сочинять за органом. Это странный, странный роман. Любовник Джанет – ночное животное: он появляется в ее жизни с наступлением сумерек, когда сгущаются вечерние тени. Он дарит ей букеты чайных роз («это к твоим волосам») и веточки белого вереска. Он стоит на коленях у ее кровати, глядя, как она спит – Джен застала его однажды за этим занятием, и на лице у него была такая нежность и такая боль, что она едва не расплакалась. Он слушает ее пение так, будто замолкни она – и он перестанет дышать. Он беседует с нею о музыке. Играет для нее и поет – в такие моменты она готова босиком пройти ради него по углям. Он расчесывает ей волосы. Он целует ее ступни, обнимает ее колени, и руки его трепетно и настойчиво, как клавиш рояля, касаются ее обнаженной кожи. По ночам он сжимает ее в объятиях так крепко, словно она может исчезнуть. А еще он плачет – сам не зная этого за собой, во сне. Пьет – не при Джен, впрочем, она просто знает, что это было, по больным глазам. И шепчет другое имя. Нечасто. Иногда. Забывшись. Он ничего не рассказывает ей, и она ни о чем не спрашивает. Ей ли требовать от него откровенности?.. Девушка сидит у рояля в своей гостиной. Вечер. Очень тепло – дверь, ведущая в сад, открыта, и прямо перед ней цветет куст белых роз: цветы, словно скрытые облаками маленькие луны, светятся во мгле. В воздухе разливается сладкий, тонкий, почему-то очень печальный аромат. Джанет не зажигает свечей, не раскрывает нот. Она сидит в полутемной комнате, и плачет. Ей хочется долгих ленивых утр с крошками на простынях, и длинных скучных дней со сплетенными над работой пальцами, и вечеров с ужинами, во время которых забываешь о еде. Ей хочется смеяться и говорить обо всем на свете, и спрашивать, и рассказывать. Ей хочется доверять ему – и знать, что он доверяет ей. Ей хочется, чтобы он был рядом с ней – не просто делил постель, не просто восхищался пением. Был рядом – по-настоящему рядом, вместе, одним, неделимым существом, чтобы один шел туда, куда и другой, и чтобы не было больше одиночества. Он любит ее – она знает, что любит, и дело не в том, что он не говорит этого, что значат слова? Он любит ее – но он не разрешает себе любить ее, иначе не скажешь. Бог знает, почему, и у нее нет права спрашивать. Но ей все равно больно – за себя. За него. Потому что ему от всего этого не лучше. Будто он в чем-то виноват. Будто сердце его расколото на две части – как его лицо, которое он не хочет показать ей. Джен сидит, закрыв лицо руками – это не рыдания, это именно тихие слезы, печальные и бессильные, потому что она ничего не может сделать. Такие слезы даже бывают приятны – помогают ощутить, что в жизни твоей есть серьезные страсти. Он появляется в комнате бесшумно – как он ухитряется ходить так, что даже половицы не скрипят? Но Джен знает, что он пришел – воздух вокруг словно бы становится плотнее, его можно резать ножом. Эрик подходит к ней сзади, и кладет руки на плечи. Господи, она так любит его руки, и его запах, и звук его дыхания – вот сейчас, когда она откинулась назад, и прижалась спиной и затылком к его бедрам и животу, и он словно бы слегка задохнулся. Она так рада ему. Когда она оборачивается, он не видит не ее лице слез – только улыбку в глазах. И на секунду ему становится стыдно. Глава 15. Подружки. Париж, апрель 1885 года Круглое, румяное и невероятно хорошенькое личико молодой баронессы светится улыбкой, ее золотые локоны, выбившиеся из скромной домашней прически, слегка подпрыгивают с каждым энергичным кивком: - Я рада, я так рада, что ты пришла – ты не представляешь, как мне тут скучно одной в четырех стенах, когда в Париже столько всего интересного! Ну конечно стен здесь далеко не четыре, и Огюст душка, и маленький Огюст – он такой прелестный, но все равно, это не то, или не совсем то – я ужасно скучаю по Опере! Джанет улыбается – замужество и рождение сына мало изменили Маргерит Жири, она осталась все такой же жизнерадостной болтушкой, и одного взгляда на нее достаточно, чтобы исправилось даже самое дурное настроение. А настроение у Джен в последнее время и правда так себе: она чувствует себя грустной и усталой. Наверное, сказывается в заботах и волнениях проведенная зима… Девушки сидят на диване в будуаре баронессы – большой комнате, оформленной в нежных розовых и золотистых тонах: Кастелло-Барбезак считает, что его молодую жену должны окружать вещи такие же нежные и светлые, как она сама. Окна комнаты выходят в тихий сад, где меж цветущих клумб гуляют, вы только представьте себе, павлины. Окна распахнуты настежь – весна в этом году необычайно ранняя, и уже сейчас, в конце апреля, жарко, как летом. Перед диваном стоит столик – на серебряном подносе красуется кофейный сервиз из севрского фарфора, и миндальные пирожные, и свежие фрукты. Оставив балетную карьеру, Маргерит перестала терзать себя диетой – если она не начнет в скором времени следить за собой, то вполне может превратиться в настоящую пышку. Пока, впрочем, с нее взятки гладки – ее мальчику, Огюсту, всего четыре месяца, и она не отдает его кормилице, и потому имеет полное право есть в свое удовольствие и ни о чем не думать. Джанет и Маргерит сдружились еще полтора года назад, когда певица только-только появилась в открытой после пожара Опере (первой партией ее была скучная Адальгиза в «Норме»), а балерина как раз собиралась уходить со сцены в связи со скорым браком с бароном Кастелло-Барбезак. Дружба их была подевически легкой и жизнерадостной: Джанет рассказывала Мег о своей родине и многочисленных путешествиях по Европе, Мег потчевала ее парижскими сплетнями. После замужества Маргерит изо всех сил старалась поддерживать отношения, невзирая даже на такие важные дела, как свадебное путешествие и последующую беременность. Подруги встречались не реже, чем раз в месяц – перерыв наступил только после рождения Огюста-младшего. И вот теперь Джен, наконец, приехала навестить молодую мать, и посмотреть на младенца, и поболтать. Вот только Джен не уверена, что ей будет, что рассказать Мег. Конечно, жизнь ее за эти четыре месяца изменилась кардинально. Но у нее стойкое ощущение, что своими новостями она не вправе делиться. Вместе с Эриком в ее жизнь вошла его тайна и, сама не зная почему, она ревностно хранит ее. К счастью, Маргерит едва дает ей вставить слово. Она трещит без умолку – рассказывает о муже, о доме, о новых занавесках в гостиной, о последнем обеде, который не задался, потому что Поль испортил соус, и, конечно, о сыне, который занимает все ее мысли. Его животик, слава богу, в порядке, и он уже пытается повернуться, и он хохочет, когда мама с ним беседует, и у него есть любимая погремушка, и он все время сосет кулачки – может ли быть, чтобы уже давали себя знать зубки? У Огюста-старшего зубки выросли рано, а у нее, по словам мадам Жири, поздно – интересно, в кого пойдет малыш? Сейчас он спит, и это такое благословенное время, можно дух перевести, но как только нянька принесет его, Маргерит сразу поймет, что ужасно, ужасно по нему скучала… Что может сравниться со столь увлекательным рассказом? Уж конечно не история о странных отношениях с сумрачным и молчаливым любовником. Джен слушает Мег невнимательно – она вообще в последнее время замечает, что стала смотреть на вещи словно издалека, немного отстраненно. Ее мысли, на самом деле, все время заняты Эриком. Маргерит пошла по второму кругу – она снова обсуждает погремушку, изредка только перебивая себя, чтобы посетовать – из-за всей этой суеты она пропустила премьеру Джанет, эту оперу про чудовище, о которой столько говорят. Кофе остыл, пирожные больше есть невозможно – иначе лопнешь… Эрик не любит сладкого. Она не много знает о нем, но это знает: он никогда не ест десерт. Он любит красное вино, и мясо. Хищник. Черный леопард. Появление няньки с маленьким Огюстом вносит в беседу необходимое оживление. Он и правда прелестен: одет в хорошенькое платьице и чепчик, и глазки уже понятно, что останутся голубыми, и щечки у него румяные, и ручки пухленькие. Получив свой обед, малыш остается на руках у матери – Мег хочется немножко поиграть с сыном. Прелестный малыш. Некоторое время бывшая балерина умильно любуется на затихшего сына, который и правда сосредоточенно сосет кулачок. Потом она поднимает глаза на Джен: - Вот он такой чудесный малыш, и такая радость для всех нас. Но ты не представляешь, как я боялась, пока носила его. Боялась рожать, и что с ним или со мной что-то случится. После того, что произошло с Кристиной… Джанет замирает. Это имя. Она слышала его слишком часто. Это глупо, наверняка это простое совпадение, но она не может не переспросить, с деланным равнодушием: - А что за Кристина и что с ней произошло? Секунду Мег глядит на нее с недоумением, а потом качает головой: - Ну конечно – ты ведь не знала ее, ты приехала в Оперу уже после пожара. Кристина де Шаньи, она же Даэ, дочка знаменитого скрипача, моя подружка, мы с ней вместе были в кордебалете, пока она вдруг не стала примадонной и не вышла замуж за графа Рауля – его ты знаешь – он, конечно, тогда еще был виконтом. Она умерла при родах. Джанет бледнеет – слышать о таких вещах всегда страшно: - Какой ужас. Вот почему граф всегда такой печальный. А ребенок? - О, с ним все в порядке – она родила, на самом деле, благополучно, но потом умерла от потери крови. Это и правда ужасно, и Рауль после этого так изменился, стал очень редко бывать в свете, и так несправедливо, что им выпала такое несчастье после всех этих ужасов с мсье Фантомом. Джанет поднимает руку, останавливая речь подруги: - Мег, милая моя – рассказывай по порядку. Не забудь, что я не знаю этих людей. Что это за мсье Фантом такой? Снова на лице Мег изумление – и снова взгляд ее проясняется: - Опять я забыла о том, что ты приехала в Париж не так уж давно. Раньше невозможно было работать в Опере, и ничего не знать о Призраке. Но после пожара в театре не осталось почти никого из старой труппы – пока был ремонт, все разбежались, мама вот со мной стала жить. Только мсье Рейе, наверное, и остался из тех, кто помнит старые времена. В общем, в Опере жил Призрак, самый настоящий, и мы его боялись и при этом гордились, что он у нас есть – он был нам вроде как талисман, мы даже перед выходом на сцену шептали будто в шутку – «Призрак, помоги, пусть все пройдет хорошо!» Он бродил по театру, и давал директорам советы, что ставить и как, и требовал с них деньги, и писал язвительные письма, мне мама показывала… Мама его знала. Но потом все стало не так мило, потому что он убил одного рабочего сцены, хотя если ты хочешь знать мое мнение – и правильно сделал – мерзкий был тип, ни одной девчонке проходу не давал, ну ты знаешь таких, в каждом театре они есть. А еще он написал оперу, и заставил нас ее поставить, и покушался на Пьянджи, и вообще именно он спалил театр – поразительно все-таки, что ты о нем не слышала. Джанет совсем забыла о том, что еще полчаса назад ей было скучно. Она с любопытством переспрашивает: - Погоди – подожди минутку. Как он мог все это делать, если был настоящим Призраком? - Я имела в виду, что он на самом деле был, это не то что хористки и капельдинерши его выдумали. Но на самом деле он был не привидением, а человеком, и он жил в театре. Джанет машинально берет свою пустую почти чашку и рассеянно делает глоток кофейной гущи. Сама не зная почему, она взволнована: - А с какой стати он жил в театре, и делал все эти вещи, и причем тут граф де Шаньи? - Ой, ну я как всегда все объясняю неизвестно как. Фантом наш был, видишь ли, влюблен в Кристину и хотел, чтобы она была примадонной, и научил ее петь, и даже хотел на ней жениться, можешь себе представить, и он ее похитил, и Рауль ее спасал, и Призрак его чуть не убил, но Кристина его поцеловала, и он их опустил. А потом он, наверное, умер. - А Кристина? - Кристина тоже умерла. Я же тебе говорила. - Нет, я о другом. Она что о нем думала? Все это так романтично! Мег задумывается: - Кристина, по-моему, была влюблена в него по уши, и боялась до полусмерти. Вот и спряталась за бедного Рауля – от Призрака, и от себя. - Господи, какая запутанная история! – Джен силится связать концы с концами. – Бедная Кристина. А в театр-то он как попал? - А его там поселила мама. Она нашла его в цирке, он там убил цыгана, который его мучил, и сбежал, а маме его стало жалко, вот она и отвела его в Оперу, и всегда о нем заботилась, потому что он был такой талантливый и несчастный. Сердце Джен замирает от безотчетной боли. Она спрашивает осторожно: - В цирке? Почему в цирке? Господи, Мег, ну почему ты не можешь рассказывать нормально! Мег отвечает не сразу – несколько секунд она смотрит на своего хорошенького ребенка. Потом говорит грустно: - Он был уродом. У него половина лица была… ну я не знаю как описать. Как ужасный ожог. Правда, страшно. И очень жалко. Он был вообще такой красивый, если в маске. Я его видела два раза – на маскараде на Новый год, и когда он на сцену вышел с Кристиной в своей опере, когда Рауль хотел его застрелить. На них можно было залюбоваться. И у него был такой голос волшебный. Никогда больше такого не слышала. Сердце Джен перестало биться вовсе. Странно – день за окном все такой же солнечный, ребенок на руках у Мег так же мирно дремлет, так же пахнут цветы в саду, и урчат дурацкие павлины. Но все это вдруг показалось Джен далекимдалеким – словно отделено толстым стеклом… Такой красивый, если в маске. Такой голос волшебный. Вышел на сцену в своей опере с девушкой по имени Кристина – девушкой, которую любил и ради которой творил черт знает что. Ей не нужно, на самом деле, больше ничего спрашивать, но она все-таки делает это – она сама удивляется, что голос ее звучит, как обычно. - Он вышел на сцену с Кристиной? И что она сделала? - Ну, она сняла с него маску. Они ведь с Раулем хотели его поймать, чтобы он не мешал им пожениться. Господи. Сняла с него маску – на сцене, перед полным залом… Щеки Джанет горят, будто ей надавали пощечин – она словно чувствует его шок, его боль. Он любил ее. А она показала его людям… - А он что? - Он обрубил люстру и утащил Кристину в свой подвал. – Мег делает паузу. – Я забыла же сказать – он жил в подвале Оперы. Подвал. Тайные ходы в стенах театра. Маска. Музыкальный гений. Кристина. Кристина, которая отвергла его любовь, предала его… и умерла. Убийца. Безумец. Влюбленный. Бедный, бедный Эрик. Думать о нем невыносимо. Что он пережил? Что переживает? Что творится у него в душе, когда он ходит по этому же театру – выходит на ту же сцену и в то же подземелье… с другой женщиной? С ней? Стоит ли удивляться, что он пьет, плачет, и шепчет… И держит ее на расстоянии? Удивляться нечему. Но как ей быть? Внезапно Джанет понимает, что уже несколько минут молчит – сидит, словно в ступоре, и бесцельно смотрит на свою пустую чашку. На пирожное садится муха. Из окна доносится аромат жасмина. Отвратительный сладкий запах, от него сразу начинает болеть голова. Маргерит не замечает странного поведения подруги – она позвонила и вызвала няньку, чтобы отдать ей заснувшего сына. После чего удалилась куда-то в угол комнаты и начала сосредоточенно рыться в одном из комодов, бормоча: «Ну куда я могла?… Вечно все теряю…» Наконец она возвращается, с триумфальным видом пряча что-то за спиной, и говорит: - Я была, между прочим, в его подвале. Туда во время пожара ворвались полицейские, и ребята из труппы – думали его поймать. И я пошла с ними. Только мы его не нашли. Зато я нашла вот что! Она показывает то, что искала в комоде. Джанет смотрит, едва сдерживая тошноту, на запыленную, сажей давнишнего пожара перепачканную полумаску из тонкой белой кожи – точно такую, как та, что скрывает лицо ее любовника. Глава 16. Доказательство жизни. Париж, апрель 1885 года Дом, в котором поселился в Париже Эрик, похож на него. Он стоит в глубине тенистого, запущенного сада: внушительный, большой, мрачный и молчаливый. Светлый камень, из которого он построен, потемнел от времени: пыль и влага осели на крупных по пропорциям, широких карнизах и пилястрах, которые прочерчивают фасад, на стоящих по парапету крыши резных вазах, на балясинах парадной лестницы и балкона. Половина симметричного, классически правильного фасада заросла плющом; он еще не успел ожить после непривычно морозной зимы, и потому вместо буйства зеленых листьев взгляд встречает хрупкое, как паучья сеть, переплетение засохших бурых стеблей. Оно не скрывает стену, лишь смазывает ее очертания, лежит на ней, как плотная вуаль. Как темный муар на зеркалах, завешанных на время похорон. Джен была здесь всего один раз – Эрик показывал ей свое приобретение, провел по гулким комнатам, скупо объясняя, как планирует устроиться в особняке. День был холодный, и дом не произвел на девушку приятного впечатления. Он показался ей слишком большим, пустым и суровым. С таким домом могла бы справиться, сделать его жилым только большая, шумная семья. Но не одинокий затворник, который смотрит на деревья в саду, как на вражескую армию – а именно так выглядел Эрик, когда на секунду подошел к окну и выглянул наружу, на спущенный фонтан на задней лужайке. В конце этого странного осмотра Эрик молча, без каких-либо объяснений и пожеланий вручил Джанет ключи от дома. Надо полагать, он имел в виду, что рад будет ее визиту. Девушка, впрочем, предпочитала не навязывать ему свое общество – она хотела быть уверенной, что Эрик действительно хочет ее видеть, а уверенность эта возникала только в том случае, если он приходил к ней сам. Ну что же – теперь пришло время воспользоваться его «приглашением». Теплые, синие сумерки. Вечер еще не слишком поздний, но можно быть уверенной, что слуг поблизости нет – Эрик не любит, когда они задерживаются при нем, как вообще не любит присутствия посторонних. Джанет без труда открывает небольшую кованую калитку справа от въездных ворот. Она отпустила экипаж еще в двух кварталах отсюда, не желая лишнего шума. Медленно, не торопясь она проходит по двору к крыльцу, поднимается по стертым от времени ступенькам к тяжелой резной двери. Останавливается, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Джанет приехала к Эрику прямо от Мег – благо, дом барона не так уж далеко отсюда. Она сама еще не знает, зачем. Что она хочет спросить у него, что сказать ему? В сознании путаница, но одно она понимает совершенно ясно: теперь, когда она знает прошлое Эрика – вернее, слышала легенду о его прошлом – она непременно должна увидеться с ним. Посмотреть в глаза. Она зла не него, потому что это уж вовсе немыслимо – скрывать так много. Она хочет обнять его крепко-крепко, потому что никогда еще не чувствовала так остро, насколько он несчастен. Она вставляет в замок тяжеленный ключ, и он поворачивается неожиданно легко и бесшумно. Дверные петли не скрипят – они хорошо смазаны. Конечно, ведь ни один неприятный звук не должен оскорбить музыкальный слух маэстро. В холле темно – все окна завешены тяжелыми портьерами. На второй этаж ведет внушительная лестница. Почему-то Джен вспоминается старая английская сказка про девушку, которая неосторожно нанесла визит своему преступному жениху. При входе ее встретила надпись: «Дерзай, дерзай…» Она пошла дальше – и увидела новые слова: «Дерзай, дерзай, но не слишком дерзай…» За дверью с предупреждением: «Дерзай, дерзай, но не слишком дерзай – ты увидишь горя непочатый край», была комната, полная телами его жертв. Джен решительно направляется на верхний этаж – там Эрик собирался устроить свой кабинет и спальню, там он поставил орган. Наверняка он там. И крайне маловероятно, что у него там есть чуланчик с телами цыгана-циркача и любопытного рабочего сцены… Единственная темная комната, которую нельзя открывать, находится у Эрика в мозгу. И скрыты там не трупы убитых им мужчин, а образ женщины, которая едва не погубила его самого. Женщины давно умершей, но не желающей оставлять его в покое. Длинный коридор: по одной стене двери, по другой окна, выходящие в сад. Небо совсем черное – как быстро стемнело... Вот, наконец, его дверь. Постучать? Войти? Еще секунда – и дверь распахивается. Эрик останавливается на пороге, как вкопанный, и она слышит его короткий вдох – такой звук бывает, когда человек внезапно получает удар в грудь, и пытается совладать с резкой болью. Эрик одет по-домашнему, только в брюки, рубашку, и восточного вида халат. Опустив взгляд вниз, она замечает его босые ступни. За его спиной в кабинете царит хаос. Расшвырянные ноты, расставленные по столам и полу оплывшие свечи. Грязная тарелка, смятая салфетка. Бутылки – полные и пустые. Подняв глаза вверх, она видит его лицо. На нем нет маски. Она смотрит ему в глаза: светлые, испуганные и злые. Боже, что она сделала?! Сейчас он накричит на нее. Он никогда еще не повышал на нее голоса, но сейчас, она точно это знает, он сорвется… Вместо этого происходит нечто совсем другое. По лицу Эрика словно пробегает тень, смесь эмоций, которые Джен не может расшифровать, и в его глазах на секунду появляется боль, и смертельная усталость. А потом они гаснут – будто темное облако закрывает луну. Эрик делает шаг назад, и прикрывает лицо ладонью – медленно, словно по привычке, потому что он ведь понимает, что прятаться ему теперь уже бесполезно. На нем нет так же и парика, и Джанет замечает, что волосы – там, где они есть – у него темные, но с рыжиной. И с сединой. Он отходит к камину и отворачивается от нее. Его плечи вздрагивают, но он не издает ни звука. Он замер, словно ожидая, что ему на спину опустится плеть. Ждет, что она закричит? Или что за ней захлопнется дверь? Джен проходит в глубину комнаты, подходит к столу. Поворачивает голову, чтобы видеть Эрика, и говорит: - Это чудовищно. Он резко сгибается – это тот удар, которого он ждал. Та реакция на его лицо, к которой он привык. Это конец. Сейчас она упрекнет его в том, что он обманул ее, и уйдет. Странно, что она еще здесь, что она дает себе труд говорить с ним – нежная, добрая, великодушная и щедрая Джен. Он потерял ее. Если бы можно было теперь исчезнуть, сжаться в комок, спрятаться гденибудь, где ему не будет так больно. Но такого места нет – ему в собственном теле больно… - Это чудовищно, – повторяет она. – То, что ты делаешь с виски – это просто преступление. Что? О чем она, черт возьми, говорит? Эрик медленно выпрямляется, и невольно поворачивается к девушке, все еще прижимая руку к лицу. А она бережно берет в руки бутылку, и смотрит на остатки жидкости в ней, и вздыхает: - Ты хотя бы понимаешь, что виски – это по-настоящему благородный напиток, не то, что дистиллированный винный спирт, который вы продаете по миру под названием «коньяк»? Ты знаешь, как отбирают для виски зерно, как его вымачивают, как тщательно перегоняют?.. Сколько внимания уделяют каждой детали: дереву, например, из которого делают бочки для выдержки. Виски, который ты тут расплескал по столу, держали в вишневой бочке десять лет, чтобы его аромат и терпкость стали… поэзией. А ты просто проглотил содержимое стакана, и даже вкуса не почувствовал. Он глядит на нее, ничего не понимая. Она печально качает головой: - Виски надо пить для удовольствия. То, чего добиваешься ты… Просто ударь себя по голове молотком – получится проще, быстрее и дешевле. Она что – слепая? Он стоит перед ней без маски, а она рассказывает ему, как правильно пить чертов виски? Джен подходит к нему, и заглядывает в глаза: - Не делай так больше. Не надо. Хороший виски – это как картина или статуя. Это искусство. Разве можно портить произведения искусства? Он не знает, что ответить – только смотрит в ее поднятое лицо. Ее серые глаза не выражают ни ужаса, ни жалости. Он стоит перед ней без маски, а она смотрит на него… как обычно. С нежностью. - Ты меня не поцелуешь? – спрашивает она. Эрик закрывает глаза. В горле стоит комок. Неужели она не понимает, что прямо сейчас, сию секунду с ним происходит чудо – она не отворачивается от него. Не кричит. Не шарахается в сторону. Она говорит с ним о виски, и она хочет, чтобы он ее поцеловал… Не ради спасения чужой жизни. Не из жалости, видимо. Не назло ему – чтобы показать свою власть над ним. Она просто хочет, чтобы он приветствовал ее поцелуем. Как обычно. Эрик медленно качает головой и произносит хрипло: - Прости… – это все, что приходит ему на ум. – Прости, прости, прости меня… - За что? – Ему кажется, или в голосе ее звучит улыбка? – За что простить? Он открывает глаза. Она все еще перед ним: спокойная, ласковая, такая неправдоподобно красивая в голубом весеннем платье и кокетливой шляпке на золотых кудрях. В полумраке ее лицо словно светится, и ее глаза поблескивают под поднятой вуалью. - За то, что я… это я. За то, что я собой представляю. - Ты представляешь собой мужчину, которого я люблю. Так ты не хочешь поцеловать меня? - Как ты можешь стоять здесь так спокойно? – Его недоумение вырывается, наконец, наружу, и голос окрашивается гневом. – Как ты можешь смотреть на меня? Говорить о любви? Тебе прикасаться ко мне должно быть противно! Он стремительно отходит от нее и проходит в глубину комнаты, к органу, и пинает по дороге табуретку. Джен смотрит ему вслед и качает головой. Он так красив. Если бы он только знал. Если бы жизнь можно было повернуть по-другому. Она пожимает плечами: - Почему мне вдруг должно быть противно? Что изменилось в тебе с прошедшей ночи? Он делает гневный жест рукой, указывая на свое лицо: - А это не имеет никакого значения?! - Нет. - Нет?! – Он уже снова рядом с ней, и встряхивает ее за плечи, будто это она перед ним виновата. – Я обманул тебя. Я скрывал… это. Ты бы никогда… никогда не стала… О господи, Джен, не заставляй меня унижаться, произнося это вслух. Знай ты об этом… Ты никогда не стала бы иметь дела с уродом. Несколько секунд Джанет смотрит ему в глаза с тем же подкупающим и необъяснимым для него спокойствием, а потом поднимает руки к его лицу. На его лбу капельки пота, волосы растрепаны, покрасневшие глаза лихорадочно блестят; он дышит коротко и судорожно, не в силах поверить ее спокойствию, не умея справиться с привычной болью. - Эрик… Эрик. – Она прижимает ладонь к его здоровой щеке, а пальцы второй ее руки замирают в сантиметре от щеки увечной. – Можно? – переспрашивает она робко. Эрик просто кивает – него нет ни слов, ни голоса. Ее пальцы прикасаются к его уродливым чертам, прослеживают каждый шрам. Гладят кожу, к которой никогда ни одна женщина не прикасалась. Такие ласковые руки. Такие ласковые и грустные глаза. Она поднимается на цыпочки, и ее губы оказываются там, где только что были руки. Он судорожно вздыхает. Джен… Джен… Единственная женщина в мире, которая поцеловала его увечные черты. Единственная в его жизни. Она пристально смотрит на него, а потом говорит: - Эрик… Ты ведь художник. Неужели ты настолько поверхностен, чтобы думать, будто внешность имеет значение? Эрик отпускает ее плечи. Его руки безвольно опускаются по бокам, и он говорит с неожиданной холодностью: - Ты наивна. Внешность имеет значение. Вся моя жизнь была тому доказательством. - Вот как? Так расскажи мне. Расскажи, почему я должна шарахаться от тебя, если твое лицо меня не пугает. Или у тебя есть другие тайны, посерьезнее? Эрик замирает. Простой вопрос, но он кажется ему эхом слов, сказанных когда-то Кристиной в минуту гнева: «Меня не пугает твое лицо. Твоя душа – вот что по-настоящему страшно…» Разве стала его душа с тех пор лучше? Разве имеет он право стоять здесь, с этой женщиной, и позволять ей говорить, что она любит его – нелюдь, убийцу, живое привидение? Джен видит, что он разгневан, но понимает его по-своему. Она мягко прикасается к его руке: - Не сердись на меня. Тебе не обязательно отвечать. Ты можешь рассказать мне, когда захочешь. Если захочешь. Можешь никогда не рассказывать. Потому что, – ее голос приобретает теперь оттенок глубокой грусти, – потому что я понимаю, слишком хорошо, почему ты не говоришь со мной. И единственная тайна, которая на самом деле имеет значение – это зачем я тебе нужна. Так странно – они стоят обнявшись, но в эту минуту кажется, что они невероятно далеки друг от друга. Джен продолжает: - Ты ведь не любишь меня. Я знаю, что ты привязан ко мне, и желаешь, и тебе нравится мое пение. Но ты не любишь меня. – Она делает еще одну паузу, и заканчивает неожиданно. – Может быть, это и к лучшему. Эрик резко отстраняет от себя девушку и отходит назад, к органу. Она стоит посреди комнаты такая потерянная – такая несчастная. Он садится за инструмент, и оборачивается к ней через плечо: - Джанет… – Ее имя все еще звучит у него как «Жанет». Так мягко и ласково и забавно, что хочется плакать. – Джанет. Джен. Спой для меня. Девушка вскидывает голову: - Ты что, с ума сошел?! - Я прошу тебя. Спой. - Господи… Что тебе спеть? - Я покажу. С этими словами он начинает наигрывать мелодию – простую и древнюю, как холмы и озера ее родины, гэльскую песню, незамысловатую историю разлученных любовников. Откуда Эрик может ее знать? Эту песню пел Джен рабочий на отцовской фабрике… сколько – десять, двенадцать лет назад? Она была еще девчонкой, и она запомнила-то песню только потому, что уж больно красив был тогда вечер, и хорош работник – рослый парень с русыми кудрями и большими руками, которыми он так ловко подсаживал хозяйскую дочку на лошадь. Энгус, его звали Энгус. Он дружил с ее братьями, и женился потом на девушке из Килмарнока, которую встретил на ярмарке, и погиб зимой, когда ударили сильные морозы и лошадь его не удержалась на скользкой дороге в горах. Горло у Джен перехватывает от боли и красоты этого воспоминания – ушло, и никогда не вернется то, что казалось когда-то таким сильным и надежным, таким постоянным… Она сама не замечает, как начинает петь, и поет песню целиком, а Эрик ведет мелодию на органе. Она замолкает. В тишине слышно только их дыхание – его и ее. Эрик первым нарушает молчание: - Скажи мне, что это было? Что это за песня? Что за язык? - Это очень старая шотландская песня… Она на гэльском. Но почему ты спрашиваешь, ты ведь знаешь ее? Откуда ты ее знаешь? Эрик сидит за органом, не оборачиваясь. Голос его звучит вымученно, но отчетливо – видно, что он контролирует каждый звук, чтобы не было необходимости повторять то, что ему и один-то раз сказать невыносимо трудно: - От тебя. Я знаю ее от тебя… – Он делает долгую паузу, которую Джен боится нарушить. – Когда-то, целую жизнь назад – я любил… Как ни смешно тебе это может показаться. Любил девушку. Она была певицей – я сделал ее певицей, и я надеялся, что благодарность… и уважение… Помогут ей забыть то, что ты видела сегодня – мое лицо. Ее голос… он был создан для моей музыки, они так подходили друг другу, что мне казалось даже – она любит меня. Я ошибался. Она не любила меня, и не могла полюбить. Она вышла замуж, и она умерла. Еще одна пауза, настолько длинная, что Джен успевает сто раз пожалеть, что поддалась импульсу и пришла сюда сегодня. Он не готов – и никогда не будет готов – быть с ней честным. Она не готова еще услышать то, что он ей скажет. Не готова – и никогда не будет готова – слышать, как он говорит о женщине, которую любит на самом деле. Наконец Эрик продолжает: - Понимаешь, ты можешь сколько угодно обещать себе, что больше не будешь думать о любви, но ты все равно любишь. Это не проходит так просто. Я умер тогда, вместе с ней. Наверное, умер. Видит бог, я этого хотел. Но я очнулся – меня разбудила мелодия, незнакомая мне – а в мире не так много мелодий, которых я не знаю. Ее пел голос, который был невозможен, невероятен, прекрасен – он был не от мира сего, этот голос, и он один стал для меня искрой света, глотком воздуха… Доказательством жизни – того, что жизнь не кончилась вовсе с уходом женщины, в которой заключено было все мое существо. Все надежды. Все мечты. И мне казалось, что если уж голос разбудил меня, если уж мне дано его услышать – значит, и мне есть место среди живых. Об этой мелодии речь, Джен… И о твоем голосе. Он оборачивается, наконец, к ней, и смотрит в глаза: - Твой голос не дал мне умереть. Твой голос заслонил для меня весь мир – все, что было мне прежде важно и нужно, и ради чего я творил вещи, о которых тебе лучше не знать. Я здесь только благодаря тебе. Я жив только благодаря тебе. Я пишу музыку только для тебя. И ты думаешь, что я тебя не люблю? Глава 17. Что скрывает ложь. Париж, май 1885 года. Эрик всегда любил затишье перед бурей. Тяжелые, свинцом налитые небеса, звенящую тишину насыщенного электричеством воздуха перед тем, как первые молнии прочертят темное небо, и на железные листы кровли Оперы с гулким стуком упадут первые капли дождя. Гнетущие, пустые такты молчания перед тем, как оркестр разразится душераздирающим крещендо. Ему так знакомы, так дороги были подобные состояния. Поразительно, что он не узнал, не почувствовал этого момента в собственной жизни. Две недели, прошедшие после судьбоносного вечера, когда Джен пришла к нему неожиданно и застала его без маски, были, наверное, самыми счастливыми в его жизни. Он долго не мог поверить, что открывшаяся правда не имела для его возлюбленной особенного значения. Чем дольше они были вместе, чем ближе становились друг другу, тем мучительнее ему было сознавать свой обман – тем больнее представлялся неизбежный момент, когда ложь раскроется и положит конец их странному роману. Он знал, что потеряет ее – не сомневался в этом ни на секунду. Даже лежа в его обьятиях, она ускользала от него, как песок сквозь пальцы – как желанный предмет во сне, к которому тянешься, тянешься, и не можешь достать, и неизбежно просыпаешься. Джен была всем, чего Эрик не знал раньше в жизни – и он не умел справляться с собой, и с ней, и с новым миром, который открылся ему после того, как она ответила на его страсть. Каждое мгновение этой новой жизни было отравлено для него простой мыслью: знай она правду, ничего этого не было бы. В его отношениях с Джен продлились, словно по волшебству, минуты, проведенные когда-то с Кристиной в его подземелье – первый раз, до того, как она сняла с него маску. Минуты тепла, и доверия, и обоюдной любви. Но он знал теперь, что сказка таит в себе ночной кошмар, знал, что нельзя вечно строить свое счастье на обмане. Когда-то ему казалось, что открыться перед Кристиной будет просто – надо лишь увериться в ее любви. В любви Джанет он был уверен… Но открыться проще не стало. Тысячу раз за прошедшие с премьеры “Синего чудовища” месяцы он хотел упасть перед ней на колени, и сорвать с лица маску, и рассказать ей, кто он и что он, и умолять ее принять его, и простить, и разделить с ним жизнь, которой без Джен просто не было бы. И тысячу раз останавливал себя. Потому что боялся. Боялся ее потерять, и презирал себя за и трусость, и за ложь. А потом все случилось само собой – так же почти, как с Кристиной, но всетаки по-другому. Потому что вместо страха он увидел в глазах девушки нежность, вместо слез – улыбку, и вместо тягостного молчания услышал просьбу о поцелуе. Джен, вероятно, думает теперь, что его подменили. Он перестал избегать ее: он, наверное, замучил ее своей навязчивостью, постоянным присутствием, своими приставаниями и болтовней – потому что, проведя годы в добровольной изоляции, он не может теперь остановиться, он все время говорит. Когда-то, дни и ночи сидя в подвале Оперы, Эрик беседовал сам с собой, как все одинокие люди. “А теперь поставим это сюда… Что за незадача… Дурацкие чернила – как невовремя вы кончились… Надо купить вина… Надо разжечь камин… Проклятье, спектакль уже начался, а я проспал…” Теперь этому потоку сознания нашелся слушатель, и Эрик не раз ловил на лице Джен удивленное, недоверчивое слегка выражение. Наверное, он выглядел в ее глазах полным идиотом, но его словно прорвало. Ему нужно было чувствовать, что она рядом – знать, что она его слышит, что она не отвергла его и никогда не покинет. Был лишь один способ добиться этого, но, чтобы прибегнуть к нему, Эрику нужно было собрать все свое мужество. Его возлюбленная была свободной, сильной и щедрой, и с какой бы стати она решила вдруг принять его? Одно дело – роман, который ни к чему ее не обязывал. Совсем другое – его никчемная жизнь, его пустая рука, и его разбитое сердце. Но Джен говорила, что любит его. Она поступала так, будто любит его. Она смотрела с нежностью в его открытое лицо, и целовала его шрамы. Он должен рискнуть. Может быть, она не рассмеется. Не прогонит его. Он уже час сидит в экипаже в квартале от ее дома, не решаясь войти, и бесконечно вертит в пальцах кольцо, которое купил для нее. Оно не такое вычурное и не такое крупное, как то, что Рауль подарил когда-то Кристине. Оно проще, и благороднее. Это его кольцо, он купил его для единственной женщины, которую может хотя бы отчасти назвать своей. Наконец он собирается с силами, и отпускает возницу, и подходит к ее дверям. Джен должна быть одна – сегодня среда, у ее слуг выходной. Это кстати – Эрику совершенно не нужны подслушивающие сплетницы-горничные. Он бесшумно отпирает входную дверь, и проходит в прихожую. Дверь гостиной приоткрыта, но там тихо. Он выглядывает через стеклянные двери в сад – Джен любит сидеть по вечерам в кресле возле розовых кустов, и грызть длинные травинки, как маленькая девочка. Но ее нет и там. В нерешительности Эрик замирает у подножья лестницы, ведущей на второй этаж, в ее спальню. Должен ли он позвать ее? Или просто подняться? Неожиданно до слуха его доносится звук странный и непривычный – звук, который он меньше всего ожидал услышать. Сдавленный всхлип. Мгновенно он оказывается наверху, у порога ее спальни. Она там, и она плачет – тихо, безнадежно, как одинокие дети, которые не хотят никому помешать своим горем. Что могло с ней случиться? Чем теперь он ее обидел, чем расстроил? Он открывает дверь. Джен сидит на кровати в ночной рубашке и пеньюаре, и треплет что-то в пальцах – присмотревшись, он понимает, что это очередная веточка вереска, которую он принес ей накануне. Она поднимает голову на звук открывшейся двери, и Эрик понимает, что она плачет уже давно: ее глаза опухли, и нос покраснел, и у нее больной вид, как бывает, когда долго не можешь унять слез. При виде него ее лицо искажает гримаса нового всхлипа, и, не говоря ни слова, она отворачивается, и прячет лицо в ладонях. Испуганный не на шутку, Эрик делает шаг вперед, в комнату: - Джен… Джен, что случилось? Она не отвечает, и только качает головой, не отнимая рук от лица. Не хочет его видеть? Смущена чем-то? Он подходит к кровати, и опускается перед Джен на колени, чтобы постараться заглянуть в глаза. Она отстраняется. Он берет ее за руки, пытаясь развести их. Она вырывается, и падает лицом подушку. Веточка вереска оказывается на полу, а Эрику остается только беспомощно переспрашивать: - Что случилось? Ради бога, любимая, что?.. Скажи мне. Не плачь. Пожалуйста, скажи мне, что произошло? Он осторожно кладет ладони ей на плечи, чтобы развернуть к себе и прижать к груди, и тогда ее тихие всхлипы превращаются в громкие рыдания. Она жмется к нему, и вздрагивает, и ее пушистые волосы щекочут его открытую щеку, и вся ее сжавшаяся фигурка исполнена такого глубокого отчаяния, что у Эрика разрывается сердце. Он не знает, что делать, чем помочь ей, и только бесконечно гладит ее дрожащие плечи, и целует макушку, и каждый его нежный жест вызывает новый поток слез, и он начинает бормотать бессвязные извинения, потому что может ли быть, чтобы она была так расстроена без его вины? Она успокаивается потихоньку – успокаивается достаточно, чтобы сесть прямо и неловко отереть мокрые щеки ладонью. Губы ее распухли и дрожат, и ему так хочется просто прижаться к ним своими губами, и чтобы она не плакала больше. Она смотрит, наконец, ему в глаза, и говорит едва слышно: - Я беременна. Сердце Эрика пропускает удар. Джен. Его Джен. Беременна. Господи. У нее будет ребенок. Его ребенок. Это невозможно. Немыслимо. Его ребенок. Его плоть и кровь. Как это возможно? Радость – звериная, безотчетная гордость. Ребенок. У него – у него ребенок. Давно ли он думал, что женщину никогда не познает, а теперь станет отцом… Ужас. Панический, судорогой сводящий живот ужас. У него не должно быть детей – разве может природа допустить повторение этого кошмара? Природа и не собиралась допускать этого… У него не должно было быть женщины. Он сам виноват: он стремился к ней, и добился ее – и сделал несчастной. Господи. Неудивительно, что она так плачет. Что можно сказать ей? Чем можно утешить женщину, которая зачала от монстра – от монстра, который обманывал ее, скрывая свое истинное лицо? А ведь она полагала, что любит его. Эрик собирает все мужество, на какое способен, и произносит неловко: - Я очень рад. Я давно собирался сделать… одну вещь, – он достает из жилетного кармана кольцо. – И теперь у меня есть основания надеяться, что ты мне не откажешь. Она смотрит на кольцо в его руке, и прикрывает глаза, и качает головой. Эрик. Принес обручальное кольцо. Собирался сделать предложение… Боже. Боже. Боже. Как ее угораздило? Как такое могло случиться? Она ведь старалась быть осторожной… Джен снова открывает глаза, и говорит: - Эрик. Эрик… Это невозможно. Я не могу. – Ее голос ломается, и по щекам снова начинают струиться слезы. Ей невыносимо видеть, как каменеет, застывает в гримасе боли его лицо. Открытая половина стала теперь такой же бледной и холодной, как маска. Эрик поднимается с кровати и отходит к камину. Пауза кажется бесконечной. Говорит, едва глядя на нее, но поразительно спокойно – словно он только отказа и ждал, и ничуть ему не удивился: - Я понимаю. Я достаточно хорош, чтобы быть твоим любовником – это, наверное, забавно. Но не мужем – конечно, нет. Зачем тебе муж-урод, и да еще брак, заключенный по необходимости? Джен судорожно сжимает руки: - Нет, Эрик, нет. Ты ведь знаешь, что я так не думаю… Ты знаешь, что я люблю тебя. Он резко оборачивается: - Тогда почему нет? Я хотел просить тебя об этом сегодня – не твоя новость была причиной моего предложения, и видит бог, я долго не решался на это, потому что знал, что ты не станешь связываться со мной. Но ты могла бы, хотя бы из-за ребенка, быть благосклонее… к моей просьбе. Если уж ты любишь меня, как говоришь. Джанет опускает голову и, не отрывая глаз от рисунка на ковре, повторяет: - Нет. Эрик, нет. Я не могу… В том-то и дело, что я не могу. Он смотрит на нее долго, может быть, с минуту, в полной тишине. Она снова начинает всхлипывать. Эрик не в силах, не может заставить себя поверить тому, что очевидно – тому, что было бы, на самом деле, разумно… Он и сам знает, что ей будет так лучше, и что это, видимо, единственный выход, но все в нем переворачивается, и тошнота подступает к горлу… Его ребенок… Только потому, что это его ребенок… Только поэтому его не может быть. Он должен все-таки спросить ее. Каждое слово падает в тишине, как тяжелый свинец: Ты хочешь избавиться от него?.. Джен поднимает на него глаза и смотрит тоскливо и недоуменно. Он собирался быть мужественным, и думать только о Джен, о том, что хорошо для нее, но сердце его не выдерживает – он бросается к ней, и падает к ногам, и обнимает колени, и бормочет бессвязно, захлебываясь невесть откуда взявшимися слезами: - Я знаю, так будет лучше… Но это ведь не известно… Я сам не знаю, почему это так, и мать моя не знала. Может быть, будет по-другому – это ведь возможно. Может быть, он будет нормальным! Джен, Джен… Я умоляю тебя. Ребенок. Мой ребенок. Я и подумать не мог, что у меня может быть… Я умоляю тебя… умоляю. Не отнимай его. Я знаю, я слишком много прошу – о невозможном прошу. Если он будет… будет таким, как я… я заберу его. Тебе не придется мучиться. Мы будем жить вдвоем, ты можешь забыть о нас. Только дай мне его. Не убивай его. Мой ребенок… Эрик чувствует, что руки Джен отталкивают его, и она встает с кровати. Обессиленный, он остается на полу, не смея поднять на нее взгляд. В тишине ее необыкновенный голос звучит низко, в грудном регистре – и он окрашен невероятной, великолепной яростью: - Эрик! Посмотри на меня. – Он молча подчиняется. Глаза ее сверкают от гнева, и она никогда еще не казалась ему такой красивой. – Как ты мог такое подумать обо мне? Чертов дурак! Я люблю тебя, и буду любить твоего ребенка, любого ребенка, потому что он твой, и мой, наш, и дело совсем не в этом! Избавиться от него – это надо же придумать такое! Что за гадюшник у тебя в голове… Она замолкает, прерывисто дыша. Ее ярость оказывается заразной – Эрик взвивается с полу, как разогнутая пружина, и кричит – гнев его еще сильнее от того, что он растерян, и не может понять причину ее слез, и стыдится выводов, которые сделал: - Тогда какого черта?! Если ты так любишь меня, что даже урода от меня готова родить, то почему обязательно ублюдка? Почему ты не хочешь выйти за меня? Джен делает шаг назад, и поворачивается к окну, за которым так пышно и сладко цветут розы. Весь ее гнев испарился – она безвольно опускает голову, и снова начинает плакать. - Эрик… Эрик. Я не могу. Не могу. - Почему?! Просто скажи мне! Джен оборачивается, и смотрит на него с бесконечной усталостью: - Потому что я замужем. - Глава 18. Полночь в саду добра и зла. Париж, май 1885 года. Беспомощность. Бешенство. Безнадежность. Как хорошо они были знакомы ему когда-то – и как давно, оказывается, это было. Три года назад в подвале Оперы он в последний раз смотрел на дела рук своих – смотрел, бессильно ярясь на самого себя, что получилось из его безнадежных и беспомощных попыток завоевать Кристину. Не получилось ничего, но даже в самые тяжелые минуты, когда вспоминать о позоре и унижениях было невыносимо, он мог сказать себе: «Ты сделал это сам, и был, очевидно, миг, когда ты мог остановиться. Ты просто пошел до конца, и проиграл, но никто не виноват в этом, кроме тебя. И никто не пострадал, кроме тебя». То, что происходит теперь, в тысячу раз хуже. В прошлый раз больно было только Эрику – а кому, в сущности, есть дело до него? Даже ему самому – не всегда. Теперь страдает женщина, которую он… любит. Женщина, которую считает своей. Женщина, которая носит его ребенка. И он ничего не может сделать. Ничем не может помочь, сколько бы не терзал свой мозг, он не видит выхода. Потому что единственное решение, которое приходит ему на ум, это не спасение вовсе, а падение в бездну. Сегодня днем, после того как Эрик осознал услышанное, и Джен чуточку успокоилась – она сняла с души тяжесть, поделившись ею с возлюбленным, и на какое-то время то, что он рядом, и что лгать больше не нужно, сделало жизнь проще, и словно бы отодвинуло их проблемы на второй план, – она рассказала ему историю своего брака. Она была банальной, эта история, но каждая мелочь в ней заставляла Эрика конвульсивно сжимать кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Это произошло семь лет назад, в Неаполе, куда молодая певица приехала с первым серьезным ангажементом – партией Амнерис в «Аиде». Джанет было восемнадцать лет, и она была не в меру легкомысленна, избалована и упряма – сказывалось детство, проведенное в кругу любящей семьи, где все, и отец, и старшие братья носились с ней, как с хорошенькой куклой, и ни в чем не могли отказать. Само разрешение стать певицей было знаком того, как много позволял обожаемой дочери мистер Росс Андерсон. В путешествии ее сопровождал младший из братьев, Малколм, но толку от него было мало – одной солнечной улыбки сестренки было достаточно, чтобы сердце молодого стряпчего растаяло. Джанет имела в театре Сан-Карло большой успех: немедленно последовали предложения остаться на весь сезон, спеть в других постановках. Звучали туманные намеки на ангажемент в Ла Скала. Все это ударяло в голову, как солнце Италии, как синева Неаполитанского залива и аромат соленого морского ветра. Но сильнее всего кружили голову ухаживания патрона Сан-Карло, маркиза Витторио Фраскатти. Он был молод, и очень хорош собой: темноглазый, кудрявый, с мускулистым телом, которое он постоянно упражнял фехтованием и верховой ездой. Их роман был стремительным, их женитьба – почти непристойно скорой: через два месяца после дебюта Джанет уже оставила сцену и стала маркизой Фраскатти. Бедный Малколм Андерсон и глазом моргнуть не успел, да и какие, в самом деле, у него могли быть возражения? Джанет была явно и взаимно влюблена в очаровательного, богатого и благородного аристократа. Истинное положение дел выяснилось ошеломляюще быстро. Маркиз Фраскатти не был, на самом деле, богат – за ним водились огромные долги. Он не был благороден – долги это были карточные, и про него говорили, что он не чист на руку, и он водил компанию с какими-то сомнительными типами. Деревни вокруг давно заложенного семейного поместья были полны девицами, которые могли бы порассказать Джанет много интересного о ее муже. И Витторио Фраскатти уж точно нельзя было назвать очаровательным: когда Джанет упрекнула его в мотовстве, изменах и обмане, он ответил ей потоком площадной брани, и ударом по лицу. Она, певичка безродная, должна быть счастлива, что ей удалось выйти замуж за аристократа, и ей не следует лезть в его дела, сказал он. Другая женщина решила бы, вероятно, терпеть свое положение. Но тут своеволие, воспитанное в Джен любящими братьями и отцом, пошло ей на пользу. Вечером того же дня, когда произошло драматическое объяснение с мужем, Джанет покинула Неаполь. Через неделю она была уже дома, на отцовской фабрике в Килмаколме, а два ее брата, Хэмиш и Дуглас, ехали в Италию – разбираться с маркизом. Она никогда не пыталась выяснить, что именно два рослых шотландца сделали с ее мужем – знала лишь, что мерзавец, увы, остался жив. В конце концов Андерсоны оплатили его долги – те, что скопились на момент брака. За это он согласился на разъезд с женой, и обещал не претендовать больше на семейные средства, и не препятствовать ее самостоятельной жизни: оправившись от пережитого и перестав корить себя за несусветную глупость, Джен собрала волю в кулак и изъявила твердое намерение вернуться на сцену. Так и произошло – Джанет начала снова петь, и умела успех, и построила неплохую карьеру, которая теперь, после «Синего чудовища», превратилась в карьеру блистательную. Она никогда больше не видела Витторио, намеренно избегая гастролей в Италии. Она слышала лишь, что образ жизни его не изменился – он по-прежнему кутил и делал долги. Но дела мужа не касались Джен: она прожила последние шесть лет, как свободная женщина, и почти уже забыла о своем глупом браке. До поры Джанет помнила о том, что в свободной ее жизни есть черта, за которую переходить нельзя. Встреча с Эриком, такая неожиданная и необычная, застала ее врасплох. Она не раз тешила себя мыслью, что рано или поздно откроется Эрику, расскажет ему правду, и они смогут как-то решить свою проблему. В конце концов, многие пары в их среде жили вне брака, оставаясь при этом людьми вполне уважаемыми: чем Эрик де Санном был хуже Верди, который не женился на Джузеппине Стреппони десятилетиями, но никто не упрекал ни его, ни ее, или Вагнера, чьи любовные дела были столь запутанными, что сплетники давно уже устали о них говорить? Они могли бы уехать, и жить уединенно. Они могли бы бросить вызов обществу – кому в свете, в самом деле, было дело до отношений композитора и певицы? Ребенок изменил все. Витторио Фраскатти оставался законным мужем Джен, и он мог предъявить права на этого ребенка. Брак не делал легче и жизнь маркиза – ему нужен был наследник, которого ему неоткуда было взять. Ребенок Джен, от кого бы он ни был, годился маркизу как нельзя лучше – он давал ему неограниченные возможности влиять на семью жены, и тянуть с них деньги. Развод был невозможен – обе семьи были католическими, и, хотя даже в Италии измена была достаточным основанием для расторжения церковного брака, Джен не готова была выступить виновной стороной на подобном процессе, тем более в ее нынешнем положении. Стоит ли удивляться ее слезам? Они с Эриком оказались в западне. Эрик не удивлялся больше. Он выслушал ее рассказ, и утешил ее, как мог – глупыми, ничего не значащими ласковыми словами, которые невесть откуда рождались в его столь непривычном к заботе о другом человеке мозгу, и поцелуями, которые заставили ее, наконец, перестать плакать. Она устала, устала от своих слез, и заснула у него на груди. Эрик осторожно уложил ее в постель, и постоял над нею несколько минут. Погладил пальцем еще мокрые щеки. Она была такой красивой, его Джен, и такой храброй. Она столько времени несла на себе такой тяжелый груз, и ее еще хватало на то, чтобы выносить его выходки, и переживать за него. Любить его. Неслышно ступая по мягкому ковру, Эрик вышел из спальни и спустился вниз. Ему нужно унять гнев, который застит ему глаза и не дает вздохнуть, стоит ему только вспомнить о подонке, который лишил его возлюбленную свободы и осмелился поднять на нее руку. Ему нужно подумать. Нужно понять, как быть дальше. Он всегда был мастером обходить ловушки. Но тогда он был один. Гораздо проще оставить в дураках юного виконта с его жандармами, чем помочь женщине, которая подарила тебе жизнь. Чем спасти ребенка, которого неожиданно послали тебе небеса. Эрик выходит в сад, садится в любимое кресло Джен возле розового куста, и закрывает лицо руками. Прикосновение к маске раздражает его – он снимает ее бросает в траву: все равно в уединенном саду в сумерках никто его не увидит. На фоне того, что происходит в жизни Джанет, его маска вообще выглядит нелепо. Еще один атрибут лживой, бестолковой, театральной жизни, жизни с картонными воображаемыми страстями, жизни, в которой, как ему теперь кажется, не было ни одной настоящей проблемы. Неожиданно, не отнимая рук от лица, Эрик начинает смеяться. Это истерический смех, конечно, нервный, и ему надо бы быстрее успокоиться, но он не может. Смешно… Это в самом деле смешно. Он любил Кристину – молодую певицу, которая принадлежала другому. Он готов был убить виконта, чтобы заполучить ее – или думал, что готов. Но то, что произошло тогда в подвале Оперы, ее слезы, ее поцелуй, и тягостное ощущение бесцельности угроз, бесполезности любого насилия изменили что-то в его жизни. Он понял тогда, стоя по колено в воде и плача, что не в Рауле дело – не от того, жив он или мертв, зависит, полюбит или не полюбит Кристина его, Эрика. В нем одном скрыто и проклятье, и спасение. Он не был достоин ее – не появись Рауль в Опере, возможно, она все равно не ответила бы на его страсть… Лишь благодаря тому, что понял это, Эрик остался жив – а ведь он умирал, стоя умирал с той секунды, как остался на сцене без маски. Он должен был жить, чтобы измениться. Чтобы доказать себе, что может стать человеком, которого Кристина полюбит. Эрик, убийца, который не задумываясь убирал с дороги тех, кто ему мешал, отпустил своего соперника. Он не оставлял надежды вернуть Кристину – не оставлял ни на секунду. Но одно он знал твердо: Рауль, ее счастливый молодой муж, всегда будет в безопасности. Что бы Эрик не делал, он не будет больше убивать – не будет марать руки и душу, на которой и так довольно пятен. Эрик дорожил этой переменой в себе. Она была единственным утешением – единственным знаком того, что любовь его к Кристине не была целиком бесполезной. Любя ее, он стал лучше. Он стал, может быть, достоин любви – потому что другая женщина смогла полюбить его. Джанет полюбила его. Прекрасная молодая певица, которая оказалась, видите ли, маркизой. Оказалось, что она принадлежит другому. Это и в самом деле смешно – пощадить соперника, перевоспитать ожесточенное сердце, полюбить снова – и все только для того, чтобы оказаться там же, откуда начал путь. Снова есть он, и женщина, которую он любит, и мужчина, который стоит между ними. Но есть и разница. Эта женщина любит его, Эрика. И у нее будет ребенок, его ребенок, которого он никому, никогда не отдаст. Эрик перестает, наконец, смеяться. На сад опустилась ночь, и аромат цветов стал, кажется, в тысячу раз острее. Воздух влажный – в свете луны он видит, как роса блестит у него на сапогах, и чувствует, что отсырела немного ткань сюртука. Над ухом жужжат комары – удивительно, чтобы такая мелкая мошка раздражала так сильно. Удивительно, что у него хватает зла сердиться теперь на комаров. Он смотрит в темноту, в сотый раз обдумывая все, что с ними произошло. Он знает только один способ освободить Джен, и сохранить их дитя. Это верный способ, но он разрушит все, чего сумел добиться Эрик за годы, прошедшие с той секунды, когда Кристина ступила в воду подземного озера, чтобы поцеловать его. Он должен будет и правда вернуться к тому, с чего начал. К насилию, которое, как он понял тогда, является последним прибежищем слабости. Он хотел быть сильным, и сохранить достоинство, и он не стал разрушать свою душу даже ради того, чтобы получить Кристину. Он остановился на самом краю – но не превратился в зверя. Он не убил Рауля – ни жениха Кристины, ни ее мужа. Он должен стать животным теперь – чтобы помочь Джен, чтобы спасти ребенка. Он должен убить себя – задушить все, что есть в нем хорошего. Забавно. Ему нужно превратиться в чудовище для того, чтобы сохранить то, что сделало его человеком. Конечно, в результате он ее потеряет. Она не сможет смотреть ему в глаза. Да и он не осмелиться предстать перед ней в зверином своем обличье. Но она будет свободна, и ребенок ее будет принадлежать ей одной. Эрик смотрит в темноту, и вдыхает аромат роз, и даже отмахивается от комаров. Передергивает плечами – ночная сырость заставляет поежиться от холода. Он слышит, как в темном доме часы бьют полночь. Как долго, оказывается, он просидел здесь, на водоразделе между добром и злом, между своим прошлым и будущим тех, кто ему дорог. Как много времени у него ушло на принятие такого простого, в сущности, решения. На душу его спускается странное, ледяное спокойствие. Он готов на это. Готов стать монстром. Ради нее. Глава 19. Час теней. Неаполь, июль 1885 года. Пятна лунного света лежат на потертых каменных плитах. Сквозь раскрытые двустворчатые стеклянные двери, ведущие из кабинета на террасу, видна резная балюстрада, и пошлое сине-бархатное, звездами усыпанное небо, под которым мерно дышит прибоем влажная тьма залива. На горных вершинах собрался туман – погода меняется, к утру Капри будет уже не виден. Жарко. Серебрятся листы кипарисов. Гремят чертовы цикады. Ночь точно такая, как рисуют жуликоватые художники с набережной на потребу глупых туристов с Севера. В такую ночь настоящий неаполитанец не знает, смеяться или плакать – родной город и правда смотрится, как дешевые картинки. Маркиз Витторио Фраскатти осушает уже вторую бутылку красного вина, и думает открыть еще одну. Ему жарко, и душно, и в голове туман – не хуже, чем на вершинах холмов. Он закинул на стол ноги в сапогах – все равно бумаги его в беспорядке, а дела запущены еще хуже бумаг. Он расстегнул рубашку, и вытащил ее из-за пояса брюк – в такую погоду аристократу не легче, чем последнему лаццарони с набережной, и одеваться как следует нет никаких сил. Да и кто его тут увидит? Он почти всех слуг разогнал, а те, что остались, давно уже сбежали в город – пропивать, по примеру хозяина, последние гроши. Даже девки в последнее время его сторонятся – и, вообще говоря, их можно понять. Маркизу нечего особенно им предложить. Тело его пребывает в какой-то спячке, а в кармане – дыра. Так что толку от него хорошей девке? Ни удовольствия, ни подарка. Маркиз поднимает бутылку, и тщетно пытается разглядеть при лунном свете, есть ли в ней еще вино. Надо бы свечи зажечь, но боязно – ему вовсе не хочется лишний раз показать, что он дома. Пуста. Надо новую открыть, но лень шевелиться. Черт возьми, до чего он докатился – сидит в собственном доме, как мышь в норе, и боится нос показать, и даже бутылку открыть для него некому! Но скоро, скоро все изменится. На красивом пьяном лице маркиза появляется расслабленная улыбка. Новости, которые он получил из Парижа, необычайно обнадеживают. Его шлюха-жена, наконец, оступилась. Много лет он ждал этого – следил за ней, не сам, конечно, нет у него ни времени, ни сил мотаться вслед за певичкой по Европе. Но следил – за «карьерой», гнавшей глупую девку из города в город – всюду, кроме Италии. Не хочет, конечно, она сюда ехать. Боится его, Витторио. Следил за тем, как она живет: заводит ли любовников, с кем путешествует. Женщины ее профессии всегда на виду – тем более, что шлюха и правда постепенно стала известна. Находились добрые люди, которые могли порассказать маркизу, чем занята прекрасная горянка Джанет. Но она всегда была осторожна. Конечно, она с кем-то встречалась – краткий опыт их брака показал Витторио, что жена была не из тех женщин, что согласятся жить монахинями. Ему до сих пор иногда не хватало ее – этих светлых локонов, и веснушек на груди, и серых глаз, полузакрытых в истоме… Страстная, своенравная ведьма. Сбежала от него, и с чего? Из-за глупой ссоры. И прислала еще своих братцев, будь они неладны. Громилы. Чертовы дикари. Сбежала, и оставила в дураках, и наставляла ему рога – это уж точно, за одно это стоило бы вернуть ее, приструнить. Она его законная жена, и у него есть на нее право. Право на ее тело. Право преподать ей, наконец, урок – девки не сбегают от маркиза Витторио Фраскатти… Может ли быть, чтобы он до сих пор хотел ее? После всех этих лет? Неужели он из-за этого никогда не выпускал ее из виду? Или ему просто нужно обуздать ее, как строптивую кобылу? И есть ли, черт подери, разница? Она всегда была осторожна. Но теперь она оступилась. О ее новом романе не просто знают – о нем говорят. Весь Париж шепчется о том, что она сошлась с этим странным типом, чья опера с таким успехом шла пару лет назад в Ла Скала. Недурная была опера, и о неверной жене, между прочим. Маркиз даже видел его тогда, в театре – рослый малый, и маска заметная, но вообще – красота небольшая. Интересно, что маркиза нашла в нем? Но что-то нашла – малышка Джен увлеклась, видимо, не на шутку, если утратила бдительность. Говорят, они делят дом. Ну если не постоянно, то иногда. Вместе выезжают – в тех случаях, конечно, когда этот «маэстро» вообще показывает нос на людях. Если, конечно, у него есть нос – чтото неясно, с чего бы это нормальный человек стал носить маску… Говорят, что пару недель назад, на репетиции в Опере, она вдруг потеряла сознание. Может быть, Витторио обольщается. Может быть, выдает желаемое за действительное. Но вывод напрашивается сам собой. И если он прав, то шлюшка оказалась, наконец, в его власти. Он в любом случае выигрывает. Он может заявить права и на нее, и на ублюдка – она не рискнет своей репутацией, если хочет еще хоть в одном театре в жизни спеть. И тогда он получит ее – и деньги ее папаши. Если она рискнет и признает свой блуд – что ж, пусть не рассчитывает, что маркиз в гневе прогонит ее. О нет, великодушный муж ее простит. Примет в распростертые объятия. И снова получит ее – и деньги. А уж если она будет умолять отпустить ее – он получит хотя бы деньги. И, конечно, сладкую память о том, что она, гордая шлюха, валялась у него в ногах, целовала сапоги, ломала руки, прижимала их к груди – к этой своей бледной груди, которую хочется укусить, такая она нежная… О, будьте уверены – перед тем, как согласиться хоть на что-нибудь, он заставит ее просить хорошенько. Ни одна женщина не оскорбляла его так, как жена. И ни одна так не волновала. Сука. Вопрос только в том, как лучше всего поступить теперь. Можно просто ждать, пока она не приползет к нему. Но вдруг этого не случится? Вдруг она, или этот ее музыкант придумают что-то… Хотя что? Но все равно – ждать невозможно, да у него и нет времени. Ему нужны, черт подери, деньги! Написать ей? Приехать самому в Париж? Это было бы лучше всего: хороший получился бы сюрприз. Но он не уверен, что сможет вот так просто покинуть свой дом – что это безопасно. Черт. Черт. Черт. Как же сложна жизнь! Почему именно на него должны сваливаться все эти проблемы? С пьяным вздохом Фраскатти встает из-за стола – ему нужно поднять укатившийся штопор. В ночной тишине – никаких звуков, кроме цикад, – шаги его гулко отдаются в пустой комнате. Находит штопор, и с приятным уху хлопком открывает бутылку. Пьет прямо из горлышка – первый глоток всегда так сладок… Хорошая ночь. Ночь надежд – его надежд, ему под стать, непростая: тихая и лунная, но обещающая утренний туман. Он улыбается, и в этот момент слышит непривычный звук – собачий лай. Его черный дог, Ахилл, бегает где-то в саду, и обычно молчит, и налетает на непрошенных гостей тихо, как призрак. Что могло случиться, чтобы Ахилл подал голос? Собака сразу почти замолкает, но Витторио выходит на террасу, и смотрит вниз, в темноту сада. По сравнению с белизной лунных бликов тени кажутся вовсе черными, ничего не разглядишь. Но маркизу все же кажется, что он видит что-то под кронами олив… Нет, показалось. А может, это был Ахилл, который вернулся к своей молчаливой пробежке. Не стоит волноваться. Наверное, он просто кролика почуял – глупая псина, на человека нападает молча, а вот зверьки вызывают у него щенячий восторг. Маркиз Фраскатти еще раз отпивает из бутылки, и делает шаг назад, в кабинет. Ему кажется, что тут совсем темно – на секунду он пугается собственной тени, которая тянется, гротескная и длинная, от балконных дверей до самого письменного стола. Кресло, из которого он встал недавно, стоит под неправильным каким-то углом – видно, он пьян сильнее, чем думал, если так лихо отодвинул кресло и даже не заметил этого. Что-то у него с глазами сегодня – всюду ему мерещится движение: вот теперь почудилось, что шевельнулась тьма, сгустившаяся возле книжных шкафов позади стола. Надо, все-таки, свечу зажечь – иначе он до икоты так навглядывается в тень, которая будто движется… Отделяется от высоких полок с тиснеными кожаными переплетами… Превращается в фигуру человека – огромного, на голову выше Витторио мужчину, одетого в черное, совсем, без единого светлого пятна – даже рубашка у него черная. Человек стоит, не шевелясь и не произнося ни слова. Даже лицо у него черное – его скрывает маска. Маркиз делает шаг назад, спотыкаясь о собственное кресло. Лихорадочно оглядывается через плечо: позади только терраса, и делать ему нечего – прыгать с нее слишком высоко. Как это могло произойти? Как Ахилл пропустил этого монстра? И не все ли равно теперь – нужно же что-то сделать, как-то бороться, а у него ничего нет под руками, кроме бутылки… Но бутылка слишком очевидна: что бы маркиз не попытался теперь сделать, посетитель успеет это заметить, и нанести свой удар первым. И все же Фраскатти поднимает бутылку. В ответ на губах незнакомца появляется легкая ироническая усмешка. Почему-то эта усмешка яснее любой угрозы говорит маркизу – это конец. Он ничего не может сделать. Бороться бесполезно. Его прошибает холодный пот, и он произносит – в тишине и темноте его голос звучит как-то странно, словно чужой, словно со стороны: - Нет. Пожалуйста. Вы не понимаете... Я все улажу! Очень скоро. Клянусь. Я все улажу. Пожалуйста… Человек в маске снова улыбается, холодно и почти даже любезно, и качает головой – едва заметно. Маркиз бросается вперед, замахнувшись своей бутылкой. Черный незнакомец делает шаг в сторону, не торопясь, будто устало, и поворачивается чуть-чуть. Одно движение, неуловимое, как бросок кобры, и вот уже он крепко держит Фраскатти, который бьется и глупо всхлипывает, слишком пьяный и испуганный, чтобы бороться. Одной рукой убийца заломил маркизу руку, другой сжимает сзади его шею. Руки его затянуты в черные перчатки. Секунду Фраскатти чувствует у своей щеки, у своего уха ровное дыхание убийцы – короткая схватка не заставила его даже запыхаться. А потом он уже ничего не чувствует, потому что в руке человека в маске оказывается короткий нож: медленно, движением почти ласковым он проводит лезвием по горлу маркиза, и вот уже вместо всхлипов в ночи слышится только короткий, на хлопок похожий звук, с которым вырываются из перерезанной трахеи воздух и кровь. Убийца неторопливо опускает тело маркиза Витторио Фраскатти на пол, брезгливо отирает лезвие ножа о рубашку жертвы. Голая грудь трупа залита кровью, она все еще течет и уже на полу смешивается с лужей вина, пролившегося из уроненной маркизом бутылки. Человек в маске ступает осторожно, чтобы не замарать в неприятной смеси сапоги. После этого он выходит из комнаты. Лунные блики перемещаются по полу и отражаются в широко раскрытых глазах мертвеца. Черная лужа крови, смешанной с вином, сияет в неверном свете, как странной формы зеркало. С тела на пол бежит, постепенно затихая, серебряная струйка. По-своему это очень красивое зрелище. В темном саду скулит собака. Глава 20. Одиночество. Париж, июль 1885 года До какой степени отупения нужно дойти, чтобы сидеть постоянно в спальне, грызть печенье и заплетать в косички бахрому на шторе? За окном дождь, деревья утопают в слезах, и давно уже отцвели розы. Если приоткрыть раму, можно почувствовать запах мокрой листвы, и земли, и в лицо бросается мелкая водяная пыль – это капли, падая с карниза, разбиваются о подоконник. Сквозь высокую траву пробирается осторожный рыжий кот. Не бродячий, нет – Джен знает его, он приходит из соседнего дома. У нее сад более запущенный, коту интереснее здесь охотиться. Джен сидит, опустив локти на подоконник и уперев виски на ладони, и неотрывно смотрит сад. Она ужасно устала, и зла на себя, и не знает, что делать и даже – что думать. Она замужем, беременна от любовника, который уехал неизвестно куда. И чем заняты ее мысли? Котом! Ну можно ли быть такой дурой?.. Нельзя. Она и не такая. Глядя на то, как стремительно бегут вниз по стеклу водяные струйки, Джен честно говорит сама себе: она плетет косички из бахромы и размышляет о соседском коте только для того, чтобы не думать об Эрике. Потому что думать о нем слишком больно. И слишком страшно. Он уехал две недели назад – сказал, что неожиданные дела вызвали его в Баварию. Остается только догадываться, что за дела такие могут быть у композитора в Баварии теперь, когда Людвиг II Безумный умер, привив своему народу стойкую аллергию к опере. Недели после их объяснения, когда она сказала ему о ребенке и о браке с Витторио, прошли мучительно. Эрик изо всех сил делал вид, что ничего не изменилось – что они по-прежнему вместе, и все остальное не особенно важно. Но она видела – на душе у него неспокойно. Иногда он смотрел на нее так тоскливо, так сумрачно. Джен знала, в чем дело. Он не мог простить ей вранья. Она обманула его. Узурпировала его право на страдания и тайны. О да, у него были и проблемы, и секреты. Но они были в прошлом. Ее тайна грозила разрушить их настоящее и будущее. И она еще попрекала его скрытностью – спрашивала, есть ли у него секреты, которыми ему следует поделиться… Он крепился долго, и не упрекал ее ни словом. Но в конце концов уехал. Конечно, он обещал вернуться. И Джен уверена была, что он вернется – несмотря даже на то, что перед отъездом он перевел на ее имя все свое немалое состояние. Напрасно она убеждала его, что ей не нужны деньги – как бы все не обернулось, отец и братья не оставят ее. Эрик посмотрел на нее, как на сумасшедшую, и спросил – неужели она воображает, что он допустит, чтобы ее семья заботилась о его ребенке? Он словно помешался на этом ребенке! Сама Джен, кажется, отступила для него на второй план. Он ни разу больше, после тех своих рыданий у ее ног, не говорил о том, что дитя, возможно, будет… похоже на него. Но Джен чувствовала, что эта мысль висит между ними, как осязаемая преграда. Она не знала, как заговорить об этом. И не знала, что сказать. Лицо Эрика не имело для нее значения – действительно не имело. И легко было бы заявить, что и лицо ребенка значения иметь не будет. Но она знала – в глубине души точно знала – что это не так. Это имело значение. Огромное значение. Одно дело – любить взрослого человека, мужчину, который покорил тебя своим талантом, своей силой… Своей грацией. Совсем другое – представлять себе крошечное, невинное, беззащитное существо, на личике которого лежит печать, которая отравит всю его жизнь. Потому что нельзя ведь надеяться, что люди вокруг станут вдруг добрыми и понимающими. Они травили ее возлюбленного – всю его жизнь. Они станут травить и его ребенка. Эрик никогда не простит себя, если это случится. Она не хотела, чтобы так было. Она не хотела, чтобы ее ребенок был похож на отца. И ей было стыдно перед Эриком за эти мысли. Они означали, что она не любит его так, как должна. Не принимает целиком таким, какой он есть… Или это означает, всего-навсего, что она обычная женщина, в которой проснулся материнский инстинкт, и теперь счастье и благополучие ребенка для нее важнее, чем мужчина, который зачал его? На глазах Джен появляются злые слезы. Все должно было быть по-другому! Не так. Она ждет ребенка от мужчины, которого любит. В их жизни не должно быть столько горя. Она не должна сидеть теперь одна, вытирая слезы. Они должны быть вместе – далеко от людских глаз, где ее муж не узнает, что происходит, где они смогут вместе победить боль и страх. Или хотя бы попытаться. Самое обидное, что ей просто ужасно его не хватает. Ей одиноко – она скучает, скучает, ей просто хочется чувствовать спиной его широкую грудь, и сильные руки на плечах, и поцелуй в висок, а потом еще один, в скулу, а потом чтобы он развернул ее к себе, и поцеловал в губы. Эрик должен быть рядом. Она не должна бояться еще и за него. А теперь ей страшно – так, что в горле пересыхает. Он уехал такой тихий и молчаливый, и он так неловко оставил ей деньги – словно прощался навсегда. И не потому, что собирался покинуть ее: не ее, так ребенка он точно не покинет. Потому, что готовился – с ним может что-то случится. Еще вчера она не задумывалась как следует о том, куда он уехал и зачем. Она твердо решила доверять ему. Как страус, в самом деле. Но не зря сказано в Писании – умножая знания, умножаешь скорбь. Вчера, на репетиции, случайная фраза, оброненная этим симпатягой Убальдо Пьянджи, раскрыла ей глаза, и заставила похолодеть от ужаса. Они разбирали ноты к концерту, предстоящему им через неделю, и наткнулись на симпатичную неаполитанскую песню. У Пьянджи глаза загорелись – он тут же стал с энтузиазмом рассказывать о своем родном городе, и спросил, бывала ли там Джен. Солгать было бы неловко и странно, и она ответила, что да – очень давно, и недолго, и увы – впечатления у нее были смешанные. Пьянджи ответил, что ему очень жаль – на его взгляд, это самый дивный город Италии, солнечный и открытый, куда лучше гнилой Венеции, суетного Рима, скучной маленькой Флоренции и буржуазного Милана. И он уверен, что и маэстро де Санном будет такого же мнения, когда вернется оттуда. Наверняка так – он расспросил тенора о городе, и Убальдо назвал ему все лучшие места. Нотные листы выпали из пальцев Джен, и в глазах у нее потемнело. Эрик уехал в Неаполь. Туда, где живет ее муж. Человек, который может отнять у него Джен – и их ребенка. Бог знает, что для Эрика более важно… Следующее, что осознала Джен, были жесткие доски пола под нее спиной, и невообразимо высокие колосники над ней, и склоненные озабоченные лица мсье Рейе и Карлотты. Оказывается, она потеряла сознание – упала прямо на сцене. Так глупо. Так неосторожно… Сколько она не убеждала всех, что просто перетянула корсет, и что это минутная слабость, мсье Рейе не становился менее сердитым, а у Карлотты не сходило с лица задумчивое выражение. Она так выразительно приподняла одну бровь… Наверняка она обо всем догадалась. Только дурак может верить, что в театре можно долго скрывать что-то настолько серьезное, как роман с Эриком или его последствия. А Джен, может быть, и вела себя глупо, но не была ведь на самом деле дурой. Не случайно же мсье Рейе настоял, что Джен надо немного отдохнуть. Именно поэтому она сегодня сидит дома, слушая шум дождя и борясь с тошнотой, причина которой вовсе не ее состояние, а страх, страх, страх. За время, прошедшее с разговора с Маргерит Кастелло-Барбезак, Джен успела еще многое выяснить о Призраке Оперы. Она почитала газеты трехлетней давности, полные слухов, и сплетен, и страшных рассказов. Посмотрела на мутный дагерротип, изображающий Кристину де Шаньи, урожденную Даэ. Газетные отчеты говорили об уродстве Эрика в истерическом тоне – по тому, насколько они преувеличивали этот вопрос, можно было судить о том, как сильно приукрашены другие события. С трудом верилось, что любовник ее успел побывать архитектором и наемным убийцей персидского шаха, и напичкать подвал Оперы хитрыми ловушками вроде каменных мешков и люков, и что на счету его десятки жертв. Но жертвы у него были – с изумлением, сопоставив факты, Джен поняла, что среди них едва не оказался Пьянджи. Интересно, что сказал ему Эрик, если теперь они так мирно встречались и со взаимной любезностью обсуждали красоты Неаполя. Красоты Неаполя, боже мой! Она знает, зачем Эрик поехал туда. Знает, и не хочет знать, и не хочет думать об этом. Он не должен был молчать. Им нужно было поговорить, найти какой-нибудь выход. Она должна была догадаться, и остановить его. Это не нужно, не стоит того – ничто на свете не стоит того, что он задумал. Он знал в жизни только боль, только тьму. И теперь они поглотят его снова. А она не помогла ему. Наоборот – не будь ее, не было бы с ним ничего плохого. Он сказал, что ее голос, ее пение спасли ему когда-то жизнь. Эти слова заставили Джен поверить, что Эрик и правда любит ее – именно потому, что говорил он о своем чувстве, как о музыке. Для него ничего важнее музыки нет – значит, нет и сильнее, подлиннее чувства. Она верила ему, когда он сказал это, и гордилась собой. Она спасла его... Помогла ему выжить. А теперь она его погубила. Джен давно уже не молилась по-настоящему – с тех пор, на самом деле, как покинула мужа. Но она хорошо помнит маленькую часовню в отцовском имении – она не в доме была устроена, а в саду, и к ней нужно было идти по узкой тропинке, перепрыгивая с камней на мшистые кочки, среди цветущих нарциссов, под сплетенными ветвями деревьев, сквозь которые пробиваются веселые солнечные пятна. В часовне стояла статуэтка Мадонны, она выглядела такой тихой и грустной, и Джен всегда казалось, что она похожа на маму – маму, которой она не знала, видела только на красивом портрете в холле, потому что мама была слаба здоровьем, и четвертые роды убили ее. Джен не помнит правильных слов молитвы. Дева Мария, Богоматерь смиренная, благословенна ты между женами… Молись за нас… Молись… Не все ли равно, какими словами говорить с небом? Дева Мария, помоги мне – ты мать, которая знала, как тяжела будет участь твоего ребенка. Помоги моему ребенку. Помоги его отцу.... Спаси его. Сделай так, чтобы не нужно было выбирать, чтобы неправдой был худший страх… Спаси его душу, и его тело, и верни его в мои объятия, потому что вся его жизнь – страдание, и не может быть, чтобы Сын твой был так жесток. Мы грешны… Грешны. Заступись за нас. За меня. За него. За наше дитя… Девушка со стоном закрывает лицо руками. Губы ее беззвучно шевелятся – она снова и снова посылает в темноту слова, которым никогда не будет ответа. За окном совсем стемнело, и не видно больше ни темной от дождя зелени, ни лужицы на садовой дорожке, ни кота, который так хорошо отвлекал ее тяжелых мыслей. Глава 21. О преимуществах нерешительности. Неаполь, июль 1885 года В лунном свете фасад виллы «Клелия» выглядит, как банальный задник к какой-нибудь бестолковой итальянской опере вроде «Немой из Портичи». Облупленная штукатурная стена, на самом деле розовая, сейчас кажется синюшной, как дохлые осьминоги, которых продают рыбаки на набережной. Узкие окна закрывают горизонтальные жалюзи; открыты только стеклянные двери, ведущие на нелепый маленький балкон. Нижний этаж виллы утопает в зелени: дикий виноград грозит расползтись по всему фасаду. По обеим сторонам дома стоят черные веретена кипарисов. Внизу, под балконом, серебрятся кроны олив. Эрик наблюдает эту картину уже седьмую ночь подряд – за это время изменился, согласно законам астрономии, только характер лунного освещения. Распорядок жизни на вилле маркиза Фраскатти течет, как заведенный: каждый вечер слуги потихоньку сбегают из дому, оставляя хозяина напиваться в одиночестве, и маркиз проводит ночи в компании гигантского дога, который бесшумно рыщет по саду. Первый день Эрик вел наблюдение из остерии на углу улицы, но потом решил не рисковать лишний раз, привлекая к себе внимание – все-таки человек, прячущий лицо в глубине капюшона, посреди солнечного Неаполя выглядит странно. Кроме того, даже одного вечера было достаточно, чтобы понять – особая осмотрительность не нужна, с виллы маркиза никто его не заметит. Поэтому Эрик перебрался в укрытие в роще прямо напротив виллы. Потом – к ее задворкам, примыкавшим к пологому холму. Там он и познакомился с Ахиллом. Огромный черный пес оказался милейшим созданием: ему и в голову не пришло кидаться на Эрика – животное было слишком умно, чтобы нападать, не разобравшись. Несколько минут он изучал высокую фигуру в черном, возникшую из ночных теней, молча, даже не рыча. Эрик не двигался – коротко посмотрел собаке в глаза и отвел взгляд. Он хорошо помнил, как вели себя с собаками цыгане – не умея заговаривать животных, конокрадом не станешь, и Эрик знал, что главное – спокойствие, симпатия, и уверенность в себе. Ахилл это оценил: присмотревшись к властному незнакомому человеку, он приветливо махнул хвостом и сделал шаг вперед. Пес был, к тому же, гурманом: истинная дружба между ними возникла, когда человек принес из остерии кусок пармской ветчины. После этого Эрик мог ходить по саду маркиза, как по своему собственному. И все же он, уже седьмую ночь, не входит в дом, предпочитая наблюдать за ним из-под оливковых деревьев с внутренней стороны ограды. Почему он медлит? Чего ждет? Ему самому трудно ответить на эти вопросы. Он не чувствует к Витторио Фраскатти настоящей ненависти. Маркиз глуп, и жалок в своем постоянном пьянстве, и безобиден. Его единственной виной была женитьба на женщине, которая нужна Эрику. Наверное, стой они лицом к лицу, будь настоящими соперниками, Эрику было бы легче атаковать. Но вот так – просто войти в дом, с холодной головой, подкормив собаку… Это грязно. Это ниже его достоинства. Это… неправильно. Эрик убивал прежде – он убил своего хозяина в цирке, и он убил Буке. И оба раза действия его были продиктованы не расчетом, не равнодушием к чужой жизни… Он убил цыгана, спасая свою жизнь: корчась там, на полу клетки, он вдруг отчетливо понял, что этот раз – последний. Следующего избиения он уже не вынесет. Он был прав, как оказалось – сидя с ним в подвале Оперы, Антуанетта Дюваль, будущая мадам Жири, ощупала его худые бока и сказала, что у него сломаны ребра. Она в этом разбиралась, в балетном классе им рассказывали о травмах. Он знал так же, что у него отбиты почки – не для ушей маленькой балерины это были сведения, но еще много недель после побега он замечал в своей моче кровь. Буке он убил… случайно. Слов нет, проклятый проныра давно раздражал его, своими шуточками, своим любопытством, своими сальностями по поводу балерин. В тот вечер чаша терпения Эрика переполнилась – он собрался как следует припугнуть кретина. Весело гонял его по колосникам, раскачивая мостки и с наслаждением наблюдая, как кривится от ужаса лицо Буке. Поймал его, и придушил – усмехаясь, и уже раскрыл рот, собираясь внушительно предупредить, чтоб оставил его в покое, и отпустить. И вдруг увидел, что предупреждать уже некого – лицо Буке побагровело, он перестал дышать. Эрик не рассчитал силы – рабочий умер слишком быстро... Эрик сам не знал, зачем сбросил тело на сцену. Слово «растерялся» звучало глупо и по-детски даже для его собственных ушей. Да, он убивал. Но он никогда раньше не планировал убийства – не готовился к нему, не собирался сознательно лишить жизни человеческое существо. Он мог бы, наверное, вызывать маркиза на дуэль. Но это немедленно привлекло бы внимание к Джен – а этого Эрик хотел избежать любой ценой. Кроме того, никто не мог гарантировать Эрику победу в поединке – единственная, спонтанная и глупая схватка в его жизни закончилась отнюдь не в его пользу. А Эрик нынче был не в том положении, чтобы рисковать – он был нужен Джен. Он был нужен их ребенку. Он не мог вот так просто взять – и погибнуть, ничего для них не сделав. Каждый раз думая об этом, Эрик изумленно и недоверчиво качает головой. Это все еще за гранью его понимания. Он нужен кому-то – на самом деле, без всяких условий, без уговоров и сомнений, он, человек, нужен. Женщине. Ребенку. Своей женщине и своему ребенку. Своей семье. Невероятно… Значит, он должен сделать то… что должен. Хватит уже сидеть на влажной от росы траве у мшистой каменной стены. Нужно идти в дом. Нужно покончить с этим. У него нет выбора. Может быть, небеса будут к нему милосердны. Может быть, он сможет простить себе то, что сделает – если все время будет напоминать себе, зачем он идет на это. Ради любви. Своей любви, и ее. Он никогда не сделал бы этого ради себя. Но он готов сделать это для женщины, которую считает частью себя. Ему остается только надеяться, что цена будет не слишком высока. Что это убийство не отравит ему то, ради чего совершается. Он знает, что отравит – знает, что мир его никогда больше не будет прежним. Но он надеется. В который уж раз надеется. Человек ничему не учится, и он в том числе. Эрик поднимается на ноги. Странно, но когда он планировал и совершал свои театральные эскапады, им владело какое-то нездоровое, веселое возбуждение: сердце билось быстрее, по коже пробегали мурашки, в теле была легкость. Он не мог сдержать ухмылки, оставляя свои записки, дразня виконта, пугая директоров, водя за нос встревоженную происходящим мадам Жири. Где теперь эта легкость, это веселье? Каждый шаг дается ему так тяжело, словно ноги сделаны из чугуна. Неожиданно он слышит в глубине сада лай Ахилла. Что-то встревожило его дружка… Обычно он не подает голоса. Эрик бесшумно движется между деревьями, подходя ближе к дому. Он одет в черное, и со стороны кажется, что это просто скользят по траве тени ветвей. Маркиз Фраскатти выходит на террасу и смотрит вниз. Он слегка пошатывается – он опять пьян. Эрик оказался уже возле входа в дом – он присмотрел для себя боковую дверь, оттуда хозяйственная лестница ведет прямо в бельевую возле спальни Фраскатти. Дверь эта теперь стоит приоткрытой – замок на ней сбит. Это странно. Еще час назад с замком все было в порядке. И тут Эрик слышит новый звук – звук, который заставляет его вздрогнуть от гнева. Жалобно, обиженно, заходясь от боли скулит собака. Эрик делает шаг в сторону. Так и есть: на гравийной дорожке, среди кадок с апельсиновыми деревьями лежит Ахилл. Черный пес тяжело дышит. В свете луны Эрик видит, что бок у него влажный – по нему течет струйка крови. Он склоняется над догом: Ахилл свесил язык на сторону, его лапы мелко дрожат от боли, он косится на Эрика налитым кровью черным глазом и скулит, скулит, с каждой секундой все жалобнее и слабее. Он умирает, бедный пес. В саду есть кто-то еще, кроме Эрика – чужак, который, чтобы поникнуть в дом, не нашел ничего лучше, чем пырнуть стилетом в бок хорошего пса. Эрик разберется с этим позже – сейчас у него есть дело. Он достает из сапога нож, и ласково треплет Ахилла по холке. Дог лижет его ладонь. Очень быстро, одним коротким движением Эрик перерезает ему глотку. Скулеж и хрипы разом прекращаются – пес больше не дышит. Эрик поднимается с колен и смотрит на дом. Из приоткрытой боковой двери, той что со сбитым замком, выходит человек – и замирает, увидев Эрика. Обоим им прятаться бесполезно – луна светит слишком ярко. Они похожи, как близнецы: высокие, черные фигуры в масках. Человек у стены коротко и, кажется, дружелюбно кивает Эрику. Ему следовало бы догадаться. Понять раньше, чем все это кончится. Эрик вспоминает странную встречу, которая произошла у него в таверне в районе порта на второй день по приезде в город. Ему нужна была помощь – он не мог просто ходить по Неаполю, расспрашивая людей, где найти маркиза Фраскатти. И он попросил о помощи – единственного неаполитанца, которого знал, Убальдо Пьянджи. Тенор был очень любезен – он уверил Эрика, что его старший брат, Арканджело, сможет ему помочь. Дон Арканджело Пьянджи прочитал письмо от брата и выслушал Эрика внимательно, сидя за столом в задней комнатке таверны. За его спиной маячили два молодца, в присутствии которых даже Эрику было неуютно. Потом он спросил, очень мягко, просто желая уточнить факты: - Я так понимаю, маэстро, что вам нужно найти и убить мужа вашей… эээ… подруги? Эрик объяснил, мучительно краснея под маской, что не видит иного выхода. Она не может больше оставаться женой маркиза – он достаточно тянул с ее семьи деньги, больше этого не будет, и обстоятельства изменились… Арканджело Пьянджи поднял одну бровь – странным образом лицо его, такое же круглое и симпатичное, как у Убальдо, не производило мирного впечатления: - Денег не будет, вот как?.. – Он сделал короткую паузу и бросил короткий взгляд на парней позади себя. – Маркиз уверял меня в обратном. Он говорил, что у него есть способ добиться щедрости от семьи жены. Эрик сказал холодно: - У него есть способ добиться только того, что я его задушу. Пьянджи-старший усмехнулся и хлопнул ладонью по столу: - Мне нравится ваша решимость, маэстро! Вы уверены, что в вас нет итальянской крови?.. Намерения ваши благородны, и я склонен помочь вам. Но в обмен вы должны кое-что мне обещать. Эрик смотрел на него с вопросом. Дон выразительно провел рукой по шее: - Мой брат, Убальдо… То, что он прислал вас сюда, значит, что он не держит зла. Но я не хотел бы, чтобы с ним хоть что-то случилось в театре, где вы заправляете. Эрик пребывал в искреннем замешательстве – дон Арканджело, похоже, полагал положение Призрака в Опере, прошлое или настоящее, похожим на его собственное – в Неаполе… Возможно, впрочем, что дон был не так уж далек от истины. Эрик улыбнулся: - Я сделаю все, что смогу. Больше того – я гарантирую, что в любой опере, которую я напишу, найдется партия для него и для его прелестной супруги. Арканджело закатил глаза: - А, Карлотта! Женщины… У них у всех есть недостатки, но Убальдо любит ее, а я люблю своего племянника Гвидо… Мы договорились с вами, маэстро. Эрик вышел в тот вечер из таверны, твердя про себя адрес виллы «Клелия». Это была полезная информация – маркиз от кого-то прятался уже несколько месяцев, и снимал эту виллу, оставив семейное поместье. Найти его самому Эрику было бы нелегко. Можно было догадаться, что скрывался он от Арканджело Пьянджи и парней у него за спиной. От людей, которым был давно и безнадежно должен денег. Они знали, где найти маркиза – но ждали, что он расплатится, потому что он сказал, что сможет добыть денег у опозоренной жены. Одной случайной фразой Эрик опроверг слова маркиза, и решил его судьбу. Эрик был уверен, что в фигуре у стены виллы есть что-то знакомое. Это был, кажется, левый громила – его звали Луиджи. Эрику еще предстоит разобраться со своей совестью и понять – случайно или нет он обмолвился дону Пьянджи относительно денег? Только ли нежелание хладнокровно убивать заставило его ждать так долго, прежде чем нанести удар самому? И не убил ли он маркиза своими словами так же верно, как мог убить своими руками? И что разрушительнее для души – хладнокровное убийство или невольное предательство? Сейчас он знает только одно, и это знание заставляет колени подгибаться от слабости, от глупой радости: он опоздал. Фраскатти мертв, но убил его не он. Ему удалось проскользнуть в щель между жертвой и проклятием, получить то, без чего он не сможет жить дальше – и не упасть в бездну. Не окончательно. Не на самое дно. Оттуда, где он сейчас, еще можно выбраться – если очень хотеть этого. Может быть, таким странным, сомнительным способом Господь решил улыбнуться Эрику – показать, что Он, первый раз в жизни, все-таки на его стороне? Человек в черном – это точно Луиджи, второй был пониже ростом, – подходит к Эрику и коротко кивает в сторону мертвой собаки: - Некрасиво получилось. Мне жаль – хороший был пес. Эрик молчит. Потерявшись между гневом, облегчением и досадой, он не знает, что сказать. Он сам словно пес, у которого из-под носа вытащили косточку – не дали совершить то, к чему он готовился и с чем смирился.. Только вот, в отличие от пса, он знал, что косточкой этой должен был подавиться. Убийца переводит взгляд на фасад дома: - Он мертв. Можете проверить, если хотите, но нужды в этом нет. – Он улыбается. – Извините, что перебежал вам дорогу. Дон Арканджело не мог больше ждать... Пойдемте отсюда: скоро вернутся слуги, и дону совсем не понравится, если нас здесь застанут. Двое мужчин молча выходят из сада через заднюю калитку. Светает. С гор спускается туман, заполняя узкую каменистую улицу и встречаясь на пол-пути с туманом, который поднимается с моря. До угла улицы две черные фигуры идут вместе, а потом разделяются и уже поодиночке тонут в серой мгле пасмурного утра. Глава 22. Партия тенора. Париж, июль 1885 года В вечер премьеры “Синего чудовища” в Опере царил полнейший беспорядок, вызванный внезапным недомоганием Марселя Тардье – и тем, что дублер его пожелал остаться неизвестным. Всего несколько человек знали, кто именно вышел на сцену, скрытый страшной рогатой маской – удивительно, но для большинства труппы, рабочих, хористов и балетных выступление де Саннома было такой же загадкой, как и для публики. Убальдо Пьянджи был как раз среди тех, кто не знал всех обстоятельств. Скажи ему кто, что в этот вечер на сцену с ним снова поднимется Призрак, он бы, наверное, тоже сделал вид, что заболел – слишком сильны были неприятные воспоминания. Пусть в данном случае у фантома не было никаких видов на партию царя-маразматика – Пьянджи все равно было бы не по себе. Он не то чтобы все еще боялся Эрика – маэстро был ровен и дружелюбен с тенором; но симпатии итальянец к нему не испытывал. Погруженный в счастливое неведение, Убальдо шел по коридору с улыбкой, раскланиваясь с коллегами и со всеми обмениваясь шутливыми и суеверными пожеланиями провала. Единственным, с кем Пьянджи не перемолвился и словом, был Тардье и, оказавшись у двери его гримерной, бывший премьер Оперы счел своим долгом заглянуть и подбодрить премьера нынешнего. За дверью Тардье царила странная тишина – не желая нарушать ее, Пьянджи отворил дверь неслышно, и заглянул внутрь осторожно. Тардье – по крайней мере, Убальдо подумал, что это он – стоял напротив зеркала, пристально глядя на себя в темное стекло, и наносил на лицо грим. Он уже был одет в блестящее синее трико, положенное ему по роли, и пожилой тенор завистливо вздохнул, в очередной раз отметив, какая прекрасная у молодого человека фигура. Маска-шлем, которую должно было носить Чудовище, лежала на гримировальном столике. Но лицо, которое отражалось в зеркале, было страшнее всякой маски, какую только можно себе представить. Секунду Пьянджи стоял, искренне недоумевая, когда же замысел постановки успел измениться и синюю маску Дзелу заменили на этот грим, гротескную личину, симметрично поделенную на две половины: по сравнению с красивой стороной уродливая – красная и пересеченная шрамами – кажется еще ужаснее. И ровно секунды хватило Пьянджи на то, чтобы понять: красивая часть лица в зеркале принадлежит не Тардье. А та, другая половина – не грим… Очень осторожно, стараясь не издать ни единого звука, Убальдо закрыл дверь и, оставшись в коридоре один, прислонился к стене, судорожно переводя дыхание. Он не видел раньше Призрака без маски – в момент его знаменитого разоблачения тенор, как известно, лежал без сознания за сценой. Конечно, потом дорогая Карлотта во всех подробностях (и не один раз) описывала мужу страшное чудовище, которое его придушило. Но в глубине души Убальдо всегда считал, что его дражайшая супруга преувеличивает – Карлотте свойственно было иногда увлекаться метафорами. Сегодня он убедился, что в тут чувство меры не изменило Карлотте ни на йоту. Это действительно был монстр. Il mostro… Beato. Чудовище. Зверь. И все-таки это был человек – человек, которого Убальдо за последние недели успел неплохо узнать. Человек, который любезно беседовал с ним и с мсье Рейе, отпускал комплименты Карлотте, даже сказал что-то лестное о малыше Гвидо, когда тот вместе с нянькой пришел на репетицию. Он саркастически шутил, давал дельные советы по поводу происходящего на сцене и влюбленно заглядывался на примадонну, мадмуазель Андерсон. Композитор, который написал великолепную оперу – достоинства «Синего чудовища» были очевидны даже Пьянджи, который в принципе предпочитал музыку более традиционную. Тенор представил себе вдруг очень ясно – каково это: жить с таким лицом, что людям кажется, будто ты в театральном гриме. Представил вдруг, без всякой логики, просто с паническим ужасом, без которого не обходится ни один родитель, что с таким лицом приходится жить Гвидо. Итальянца прошиб холодный пот, и сердце его дрогнуло от чувства, которое он и не думал когда-нибудь испытать к Призраку Оперы. От сострадания. Убальдо Пьянджи прошелся по театру, убедился, что Марсель Тардье жив и здоров, и не лежит где-нибудь с петлей на шее, и предупредил тихонько Карлотту о том, что сегодня на сцене появится их старый знакомый. Им появление Призрака было безразлично – их персонажи встречались с Чудовищем только в самом конце, перед несостоявшейся казнью. Но, стоя в кулисах и наблюдая любовные сцены между Дзелу и Дардане, Пьянджи невольно в волнении прижимал пухлые ручки к бешено бьющемуся сердцу. Раб своего музыкального дарования и южного темперамента, Пьянджи был очень сентиментален. Он слушал прекрасную музыку, которая еще глубже становилась в исполнении необычного автора, он следил за тем, как автор этот так отчаянно выставляет себя дураком, на сцене объясняясь в любви женщине, которая скорее всего отвергнет его, если увидит без маски. Представлял себе, каково все это было годы назад, когда на этой же сцене разыгрывалось нечто похожее. Убальдо жалко было бедного мсье де Саннома – едва ли не до слез, и когда в финале оперы мадмуазель Андерсон неожиданно поцеловала его, Пьянджи едва не захлопал в ладоши от радости. Это была настоящая «опера спасения» – пока шло действия, можно было умереть от тревоги за героев. Неожиданный счастливый финал был… неожиданным. С этого вечера Пьянджи никогда уже не относился к Призраку, как прежде. Он перестал бояться его. Он утратил свою неприязнь. Ему хотелось бы как-то помочь ему. Когда-то обширное семейство Пьянджи взяло на себя заботу о сиротах, оставшихся от дальнего родственника из Пармы, и маленький Убальдо все время таскал конфеты младшему из детей, хромому Винченцо. Винченцо нисколько не ценил заботы и все время огрызался, но Убальдо только хлопал его по плечу – и совал, совал к карман леденцы, потому что знал – потом, оставшись один, Винченцо непременно достанет липкий подарок и съест его, размазывая по лицу сердитые слезы. Призрак Оперы напоминал Пьянджи его кузена Винченцо, который давно уже стал преуспевающим лавочником в Милане и особенно следил за тем, чтобы в магазине его был большой выбор леденцов. Пьянджи всегда покупал у него по фунту всех сортов, и раздавал нищим ребятишкам возле Дуомо. Тенор несказанно обрадовался, когда стало очевидно, что, в отличие от заносчивой мадмуазель Даэ, Джанет Андерсон склонна ответить на чувства маэстро де Саннома взаимностью. Он с удовольствием наблюдал, как эти двое беседуют на репетициях, как они вместе покидают потом театр, как изредка обмениваются жадными, нежно ловимыми взглядами – как когда-то они с Карлоттой. Он искренне надеялся, что у них все будет хорошо, хотя иногда задавался вопросом – как, интересно, маркиза Фраскатти собирается решить проблему со своим мужем? Потому что Пьянджи, конечно же, был в курсе того, кем на самом деле является мадмуазель Андерсон. Она принадлежала к музыкальному миру, где тенор знал всех, и она вышла замуж в Неаполе, где Пьянджи мог за лапу поздороваться с каждой собакой. Он помнил ее дебют, он помнил неприятную историю ее скоропалительного брака и бегства. Тенор знал так же и маркиза – и не мог сказать о нем ничего хорошего: дрянной человек, и плохо обращается с дамами, и не отдает долгов. Но он держал язык за зубами – к чему было портить жизнь такой приятной молодой даме, да к тому же еще великолепной певице? А потом дела у странной пары пошли хуже. Мадмуазель маркиза стала бледна, мсье де Санном молчалив, и у девушки то и дело на глаза наворачивались слезы, и как-то раз Убальдо услышал, как мсье Рейе бормочет себе под нос: «Чертов фантом! Одно дело было трепать нервы той балованной дурочке… Но он портит мне настоящую приму!» Когда они обсуждали эту тему дома, Карлотта сказала без обиняков: «Бедная дурочка беременна. Глупо! Нашла от кого». Но Пьянджи не разделял сарказма супруги – он только еще больше преисполнился сочувствия. Поэтому, когда маэстро де Санном попросил у него совета о том, как найти в Неаполе нужного человека, Пьянджи не колеблясь послал его к своему брату Арканджело. Арканджело не меньше Убальдо ценил истинную любовь. Он должен был что-то придумать. Призрак уехал, и мадмуазель Андерсон совсем загрустила. Тогда Пьянджи и обмолвился на репетиции, что беспокоиться не о чем – маэстро де Санном в Неаполе не пропадет. Только вот почему-то мадмуазель, вместо того, чтобы обрадоваться, упала в обморок, и Карлотта наградила мужа гневным шипением, и назвала его тупицей – stupido! Это было неделю назад, в середине месяца. И вот теперь, вывернув из-за угла на площадь Оперы, Пьянджи видит тревожную картину: у ступенек театра собралась небольшая толпа небрежно одетых молодых людей в мятых шляпах – по всему видно, что журналисты, вот только это не обычные музыкальные критики. Те себя так не ведут. Нет, это мальчики из отдела сплетен – и криминальных новостей. Dio, как все серьезно – у них и фотографические камеры есть, вон вспыхнул магний. Пьянджи не надо особенно гадать, кого они окружили – в кармане у него лежит утренний выпуск «Эпок» с интересными новостями. Теперь эти стервятники жаждут комментариев. Пьянджи делает несколько шагов вперед и пробирается сквозь ряды галдящих репортеров. Так и есть – это она, мадмуазель Андерсон: стоит посреди лестницы, не имея возможности подняться дальше. Она растеряна и сердита: серые глаза сверкают из-под вуали, руки в перчатках сжимают кожаную папку с нотами – она шла на репетицию, когда придурки накинулись на нее. В воздухе висит шквал вопросов – репортеры кричат, перебивая друг друга: - Мадмуазель Андерсон! - Мадам Фраскатти! - Маркиза! Ваш муж обнаружен мертвым на своей вилле в Неаполе – об этом пишут все итальянские газеты. Что вы можете сказать по этому поводу? - Вы потрясены? Опечалены? - Почему вы не жили вместе? Вы скрывали свой брак? - Говорят, что его зарезали из-за карточных долгов – это правда? - У вас нет никаких версий по поводу того, кто мог убить вашего мужа? Джанет заметно бледнеет, и закрывает на секунду глаза. Неожиданно ее локтя касается чья-то пухлая ладонь, и крики репортеров перекрывает энергичный поток брани на смеси французского и итальянского. Милый, милый Убальдо Пьянджи – бог знает, почему, но он в последнее время постоянно ей помогает. Вот и теперь, с неожиданной ловкостью лавируя среди репортеров, он во мгновение ока доводит ее до дверей Оперы и распахивает тяжелую дверь. В вестибюле театра прохладно и темно, глаза не сразу привыкают после яркого солнца на улице. Она откидывает вуаль и, не снимая перчатки, вытирает ладонью вспотевший лоб. Она не может сдержать сухого, истерического всхлипа. Если бы она знала, что ответить этим репортерам на улице!.. Если бы готова была к тому, что прочла сегодня на первой странице газеты: «Маркиз Витторио Фраскатти найдет мертвым… В саду зарезана собака… Большие долги… По словам слуг, долгое время получал угрозы… Типичный почерк наемного убийцы… Итальянские коллеги сообщают, что жена маркиза, покинувшая его несколько лет назад по неизвестным причинам, находится в Париже – более того, это никто иная, как звезда Парижской Оперы, «Королева шотландская» – мадмуазель Джанет Андерсон…» Джанет открывает глаза. Пьянджи снял шляпу и тоже, пыхтя, отирает лоб платком. Он ободряюще улыбается ей: Не обращайте внимания, carissima Джанет! Это грибы, damnazione, графы – стервятники, птицы, которые едят мертвечину. Грифы. Они скоро забудут о вас, когда найдут добычу свежее. А они найдут. Жена убитого маркиза – это уже завтра будут вчерашние новости! Если бы. Ради бога – если бы это было возможно. Вопросы журналистов звоном отдаются у нее в ушах. Правда ли, что все дело в карточных долгах? Почему вы не жили вместе? Вы не знаете, кто мог убить вашего мужа? Она не знает, что ответить им. Может быть, конечно, и в долгах. Но мы не жили вместе потому… на самом деле, потому, что я хотела быть свободной – свободной для того, чтобы когда-нибудь, на этой самой лестнице, встретить мужчину, который перевернет мою жизнь, мужчину, который может свести с ума своим глупым упрямством, своей самонадеянностью, своей силой, и своей слабостью, и своим черным пессимизмом, и своим отчаянием, и своей страстью, и наивностью, и красотой. Мы не жили вместе потому, что я любила другого. Потому что люблю теперь, и ношу его дитя… Я знаю, знаю, я знаю, кто мог убить моего мужа. Мой любовник. Боже, как ужасно, как пошло и грязно это звучит! Джен потирает пальцами виски – ужасно болит голова. Неожиданно она понимает, что уже некоторое время плачет – слезы безмолвно текут по щекам. Она неловко, по-детски вытирает нос тыльной стороной руки. - Prego… Возьмите, дорогая, – голос Пьянджи звучит очень мягко – совсем как у заботливого отца. Джанет снова поднимает на него взгляд – оказывается, он протягивает ей чистый носовой платок – похоже, у него их неограниченный запас. Джанет берет платок, и сморкается, и благодарно кивает. Пьянджи смотрит на нее несколько секунд и говорит доверительно: - Ваш муж… Я знал вашего мужа. Он был дурной человек. Вы не переживать, дорогая. Я уверен – все быть хорошо. Ничего не бояться. – Она недоверчиво качает головой, а тенор, наоборот, энергично утвердительно кивает. – Нет-нет. Я точно знаю. Ваш Эрик – он не такой дурак. Джанет невольно улыбается – в эту секунду ей даже не кажется странным, что тенор догадался о ее страхах. Пьянджи заговорщически подмигивает ей и говорит, доставая из кармана круглую жестяную коробочку с разноцветной крышкой: - Леденец? - Глава 23. Остаток дня. Париж, август 1885 года Душный вечер, сизые сумерки вползают в дом сквозь настежь распахнутые окна и садовые двери. Зелень листвы приглушена тонким слоем пыли, не слышно ни одной птицы. Рыжий кот отвлекся на время от своей охоты: он сидит на камнях дорожки, прижав уши к голове, и ждет. В воздухе разлито напряжение – наверняка будет гроза. Джен не находит себе места – она уже час бродит по дому, бесцельно переставляя вазы с цветами, перебирая ноты, то садясь к роялю, то вставая, то выходя в сад, то возвращаясь. Ей жарко, и она давно уже сняла корсет, но это не помогло – потому что дело не только в духоте, но и в том, что на душе у нее скребут кошки. С дня, когда репортеры окружили ее на лестнице, прошла неделя. Она успела уже дать интервью «Эпок» – нет лучшего способа отвязаться от журналистов, чем поговорить с ними. Добычу, которая убегает, они могут преследовать бесконечно. Но стоит выйти к ним – и они теряют интерес. Она вышла, и рассказала о девическом увлечении, о тяжелом характере мужа (об этом осторожно, чтобы не показаться дрянью), о взаимном согласии на разъезд – потому, что она хотела на сцену. О том, как мило со стороны маркиза было не препятствовать ее карьере. О том, с какой тревогой она слышала о его растущих долгах. И о том, что она конечно же ничего, совсем ничего не знает об обстоятельствах его смерти. То же самое она сказала и тихому человеку из Сюрте, который пришел к ней через пару дней и расспросил, очень вежливо, объясняя свой интерес просьбой от итальянских коллег. Он так и думал, что мадам Андерсон ничего не известно о делах мужа. Он знает так же, что ни о каком наследстве речь не идет – у маркиза не было за душой ни гроша. И он может с определенной долей уверенности сказать вдове, что смерть маркиза почти наверняка дело рук его кредиторов. И что крайне маловероятно, что убийца его будет обнаружен. Ему очень жаль, но мир игроков жесток и темен. Он выражает свои соболезнования. Конечно, визит полицейского приободрил Джанет. Но по мере того, как шло время и день проходил за днем, не принося никаких известий об Эрике, сердцем ее все сильнее овладевал холодный, липкий страх. Где он? Что делает? Почему не возвращается, не дает о себе знать? Что там в действительности случилось в Италии? На самом деле, еще совсем не поздно – едва ли пять пополудни, но из-за низких туч кажется, что уже совсем вечер. Мгла, серая мгла повсюду – и в мире, и в сердце. Джанет делает очередной круг по гостиной, и надолго застывает у дверей в сад. Скорее бы уже дождь. Скорее бы хоть что-нибудь изменилось! С тяжелым вздохом она отворачивается, наконец, от окна. И невольно вздрагивает всем телом. Он стоит у дверей – неподвижно и молчаливо, как будто и в самом деле стал привидением. Его костюм запылен; в сумеречном свечении, которое всегда бывает перед грозой, лицо кажется серым. Оно мертвее, неподвижнее его маски. У него такой усталый вид, словно он пришел из Неаполя пешком. Джанет делает шаг вперед, и всматривается в его глаза – погасшие и пустые. Как там называется эта баллада о женихе, пришедшем к возлюбленной из могилы – «Демон-любовник»? Вот как это, оказывается, бывает… Кажется, прикоснешься к его руке – и почувствуешь холод смерти. Ну и пусть. Если так – пусть. Главное – он здесь. Живой, хоть и ведет себя, как мертвец. Вернулся. Джанет быстро пересекает комнату, и припадает к его груди, уткнувшись лицом в пыльный лацкан дорожного сюртука. Ее руки сомкнулись у него за спиной, и она старается не замечать, что он не отвечает на ее объятия, и говорит – в голосе ее помимо воли звучат одновременно и радость, и бессильный гнев: - Эрик… Эрик. Где ты, черт возьми, был? Почему не поговорил со мной? Зачем надо было спешить? Что ты натворил – и зачем… Ответом Джен служит короткий, на рыдание похожий вздох. Его руки, прежде безвольно опущенные по бокам, ложатся ей на плечи. Эрик отстраняет ее от себя, и несколько секунд всматривается в глаза – словно ищет там каких-то ответов, и целует ее так отчаянно, словно в последний раз, и сжимает лицо в ладонях так крепко, что делает ей больно. А потом он прижимает ее голову к своему плечу, и говорит едва слышно – голос звучит хрипло, словно он молчал перед этим неделю: - Я не убивал его. Я хотел… Я собирался. Но я не смог. Не успел – но я не знаю, не знаю теперь, убил бы я его, если бы не опоздал. Прости меня. Прости. Я не смог… Джанет кажется, что в комнате стало светлее – она едва ли не физически чувствует, как падает с души пресловутый камень. Он не трогал Витторио – он не убивал его… Господи, как хорошо. Не стал марать руки. Не стал рисковать своей жизнью, своей свободой. Тогда почему, черт возьми, он так расстроен? Откуда это отчаяние? Она поднимает на него взгляд: - За что ты просишь прощения? Эрик закрывает глаза, словно ему больно, и отпускает ее – дает ей возможность отойти: - Я подвел тебя. - Подвел меня? Каким образом? - Я должен был сделать это… для тебя. И я думал, что сумею. Но я ничего не сделал. – Он откидывает голову, упираясь затылком в стену – в глупую, полосатым шелком обтянутую уютную стену гостиной. Ему стыдно – с той ночи в Неаполе ему так стыдно, что он не знал, как вернуться, как взглянуть ей в глаза, как сказать, что проявил слабость. – Цена оказалась слишком высока. Я должен был сделать это, чтобы не потерять тебя. И понимал, что из-за этого потеряю. Я… испугался. Первый раз в жизни… Прости меня. Прости… Джен поднимает руку, прикасаясь к его открытой щеке, и заставляет взглянуть на себя. В голосе ее звучит недоумение: - Ты просишь у меня прощения за то, что не стал убийцей? За то, что у тебя хватило здравого смысла не совершать несусветной глупости? Эрик, ради бога – с чего ты взял, что я этого жду? Кем ты вообразил себя – корсаром? Лотарио? Мельмотом? Графом Монте-Кристо? - О нет – всего лишь тем, что я есть, Джанет. Убийцей. Шантажистом. Сумасшедшим. Уродом. – Он смотрит ей в глаза, ожидая реакции на этот список эпитетов, но она просто внимательно слушает – ждет, что он скажет дальше. Он вздыхает. – Теперь еще – подлецом и трусом. Джанет изумленно качает головой. - А как насчет человека, который не рискует собой, зная, что нужен мне? - Как мило это звучит в твоих устах! – Эрик повышает голос – забавно, но он, похоже, обижен тем, что она не желает разделить его ужаса перед тем, что он совершил – вернее, тем, чего совершить не смог. – Я хотел освободить тебя, и я струсил. Неужели в твоих глазах это ничего не значит?! Неужели этого мало, чтобы презирать меня… Словно вторя его словам, за окном сверкает молния, и сухо трещит гром, и сразу вслед за этим по крыше дома и листве в саду начинают стучать тяжелые капли. Молнии следуют одна за другой – иногда кажется, что в комнате светло, как днем. Джанет внимательно изучает разгоряченные черты Эрика – презрение к себе вернуло его лицу краски, глаза снова загорелись, пусть и обескураженным гневом. Она вспоминает все, что знает о нем – все, о чем писали старые газеты, о чем рассказывала Маргерит Кастелло-Барбезак, о чем обмолвился Пьянджи в тот день, когда спас от заставших ее врасплох журналистов. Она начинает, наконец, понимать. Эрик, циркач, убийца, шантажист, безумец, урод и гений, всегда шел по жизни один – а тот, кто путешествует налегке, едет быстро. Он всегда действовал быстро, и не считался с жертвами, и готов был на крайние меры, чтобы добиться цели – потому что ему нечего было терять. О да, он был очень несчастен. Но в его отчаянии не было разве оттенка наслаждения? Разве не любовался он собой – в своем таинственном подземелье, среди свечей и бархатных занавесей, всегда безупречно одетый, всегда скрытый красивой маской? Разве не казался себе, да и не был на самом деле романтическим героем – корсаром, Лотарио, Мельмотом-скительцем… Призраком Оперы. Одиноким страдальцем в черном плаще – загадочной фигурой на вершине скалы, на крыше Оперы, в тенях колосников… Он не щадил ни других – ни себя. Конечно, ему странно и страшно оказалось вдруг ощутить то, что чувствуют обычные люди – люди, которые не одиноки в мире. Страх потери. Близость к другому. Желание вернуться домой. Конечно, ему кажется теперь, что он изменил себе. Кажется, что он достоин презрения. Джанет мягко улыбается: - Эрик. Знаешь, что по-настоящему важно в моих глазах? То, что ты здесь. То, что тебе важнее было вернуться ко мне, чем что-то мне доказать. Эрик – Эрик. Я ведь не роман о тебе читаю. Я живу с тобой, и надеюсь жить долго. Мне не нужно, чтобы ты прыгал по колосникам с удавкой – о да, я знаю об этом, не надо так удивляться. Мне нужно, чтобы ты был со мной, когда мне грустно и страшно. Чтобы ты держал меня за руку, когда мне не спится. Чтобы играл мне утром новые сочинения, над которыми работал допоздна. Чтобы смеялся со мной, и плакал, и смотрел, как делает первые шаги наш ребенок. Эрик молчит. Молнии перестали сверкать – гроза превратилась в летний дождь, который ровным гулом сопровождает их разговор, заполняет паузы, помогает сгладить неловкость. Джанет пожимает плечами: - Мне не нужно, чтобы ты убивал ради меня или жертвовал собой. Мне не красивая смерть от тебя нужна, а жизнь. Каждое утро, каждая ночь, каждое время года. – Он продолжает молчать, и она отходит на шаг. Наверное, ей не стоило говорить с ним так. Наверное, он обижен. Ну и на здоровье – она сказала то, что считала нужным, и будь теперь, что будет. Она делает неопределенный жест рукой. – Это настоящая жизнь. Обычная человеческая жизнь. Не книга, и не опера. Возможно, для тебя это скучно. Эрик качает головой, делает шаг к ней, медленно притягивает ее к себе, и шепчет в волосы: - Нет. Не скучно. Просто не верится. Ты, наверное, и правда любишь меня, если считаешь… нормальным. Если ты полагаешь, что быть со мной – это жизнь. Он надолго замолкает, вспоминая, как страстно и несбыточно желал когдато того, о чем Джен теперь говорит так спокойно, так обыденно – обычной человеческой жизни. - Мне сказали однажды… Женщина, которую я любил, сказала, что мое истинное уродство… Это не лицо. Это мое сердце, которое не умеет… Которое ничего не умеет. Черное сердце, которое отравляет все, что вокруг меня. А теперь ты говоришь, что хочешь, чтобы я держал тебя за руку бессонной ночью. Это так странно. – Он молчит еще секунду, а потом продолжает. – Ты так язвительно говоришь о том, кем я привык считать себя. О том, кем я был. Но Джанет – я только и умею, что таиться в тени с удавкой. А теперь я и это разучился делать, и ты хочешь, чтобы я делал что-то другое… Что тебе нужно другое. И я не знаю, смогу ли я научиться этому. Джанет отстраняется чуточку, и разводит руками, словно извиняясь: - Эрик – я не могу объяснить то, что чувствую. Я не много знаю о твоем сердце… Мне оно не показалось ни черным, ни ядовитым. Я ведь не за удавку и черный плащ полюбила тебя – и потому мне и кажется, наверное, что эти вещи – не ты. Не весь ты. Он смотрит ей в лицо, и задает вопрос – такой обычный для влюбленного мужчины, и такой тривиальный… Но ему, который вообще никогда не ждал ответа на слова «Я люблю тебя», так странно кажется уточнять: - А почему ты полюбила меня, Джен? Она смешно морщит нос: - Ты будешь разочарован – в этом нет ничего возвышенного. Я влюбилась в тебя потому, что мне понравились твои плечи, и жесты, и голос, которым ты отпустил кучера. Я подумала, что чувство мое глубже, чем просто увлечение, когда стала петь твою музыку. – Неожиданно она становится серьезной. – И я убедилась в том, что люблю тебя, когда ты впервые снял маску. Возможно, я страшно ошиблась, и нас ждет ужасное, совсем не счастливое будущее. Я не знаю, почему люблю тебя – как это можно объяснить? Я другое знаю: мне плевать, кто убил Витторио Фраскатти, мне плевать было бы даже, останься он в живых. Главное, что мертв он, а не ты. И что ты снова со мной… Можно, мы теперь сядем? У меня ужасно устала спина. Смущенный своей невнимательностью, Эрик торопливо ведет ее к кушетке. Они садятся рядом, и некоторое время молчат – они и так слишком много сказали сегодня. Они знают, конечно, что разговор их не закончен, они поговорят еще, но не сейчас. Вечер за окном прояснился – гроза кончилась, воздух пахнет недавним дождем, и звонко падают с листа на лист капли в освещенном закатом саду. Эрик смотрит на Джен в неверном свете заходящего солнца. Удивительное существо. Женщина, которая увлеклась его внешностью – подумать только. Женщина, которая полюбила его, увидев без маски – не раньше, а после того, как увидела самый неприглядный его секрет. Женщина, которая, как от мухи назойливой, отмахивается от всех его сомнений и потаенных страхов. Ведь не глупа же она, чтобы не понимать – проблемы никуда не исчезнут? Нет, конечно. Просто она верит, как в заклинание, во фразу «Все будет хорошо». Верит в силу своего сердца. Верит в Эрика? Бог знает – возможно, она права. Она полулежит, откинувшись на спинку кушетки. Такая красивая. Ее лицо спокойно, волосы блестят, от влажности они стали еще кудрявее – в закатных лучах они кажутся рыжее, совсем как на этих английских картинах про зачарованных красавиц, которые перебирают стебли цветов у распахнутых готических окон, и опускаются на пол складки алого бархата, и босые ступни смотрятся на темном ковре так беззащитно и трогательно, что хочется упасть на колени, и покрыть их поцелуями. Но Джанет – не картина, она живая, она здесь, рядом с ним. Ее грудь опускается и поднимается с каждым ровным вздохом, глаза прикрыты, но она не спит: стоит Эрику только провести кончиком пальца по ее щеке, как она немедленно поднимает голову и смотрит на него яркими, светлыми глазами. Она сжимает его руку – у нее такие сильные, такие теплые и ласковые пальцы. Она поглаживает его ладонь, и прижимается к ней щекой. Такая нежная кожа. Такая стройная, длинная шея. Он замечает, наконец, что на ней нет корсета, и краска бросается ему в лицо, и плоть напрягается. Кажется ему, или грудь ее уже стала немного полнее? Есть только один способ проверить – сжать ее в ладони. Так и есть – ее тело начинает меняться. Он осторожно кладет руку на ее округлившийся живот. С коротким вздохом она наклоняется вперед, чтобы быть ближе, чтобы вторая его рука могла раздвинуть ее бедра. На щеках ее появляется румянец, она смотрит на него из-под полуприкрытых век: - Эрик… Я так по тебе скучала. Поцелуй, такой же свежий, как омытый дождем сад – ее язык нежно касается его нёба, их губы не отпускают друг друга ни на секунду. Его пальцы привычно зарываются в ее локоны, очерчивают контур грудей, осторожно ложатся на талию. Она помогает ему избавиться от одежды – не торопясь, но настойчиво. Он касается кончиками пальцев ее лона, и чувствует влагу – так бывало уже десятки раз, но каждый раз это осязаемое доказательство ее желания пьянит его, как впервые. Она лежит под ним обнаженная, вся – розовый свет и жемчужные тени. Она улыбается. Она принимает его в себя. Глубокая. Нежная. Каждый раз новая. Гладит его бедра. Произносит его имя – низким своим голосом, будто задыхаясь: Эрик, Эрик, Эрик… Одного этого достаточно, чтобы лишиться разума. Его женщина. Его возлюбленная. Свободна, свободна наконец, и он может назвать ее своей. Он сам не замечает, что с каждым движением с его губ срывается шепот: - Моя. Ты моя. Моя… Джанет. Джен. Моя Джен… Она смотрит в его запрокинутое лицо, на котором давно уже нет маски, она слушает его шепот, и зажмуривается, чтобы удержать слезы. Моя… моя.. еще раз… Еще. Глубже. Чуть быстрее. Моя… Моя Джен… Еще раз… Джен… Джен! Они проводят так, в объятиях друг друга, остаток дня – первого дня его обычной человеческой жизни. Сегодня между ними – никаких чужих имен. И этим вечером, и этой ночью, и следующим утром, и никогда больше. Глава 24. Жизнь хуже обычной. Париж, август 1885 года Он не уходит, маленький человечек в неприметной серой одежде, он не оставляет своего поста в кафе на углу, на другой стороне улицы. Погода стоит жаркая, и он целые дни проводит, сидя за столиком с газетой, с чашкой кофе, с рюмкой коньяка. Он курит, читает, дремлет, сдвинув на глаза шляпу – и он ни на секунду не оставляет без внимания двери дома Джен. Эрик заметил его еще в первый вечер, накануне грозы – слишком уж неторопливо человечек сворачивал газету: он словно бы вовсе не спешил уйти внутрь кафе, чтобы укрыться от непогоды. Эрик, однако, уверен, что человечек в сером пропустил его приход – многолетний инстинкт заставляет Призрака двигаться бесшумно и незаметно, даже когда очевидной опасности есть. А уж тем более – когда есть все основания быть осторожным. Он возвращался из Неаполя окольным путем – действительно через Баварию. Как, впрочем и уезжал. Бавария была хорошим местом назначения для того, что он задумал – благовидным оправданием для деловой поездки, которая закончилась ничем. Какого результата мог ждать композитор от посещения страны, которая последние десять лет тратила свой бюджет на оперные постановки? Никакого, и маэстро де Санном вернулся ни с чем. Никому в Мюнхене не было дела до передвижений Эрика, и он мог быть уверен, что его отлучка в Италию осталась незамеченной. Парижские газеты Эрик изучил еще в поезде, и они ему не понравились. Смерть маркиза Фраскатти все еще не покидала первых полос – из-за Джен: иностранное преступление, в котором замешана была любимица Парижа, вызывало живой интерес читателей. Он прочитал интервью Джен, и восхитился тому, как разумно она изложила свою версию событий. Симпатии публики были на ее стороне – люди сочувствовали ее незаладившемуся браку, и восхищались мягкостью, с которой она говорила о непутевом супруге. Но человек в сером был не поклонником, и даже не журналистом. Это был человек из Сюрте – их тип ни с чем не спутаешь. Ну что же – отрадно, что во французской полиции служат не дураки: сколь бы очевидным ни было содействие карточных кредиторов маркиза в его безвременной кончине, они явно не собирались вот так сразу оставлять в покое жену покойного. Жену, которая была у всех на виду. Жену, про роман которой с известным композитором парижский свет судачил уже давно. Человек в сером не представлял, возможно, прямой угрозы. Он был оставлен на своем посту в кафе, чтобы следить за развитием событий. Как будет вести себя молодая вдова? Кого принимать? Куда ездить? Не начнет ли, к примеру, открыто жить со своим любовником? Хорошо, что Джен чувствовала себя слишком утомленной недавними переживаниями, чтобы выходить на улицу. Счастье, что состояние ее еще не заметно – беременная вдова, которая не встречалась с внезапно почившим законным мужем вот уже шесть лет… Только этого Сюрте и не хватало для того, чтобы намекнуть итальянским коллегам, что не все так просто и ясно в смерти маркиза Фраскатти. Эрик поправляет занавеску на окне спальни, из-за которой в очередной раз проверял, на месте ли соглядатай, и недовольно хмурится. Провести всю жизнь, удачно избегая преследования за мелкие, и не столь уж мелкие, преступления, только для того, чтобы попасть под подозрение в убийстве, которого не совершал – ничего глупее и быть не может. Он коротко вздыхает. Нельзя сказать, что он и в самом деле не виновен в смерти Фраскатти. Но вина его, и стыд – это его дело. Всегда были его делом, и совсем ни к чему вмешивать в это Джен. И уж точно не хотелось бы, чтобы она перед человечком в сером отчитывалась, когда и с кем ей выходить из дому. Он торчит перед домом все два дня, что прошли после приезда Эрика, и пока еще ничего не произошло. Но рассчитывать на то, что все останется постарому, невозможно. Им с Джен хорошо здесь, в доме – счастливо и уютно, и им кажется иногда, что этот мир единственно реален. Но нельзя вечно игнорировать жизнь за окнами – настоящую, неприятную жизнь. Пока Эрику удавалось избегать встречи, но вечно прятаться нельзя. И есть ведь еще слуги, а слуги болтливы. У них с Джен нет времени и возможности ждать, пока Сюрте надоест следить за ними. У них есть дело – важное дело. Господи, как ему надоело прятаться. Убегать. Врать. Но выхода нет – это единственный способ. Эрик вслушивается в звуки, которые доносятся из гостиной: Джен распевается, аккомпанируя себе на рояле. Он закрывает на секунду глаза, позволяя ее голосу окружить себя – даже незамысловатый вокализ в ее исполнении способен заворожить его. Когда она поет, ему ничего больше в мире не нужно – кажется даже, что нет и не было в его жизни ни боли, ни несправедливости, ни стыда, что он на свет появился для того, чтобы слушать ее, подходить сзади, целовать в шею, и знать, каждый раз заново удивляясь этому чуду, что он любит ее, и что она с ним, что его мертвое сердце снова бьется, и готово дарить ей музыку. Ради того, чтобы она была счастлива и спокойна, можно и лгать. И бежать. И убивать, и умереть – вот только она яснее ясного объяснила ему, что как раз это от него не требуется. Эрик спускается вниз – Джен чувствует его присутствие, оборачивается через плечо, и улыбается, не прерывая упражнения. Он подходит к ней, и мягко накрывает ладонью ее пальцы, лежащие на клавишах рояля. Она вопросительно смотрит на него, и он осведомляется осторожно: - Джанет… Каковы условия твоего контракта с Бриганом? Она пожимает плечами: - Я заключаю новый на каждую следующую оперу. Глупо было бы связать себя по рукам и ногам постоянным договором с ним. Мне нравится в Париже, но я хотела бы иногда петь и в других театрах. Эрик удовлетворенно кивает. Сезон еще не открыт. Ты свободна? Да. Я не стала ни о чем договариваться с ним на эту осень. – Внезапно она кажется смущенной. – Я подумала, что мне будет… не до пения. Он сжимает ее руку. Его ребенок – она занята будет его ребенком, которого они должны скрывать… Будь оно все проклято. Он делает глубокий вдох: - Нам надо обвенчаться. Ты не ответила тогда на мое предложение. Что ты скажешь теперь? Джанет краснеет слегка, и опускает глаза: - Это вовсе не обязательно. Эрик молчит. Потом отпускает ее руку: - Понятно. Ты не хочешь связываться со мной. - Нет! – Она снова находит его ладонь. – Нет. Я имела в виду, что это не обязательно, если ты этого не хочешь. Он смотрит на нее с удивлением – он не верит своим ушам: - Джен. Ты последний месяц прожила в убеждении, что я убил твоего мужа. Интересно, зачем бы мне это было надо? Ты знаешь, что я хотел просить тебя стать моей женой еще до того… как все это произошло. Почему я вдруг должен передумать теперь, когда это возможно? Джен закрывает на секунду лицо руками и издает короткий, нервный смешок: - Эрик – прости меня. В самом деле, прости. Дело во мне – я пытаюсь на тебя возложить вину за то, что у меня в голове путаница. Я хочу за тебя замуж – естественно, хочу. Я просто боюсь до смерти. Я только что выпуталась из одного брака. Мне так странно сразу бросаться в новый. Я знаю, что это было бы правильно. Мне просто так… неловко. Мы можем хотя бы сделать это… тихо? Не привлекая внимания? Он кивает – ее слова дают ему возможность сказать то, что он должен: - Да. Больше того – это единственное, что мы можем теперь сделать. – Она не понимает, что Эрик имеет в виду, и он подводит ее к окну. – Видишь того недомерка в сером, с усиками? Он из Сюрте. Им очень интересно знать, как поведет себя вдовствующая маркиза Фраскатти. Джен несколько секунд смотрит на человечка в кафе, а потом оборачивается к Эрику. В глазах ее плещется гнев, и голос звучит напряженно: - Какого черта им нужно? Смерть Витторио не имеет к нам отношения. Они сами сказали мне, что им все ясно – это сделали его кредиторы… Почему они от нас не отвяжутся? Эрик устало пожимает плечами: - Они не так уж неправы. Если бы я не топтался так долго под оливами в его саду, они и были бы правы. Они хотят все проверить. Джен молчит секунду, в который раз мысленно благодаря бога, что Эрик не виновен в смерти ее мужа – с него сталось бы пойти и во всем признаться, чтобы, например, избавить ее от назойливой слежки и скандала. Как будто открытые обвинения ее любовника менее скандальны, чем смутные подозрения… Она сжимает руку в кулак: - Да, но почему мы? Почему не узнать поподробнее, что именно случилось в Неаполе? - Потому что у твоего мужа осталась родня. И им не хочется, может быть, чтобы маркиз Фраскатти считался жертвой карточных шулеров. Им хочется убийства более… благородного. И они тебя ненавидят. Он смотрит на Джен с бесконечной печалью. Ее лицо вдруг кажется ему бледным, осунувшимся – она так устала, бедняжка, и это совсем некстати. Ей не переживать теперь нужно из-за всякой ерунды, а жить в свое удовольствие, не волнуясь, не напрягаясь и не расстраиваясь. Ей нужно подготовиться к рождению их ребенка. Ребенка, который, возможно, станет проклятьем ее жизни. Как он, Эрик, стал проклятьем для своей матери. Он не будет думать об этом. Иначе он сойдет с ума. Как сойдет с ума, и если будет думать о другой опасности, которая Джен, похоже, ни на секунду не приходит в голову, и хорошо, но Эрик… Глядя на изменившееся, смягчившееся тело Джен, ощущая его под своими руками, Эрик не может не думать об этом. О Кристине, которая была его жизнью, его надеждой и его голосом. О Кристине, которая умерла – и о том, как она умерла. Он нежно сжимает плечи Джен: - Нам нужно уехать. Хотя бы на какое-то время. Причем, очевидно, по отдельности, чтобы не привлечь внимания. Она горестно кивает. - Я понимаю. Но почему мы должны бежать, если ни в чем не виноваты? Неожиданно ему в голову приходит странная мысль – еще одна из тех мыслей, которым, как он всегда полагал, в его бедной голове никогда не будет места: - А кто говорит о бегстве? Мы с тобой собираемся пожениться. Должно же у нас быть свадебное путешествие? - О какой ты хитрый! – Она смеется, а потом серьезнеет. – Хитрый и добрый. Какая приятная мысль. Свадебное путешествие – это, конечно, другое дело. Эрик облегченно вздыхает: - Куда бы ты хотела поехать, моя дорогая невеста? Джен не колеблется ни секунды – в глазах ее появляется озорной огонек, и разглаживается тонкая морщинка, которая, как тень, давно уже залегла между бровей: - Домой. Во взгляде Эрика на секунду сквозит недоумение, и она понимает, с неожиданной ясностью, что это слово – «дом» – ничего для него не значит. Нет у него дома, и никогда не было – не считать же, в самом деле, подвал Оперы… Ну что же – это легко исправить: ее дом может принять и его. Она улыбается и поясняет: - Домой. В Шотландию. Тебе там понравится. Только предупреждаю – моим братьям тебе лучше дорогу не переходить. Даже тебе… Если они подумают, что ты меня обижаешь – могут и руки оторвать. Не посмотрят, что ты композитор. Эрик смотрит в ее оживленное, разрумянившееся лицо. Джанет. Джен. Дразнит его. Развеселилась. Слава богу… Это такое счастье – видеть ее улыбку. - Глава 25. Столичный наблюдатель. Париж, август 1885 года Оливково-зеленые стволы платанов, усеянные желтыми пятнами, всегда, даже в самый пасмурный день, выглядят так, словно кто-то из новомодных художников, вроде Коро или Ренуара, нарисовал на них блики солнца, пробившиеся сквозь редеющую крону. Инспектор Антуан Маррен думает об этом каждый раз, подходя по усаженной платанами улице к зданию управления полиции центрального округа Парижа на острове Ситэ. Подумал и сегодня, хотя сегодня и в самом деле солнечно, и душно – этим летом грозы следуют одна за другой, не принося перемены погоды, которая утомленным жарой парижанам кажется уже желанной. Всего-то полдень, а Маррен выпил уже графин лимонада, и попросил принести ему второй, и все чаще ловит себя на мысли о том, как хорошо было бы сбежать теперь с работы и отправиться куда-нибудь на природу, хотя бы и в Булонский лес, чтобы просто полежать на траве, скинув сюртук и распустив галстук, и подремать, надвинув на глаза шляпу. Эта мысль так приятна, что Маррен невольно вытягивает под столом свои длинные костлявые ноги, и прикрывает на секунду блеклые голубые глаза… Увы – это только мечты. У Маррена слишком много работы. Вполне возможно, впрочем, что дела службы приведут его-таки сегодня если не в Булонский лес, то в его окрестности. На столе перед инспектором лежит отчет, который сегодня утром представил ему детектив Фальер. Последние две недели он негласно наблюдал за домом певицы Джанет Андерсон, она же маркиза Фраскатти, с целью узнать… неизвестно, что Фальер должен был там узнать. Маррен хмурит рыжеватые брови, и в задумчивости барабанит пальцами с коротко обгрызенными ногтями по кожаной папке с делом Фраскатти. Вообще-то, парижской полиции глубоко наплевать на убийство маркиза в далеком Неаполе, тем более что любому, кто хоть как-то осведомлен в делах покойного, очевидно, что тот пал жертвой своих карточных долгов, и что убил его скорее всего наемник, которого не удастся найти никогда. Однако итальянцы не успокаиваются – им хочется поискать виновных где-нибудь еще: семья маркиза не готова, по крайней мере пока, смириться с тем, что за убийство Фраскатти никого не казнят. Естественно, возник вопрос о его жене – супругов положено подозревать в первую очередь. У Маррена эта идея вызывала скепсис: наследства маркиз не оставил, ревности у жены, с которой не жил много лет, он тоже явно не вызывал… А причин добиваться столь радикальным способом свободы у спокойной и уравновешенной мадам Андерсон тоже, казалось, не было. Конечно, по Парижу уже несколько месяцев ходили слухи о том, что у нее якобы роман с этим модным композитором, де Санномом, в опере которого она пела зимой и который занимал в театре положение полуофициального консультанта по всем художественным вопросам. Это естественно – композитор представлял собой фигуру загадочную, эффектную и даже романтическую, мадам была хороша собой, талантлива и молода. Их видели вместе, он бывал у нее, она – у него. Они были дружны – это несомненно. Но – ничего экстраординарного: никаких вольностей, выходящих за рамки обычной фамильярности, характерной для театральной среды. Для того, чтобы сделать вывод о романе – да тем более настолько серьезном, чтобы возникла нужда убивать мужа, – для этого оснований было недостаточно. Смешно сказать – слух о романе впервые возник, видите ли, потому, что уж с очень глубоким чувством мадам исполняла оперу маэстро. В самом деле – а если бы ей особенно удалось что-то из Моцарта, решили бы люди, что призрак композитора явился к ней с любовными ухаживаниями? Естественно, что Маррен не хотел лишний раз мутить воду и затевать официальное расследование дела, которого, по существу, не было. Однако итальянцы нажимали, и инспектору оставалось только поручить Фальеру незаметно следить за домом певицы, а так же деликатно расспрашивать всех, кого только можно – особенно в театре. Допустим, у нее и правда роман с де Санномом. Допустим, им – или ей одной – непременно нужно было убрать с дороги мужа. Теперь, когда все газеты и полиция двух стран во весь голос твердили о шулерах и долгах, любовникам самое время было бы расслабиться и выдать себя. Если им есть, конечно, что выдавать. Отчет на столе Маррена поставил инспектора в тупик. Из него следовало, как ни удивительно, что никто в театре не мог с определенностью сказать, есть ли между композитором и примой нежные чувства. Полицейские не задавали прямых вопросов – причин к тому не было, а на намеки театральные обитатели, обычно столь болтливые, не реагировали. Не пролили света на дело и расспросы слуг – ими тоже владела необъяснимая слепота, глухота и немота. Наблюдение так же было безрезультатным – за время, пока оно велось, де Санном посетил мадам Андерсон один раз, выражая свои соболезнования. Он не приходил раньше, так как ездил по делам в Баварию. Маррен мог сделать три вывода. Возможно, все было чисто. Возможно, Фальер оказался полным идиотом и не смог обнаружить каких-то очевидных вещей. Но возможно так же, что правда – и улики – и в самом деле неочевидны, что они тщательно замаскированы человеком недюжинных способностей. Чем больше Маррен думает об этом, тем больше склоняется к третьему варианту. Инспектор молод, и приехал в Париж недавно, но к своим тридцати он не зря уже сделал неплохую карьеру. У него есть чутье, и именно чутье в данном случае говорит ему – что-то не так. У него перед носом словно бы фокусы показывают – передергивают рукав, и карты уже перетасованы, и не поймешь, где спрятана запомненная дама червей… Инспектору очень хочется схватить этого фокусника за руку. Проверить крапленую колоду. Но у него нет никаких оснований, никаких существенных фактов – спектакль этот если чем и выдает свое театральное свойство, так как раз безупречностью иллюзии. А теперь, судя по отчету Фальера, и вовсе уже слишком поздно. Мадам Андерсон уехала из Парижа – уехала в Англию, вернее, домой, в Шотландию. Что может быть естественнее – она потеряла мужа, он умер жестокой и трагической смертью, ей нужно какое-то время побыть с родными, набраться сил. Она сообщила о своих планах журналистам. Мадмуазель вдова объявила так же, что сделает небольшой перерыв в карьере – этой зимой она нигде не будет петь. Слишком расстроена смертью мужа – и шумихой вокруг нее. Ну что может сказать об этом Маррен? Все хорошо. Все чисто. Очень благопристойно. Просто инспектору не верится. Маэстро Эрик де Санном лично проводил мадам на вокзал и усадил в поезд до Кале. Фальер следовал за ними. Пара держалась друг с другом доверительно, но спокойно. Естественная ситуация – хороший друг, коллега по театру помогает одинокой даме преодолевать сложности путешествия. Композитор постоял несколько минут у дверей ее купе, не заходя внутрь. Она беседовала с ним, не поднимая вуали. Все это время ее камеристка топталась в купе, возясь с чемоданами. Они не оставались наедине. В конце концов мсье поцеловал мадам руку, поклонился, и откланялся – за добрых пять минут до отхода поезда. Не похоже на прощание людей, которых связывает страсть достаточно сильная, чтобы понадобилось убийство мужа. О, как хотел бы Антуан Маррен быть там, на месте этого дурака Фальера! Он почему-то уверен, что сумел бы все, все понять, если бы только увидел их вот так, вместе. И неважно вовсе, что доказательств у инспектора как нет, так и не было бы – ему самому стало бы спокойнее от того, что он знает правду. Ну и пожалуйста – пусть певчая птичка упорхнула. У Маррена не было ни малейших оснований задерживать ее. Но может инспектор хотя бы любопытство свое удовлетворить? Может успокоить профессиональную совесть мыслью о том, что все-таки сам задал несколько вопросов – сам прощупал ситуацию? Может, и должен – иначе он потеряет сон, и его язва станет хуже. Приняв решение, Маррен сразу ощущает прилив сил – ему даже кажется, что день теперь уже не такой жаркий. Бросив последний взгляд на бесполезный и бессмысленный отчет Фальера, он встает из-за стола и подходит к окну. Некоторое время он постукивает пальцами по засиженному мухами стеклу. Важно сознавать, что у него все равно нет никаких улик. Ему может только повезти с признанием. Это дело развалится в суде – да нет, какой там суд, это вообще никакое не дело, это одни только сплетни и догадки. Он бы все бросил, если бы не это странное детское чувство, которое возникало в цирке – следите за руками, может быть, вы поймете, как сделан фокус… Все остальные дети смотрели на карты. Малыш Маррен и правда следил за руками. Они никогда не успевал заметить, в чем обман, но понимал, что обман есть. Наверное, он потому и стал полицейским, что его всегда интересовала не иллюзия, а иллюзионист. В этом деле с иллюзией бороться бесполезно – можно попробовать поймать за руку фокусника. Забавно, маэстро и одевается всегда слегка загадочно – его черные сюртуки и темные вышитые жилеты и, конечно, эта невероятная и необъяснимая причуда, маска, – все это очень даже напоминает нарядный фрак иллюзиониста со множеством двойных карманов и прочих хитростей. В первый раз в жизни эта фантомная, воображаемая фигура «фокусника», который видится инспектору за всяким успешным преступлением, почти что получила воплощение в конкретном человеке. Маррен не надеется на успех. Но он не может отказать себе в удовольствии попытаться. Если не поймать за руку, то хотя бы глянуть в лицо этому человеку. Бьет три пополудни. Жаркий день скоро начнет медленно сползать в душный вечер. Пора поехать в окрестности Булонского леса – к маэстро Эрику де Санному. Глава 26. Разоблачение. Париж, август 1885 года Длинная, узкая, темная комната – почему в библиотеках всегда кажется, что время вечернее? Высокие арочные окна распахнуты, но из-за тяжелых бархатных портьер даже яркое солнце в саду будто тускнеет. В центре комнаты, на старом персидском ковре – большой стол, поверхность которого почти не видна из-под раскрытых книг, развернутых чертежей и беспорядочных бумаг. Стопки книг лежат и на стульях красного дерева. Огромный камин – естественно, погасший. У камина два больших кресла, обтянутых потертой красной кожей. По всем стенам – шкафы с бесконечными рядами кожаных переплетов, нижние части закрыты дверцами с зеленым сукном – здесь, очевидно, хранятся книги особенно ценные. У стены напротив окон – еще один стол, поменьше: на нем всего пара книг, и чернильный прибор, и бумаги, с которыми работают, и забытый поднос, на котором полупустой графин вина и тарелка с сыром и виноградом. Инспектор Маррен зачарованно осматривает библиотеку – он еще не видел подобной комнаты, разве только на картинках, иллюстрациях к английским романам. Голос хозяина – низкий и очень мелодичный – застает его врасплох: - Далеко не все книги мои. Великолепная библиотека была одной из причин, побудивших меня купить именно этот дом. Маррен оборачивается. Мсье де Санном бесшумно возник у двери за его спиной. Он явно не ждал гостей – одет в домашние брюки и свободного покроя куртку. На шее, впрочем, аккуратно повязан платок, черные волосы зачесаны назад, и на лице, конечно, его неизменная белая маска. Маррен никогда раньше не видел де Саннома живьем – только газетные парадные портреты. Маррен поражается его росту: инспектор и сам не низок, но композитор выше его на полголовы, и шире в плечах. Внушительная, несмотря на домашнюю одежду, фигура. Он делает шаг вперед и коротко кивает, не предлагая, впрочем, руки для пожатия: - Инспектор Маррен. Я жажду узнать, что привело вас ко мне. Мне никогда еще раньше не случалось беседовать с представителями полиции. Желаете присесть? Могу я предложить вам вина? Маррен бормочет благодарность, и де Санном проходит к буфетному шкафу – какая блестящая мысль, устроить его прямо в библиотеке, чтобы не нужно было звать слуг каждый раз, когда нужен чистый стакан, – и достает бокал, и наливает вина из графина на письменном столе. Полицейский принимает бокал и садится в кресло у камина. Вино великолепное. Он чувствует себя крайне неуютно – сам не зная, почему. Возможно, потому что де Санном не садится – он стоит, опираясь на спинку кресла, напротив инспектора, и вопросительно на него смотрит. Какие холодные, светлые и спокойные глаза. Какая неприятная маска… Неподвижная, застывшая, надменная – ее ледяная гримаса так резко контрастирует с яркими чертами открытой половины лица. У маски этой словно есть собственный характер. И что самое противное – она так и притягивает взгляд, словно пустой рукав или костыль калеки. Что за странная причуда – носить на лице такую штуку. С усилием оторвав взгляд от маски, Маррен замечает на губах композитора тень усмешки. От него ничего не укроется. Инспектор краснеет – черт бы побрал его рыжие волосы, с ними никакой неловкости не скроешь. Маррену трудно придумать, с чего начать. И поделом – не надо было следовать импульсу, и ехать в дом к человеку, не имея на руках ничего, кроме каких-то смутных интуитивных догадок. Но дело сделано – он здесь, и уехать теперь просто, ничего не сказав, будет еще страннее. В конце концов, мсье де Санном всегда может просто выставить инспектора вон. Выбора особенного нет – можно начать и с сути дела: - По просьбе наших неаполитанских коллег я занимаюсь некоторыми вопросами, связанными с убийством маркиза Фраскатти. Мсье де Санном выразительно поднимает одну бровь. Впрочем, может, и две, но под маской все равно не видно. Смысл гримасы ясен без слов: причем здесь он? Маррен молчит, и композитор произносит: - Я не имел чести знать его. Он ничем не облегчает Маррену задачу. Инспектор уточняет, чувствуя себя одновременно дураком, подлецом и сплетником: - Да, мне это известно. Но вы знаете его жену – вернее, конечно же, вдову. Де Санном медленно кивает: - Мадмуазель Андерсон оказала мне честь, украсив своим исполнением мою последнюю оперу. Я глубоко восхищен ее непревзойденным мастерством. Но я не могу уловить никакой связи между убийством ее супруга и вашим визитом ко мне. – Он делает паузу. Поразительный у него голос – Маррен слушает его всего несколько секунд, а ему уже кажется, что маэстро имеет над ним странную власть… – Если уж на то пошло, я и вообще не вижу связи между мадам Андерсон и кончиной маркиза Фраскатти. Насколько мне известно, они были в разъезде. Маррен неловко ерзает в кресле: - Насколько вам известно? Вы хотите сказать, что мадам Фраскатти не сообщала вам подробностей? Взгляд де Саннома становится абсолютно ледяным – ей-богу, Маррену чудится, что на него дохнуло холодным ветром: - Я даже не стану спрашивать у вас, какие основания вы имеете для того, чтобы предполагать, что мадмуазель Андерсон была со мной откровеннее, чем с кемлибо другим. Я спрошу лучше, с какой стати вы вообще явились сюда, чтобы обсудить со мной, совершенно посторонним человеком, репутацию этой дамы и ее дела? Маррен снова густо краснеет. Сам напросился – господи, очевидно было, что именно так беседа и повернется. А чего он ждал – что де Санном с рыданиями упадет к нему на грудь и подтвердит все сплетни? Но отступать некуда – как говорится, если уж быть казненным за цыпленка, можно украсть и индюка… Сложив вместе кончики пальцев и изображая уверенность, которой вовсе не чувствует, Маррен говорит: - Мне странно ваше удивление, маэстро. Вы не можете не знать, что парижский свет давно уже не полагает вас с мадам маркизой людьми посторонними. - В первый раз слышу, что французская полиция строит свою работу, почитывая газетные колонки светских сплетен. - Вас часто видят вместе. Вы бывали у нее дома. Она бывала у вас. Даже вчера, в момент ее отъезда, вы сопровождали ее. Де Санном снова проделывает свой маневр с поднятой бровью: - Это просто смешно. Мы работаем вместе, мадам Андерсон – мой друг… – Он неожиданно перебивает сам себя. – Погодите-ка. Вы хотите сказать, что следили за мадмуазель? Ради бога, почему? - В случае убийства всегда первым подозреваемым оказывается супруг. - Даже если это, к примеру, работа грабителя на улице? Маррен пристально смотрит на композитора: - Убийство не обязательно совершать своими руками. Уличного грабителя можно нанять и направить на нужную жертву. Всегда может найтись человек, который, за деньги или по другой причине, например из привязанности, готов избавить вас от надоевшего мужа… или жены. Де Санном задумчиво потирает подбородок и недоуменно пожимает плечами: - Простите меня, инспектор… Маррен, верно? Правильно ли я заключаю из этого абсурдного разговора, что вы меня назначили на эту увлекательную роль в жизни мадам Андерсон? Иначе почему вы так настойчиво меня расспрашиваете? Композитор так озадачен, что даже, как будто, меньше сердится. Изложенные подобным образом, подозрения Маррена и правда кажутся довольно-таки легковесными. Только вот он все еще беседует с де Санномом – композитор все еще не выставил его за дверь. Сколько бы он не гневался и не возмущался сплетнями, он все же разговаривает с полицейским, а не спускает его с лестницы. А меж тем давно пора – Маррен уже явно превысил свои полномочия, и переступил границы элементарных приличий. Это должно что-то значить. Инспектор разводит руками: - Я беседую со всеми друзьями и знакомыми мадам. Я и с ней бы побеседовал, если бы не ее внезапный отъезд на родину. – Внезапно взгляд светло-голубых глаз рыжего полицейского становится холодным и пристальным, как у змеи. – Вы знаете, конечно, что смерть маркиза приписывают карточным шулерам? Представляете себе – нам, вернее итальянским нашим коллегам, известно, что во главе людей, которые заправляют игорными домами Неаполя стоит некто Пьянджи… Глава одной из «семей», которые управляют в Италии всем. Представьте себе мое изумление, когда я увидел, что в Опере тоже есть некто Пьянджи. Однофамилец, скорее всего. Но я не мог не заинтересоваться. Любопытно, знаете ли. Композитор недоверчиво качает головой: - Простите меня, Маррен – мне просто трудно всерьез воспринимать ваши слова. Я полагаю, что вы далеко продвинетесь по службе – богатое воображение наверняка редкость среди ваших коллег и должно давать большие преимущества. Но скажите мне, ради бога – какова связь между тенором Оперы, интересами мадам Андерсон и мною? Зачем мне, по вашему, принимать столь активное участие судьбе мадам Андерсон? И зачем ей, если уж на то пошло, понадобилась смерть мужа? Маррен опускает взгляд: - Вы знаете, как говорят – нет дыма без огня. Молва соединила вас с мадмуазель. И я должен сказать, что в слухе этом нет ничего неправдоподобного. – Он делает паузу, ощущая нависшую в воздухе напряженность. – Роман между вами кажется вполне вероятным. Серьезный роман вполне может стать причиной для убийства. Ну все – сейчас, очевидно, скрытая и недобрая сила, которой дышит вся фигура де Саннома, вырвется наружу, и он просто-напросто выкинет Маррена в окно. Несколько секунд в библиотеке царит напряженная тишина. А потом Маррен слышит звук совершенно неожиданный – он вскидывает глаза и убеждается, что уши его не обманули: де Санном смеется. Язвительно и невесело, но искренне и так долго, что Маррен успевает почувствовать неловкость. Он не говорил, кажется, ничего смешного – наоборот скорее, по его ощущениям он довольно успешно загнал собеседника в угол, заставляя вслух проговаривать возможные подозрения и обвинения. Композитор вел себя даже чересчур откровенно… А теперь он вдруг смеется! Де Санном справляется, наконец, со смехом, и смотрит на полицейского – Маррена снова мороз пробирает от выражения его глаз и неподвижности его маски: - Любезный инспектор Маррен, вы, оказывается, еще и романтик!.. Говоря по совести, мне давно уже следовало выставить вас вон, или избить вас, или даже вызвать на дуэль. Все, что вы тут несете – бездоказательно и крайне оскорбительно для меня и для дамы, которую вы так бесцеремонно компрометируете. Если бы дело это касалось только меня, вы бы давно уже были на улице, а я обсуждал бы с вашим начальством – что это было: безумие или чрезмерное служебное рвение. Маррен молчит – ему все еще кажется, что позиции его довольно сильны, и нет у композитора причин так язвить. Де Санном продолжает: - Однако речь идет о даме, которую, как я уже сказал, компрометируют ваши идиотские расспросы. Мне страшно себе представить, что за кашу вы можете заварить, если будете ходить по Парижу и дальше распространять эти слухи. Мадам Андерсон дорога мне – она добрый друг, и великолепная певица, и мне кажется, что трагическая кончина мужа – это достаточное для нее испытание. Ни к чему еще губить ее репутацию, а именно этого вы в конце концов добьетесь. Я прошу вас прекратить свои расспросы. Репутация мадам Андерсон всегда была безупречна, и у нее не было никаких оснований желать смерти мужа. Инспектор Маррен взволнован – он чувствует, что стоит на пороге какого-то важного открытия, что маэстро вот-вот скажет ему нечто значительное. Неужели ему удалось поймать своего фокусника? Неужели это так просто оказалось – похлопать его по карманам, и выбить оттуда припрятанный козырь? Маррен нетерпеливо вскидывает голову: О маэстро, вы же понимаете, что просить полицейского прекратить расследование – это абсурд. Мне мало ваших заверений – мне нужны доказательства. И любое ваше действие, естественно, вызывает у меня интерес… Вот вы, например, скоро уезжаете. – Маррен указывает на раскрытый саквояж на кушетке у окна. – Куда вы едете? - В Лондон. – Де Санном усмехается. – Да, на радость вам я тоже еду в Англию – Королевская Опера заказала мне новую вещь… Хотите видеть переписку по этому поводу? Она тянется уже три месяца, так сразу вам ее не прочитать. Меня забавляет ваша просьба представить вам доказательства того, что чего-то не было… Согласитесь, эта задача достаточно сложна. Маррен делает невинное выражение лица – лица некрасивого, но умного, и инспектор знает, что композитор успел оценить его по достоинству. - Увы. Вы можете убедить меня в том, что между вами и мадам не было… ничего? Де Санном качает головой – красивой черноволосой головой в строгой белой маске, и инспектор вдруг понимает, что завидует ему, этому артисту со сверкающими глазами и черными баками – завидует как-то необъяснимо, на уровне инстинкта… Рядом с ним Маррен чувствует себя тощим, нелепым, еще более рыжим, и ужасно провинциальным. Наверное, будь они двумя, к примеру, оленями, давно бы уже яростно бодались вместо того, чтобы беседовать, сохраняя видимость любезности. - Дался вам этот наш предполагаемый роман… Мы с мадам Андерсон работали. Музицировали – разбирали ее партии. У меня есть некоторый опыт преподавания вокала. Дружили… Де Санном замолкает, и инспектор смотрит на него, не в силах расшифровать выражение лица… У губ залегла странная складка – маэстро словно испытывает боль. Но в то же время бровь его иронически приподнята – как будто предположения инспектора и впрямь его весьма забавляют. Нет сомнений, что ирония эта не наиграна. Но Маррен может поклясться – боль, которая искажает красивые черты композитора, тоже настоящая. Секунду он колеблется, принимая какое-то непростое решение. Потом смотрит Маррену прямо в глаза: - Мне претит мысль о том, что мадам Андерсон стала объектом сплетен, и я хочу раз и навсегда пресечь их. Если я убедительно покажу вам, что романтические отношения между нами невозможны… Вы прекратите расследование, и вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы разговоры умолкли. – По идее, эти слова должны были бы быть вопросом, но тон де Саннома звучит утвердительно и даже требовательно. – Вы закроете расследование здесь, и убедите своих итальянских друзей, что ничего интереснее карточных долгов они за маркизом Фраскатти не найдут… Хорошо? Маррен зачарованно кивает. Как, интересно, так получилось, что этот странный тип, которого он пришел допрашивать, неожиданно стал выдвигать ему свои условия и требования? Разум подсказывает Маррену – если подозреваемый предлагает ему сделку, значит, ему и правда есть, что скрывать – все это не более чем словесная игра. Соглашаться нельзя ни в коем случае – инспектор ведь, очевидно, побеждает… Но Маррен обнаруживает вдруг, что отказаться невозможно – не в тот момент, когда серые глаза заглядывают тебе прямо в душу, и - вкрадчивый низкий голос говорит: - Договорились. Но я хочу предупредить вас: если хоть одна душа узнает то, что вы сейчас – если хотя бы шелест, шепоток слуха пройдет по Парижу… Я вас убью. Он говорит это так просто – таким обыденным тоном. Маррен даже не сразу понимает, что услышал. Когда понимает – уже поздно возмущаться: словно под гипнозом, он говорит, едва осознавая, как абсурдно звучат его слова: - Да. Разумеется. Маррен понимает – де Санном действительно имеет в виду то, что сказал. Маэстро удовлетворенно кивает. Косые солнечные лучи очень удачно освещают кресла у камина – свет падает как раз на маску де Саннома. Глаза его в вечернем свете кажутся зелеными и почти прозрачными. Он приближает лицо едва ли не вплотную к Маррену – инспектор никогда еще, пожалуй, не видел мужского лица так близко, так что можно рассмотреть ресницы и волоски щетины, даже поры на коже. Де Санном невесело улыбается, и снова поднимает безупречную черную бровь. Маррену вдруг становится очень страшно – он чувствует себя, как… как Красная Шапочка, взглянувшая в желтые глаза переодетому волку. Де Санном говорит спокойно: - У меня нет, не было, и не может быть романа ни с мадам Андерсон, ни с какойлибо другой женщиной, инспектор… Судите сами. С этими словами он медленно поднимает руку к лицу и снимает маску. Глава 27. Осенние скрипки. Шотландия, ноябрь 1885 года. Влажный и свежий туман, который ложится на объеденную овцами траву в глубокой лощине. В сумеречном свете утра одиноко позвякивает колокольчик на шее барана-вожака, и слышится сопение пастушьей собаки, и среди бурьяна, которым зарос овраг, маячат в серой мгле какие-то яркие желтые цветы. Узкий и быстрый ручей, который с яростным плеском мчится по каменистому руслу, и в неглубокой воде над пятнистыми камнями в бликах солнечного света играет серебряным боком лосось. Крутой подъем, бесконечный и каменистый – сапоги скользят по вересковым кочкам и попадают в плен к плетям вьюнка. Склон холма прячется в ледяной глубине собственной тени. Идти так непросто, что даже в этой тени становится жарко. Свет солнца на вершине, и резкий ветер, от которого сразу мурашки бегут по вспотевшей коже. У ног лежит перевернутый мир – длинная, ослепительно яркая, так что хочется зажмуриться, синяя извилистая полоса ЛохЛомонда, и сиреневые ели на берегах, у воды, и яркие, золотые и красные и оранжевые, осенние леса на склонах холмов, и неправдоподобно голубое холодное и веселое небо. Все эти краски – синева неба и озера, зелень травы и чернота овечьей морды, серый сумрак тумана, рыжая глина под ногами, красно-желтый всполох листвы, и белизна снега на дальних горах – все они щедрой рукой вплетены в шерстяную клетку пледов, которые носят здесь люди. Это такой яркий мир – у человека, который столько лет смотрел на жизнь из тьмы подземелья, кружится голова. Может быть, не только от дождями умытых цветов, но и от воздуха – такого чистого и холодного, что его, кажется, можно пить. От тишины, которая бывает только в горах над озерами – гулкой и полной на самом деле тысячей звуков, от звона мошкары до плеска воды после прыжка рыбы, от шелеста ветвей до протяжного блеянья овец, от нестройных звуков скрипки, доносящихся из кабачка на дальнем склоне горы, до смеха женщины, которая всегда рядом. Она опускает руку в воду, пропуская между пальцами быстрые струи, делая вид, что пытается поймать серебристую рыбу. Она дразнит его с середины склона, оборачиваясь назад – что он плетется так долго? – румяная, запыхавшаяся, но ведь ни на секунду не остановится, не переведет дух, пока не окажется наверху. Она выходит из тени на свет – туда, где тусклое золото ее волос сверкает, как корона, где глаза из серых становятся синими, как небо и лох, и где так очевидно, что она – плоть от плоти этого мира, его дитя и лучшее воплощение, и что смех ее вобрал в себя все, что есть в нем поразительного и прекрасного. Чтобы выразить этот мир, этот смех, тоже нужна скрипка – единственный инструмент в мире, который может плакать, как человек. Если бы можно было собрать мир в горсть, зачерпнуть его, как свежую воду из ручья, и поднести к ее губам… Пусть его не удержать целиком, пусть что-то расплещется, утечет сквозь пальцы – все равно так хочется взять вселенную в ладони, и отдать женщине, которую любишь. Она стоит у окна туманным утром, зевая и ероша волосы – длинная белая рубашка сползает с плеча, раскрывает округлившиеся груди: их страшно целовать теперь, и сладко – в буквальном смысле, потому что в них начало уже приходить молоко. Она дремлет рядом ночью, ворочаясь время от времени, чтобы устроиться поудобнее – такая теплая, и сильная, и с такой нежной упругой кожей, что нет сил сдержаться и не прикоснуться к бедру, не прижаться губами к плечу. Он отстраняется, напуганный своей дерзостью – остановленный паническим страхом повредить ей, страхом, который он не может усмирить. Но она чувствует его прикосновения сквозь дрему, и поворачивается к нему с улыбкой, не открывая глаз – не потому, что ей неприятно его открытое лицо, просто ей слишком уютно, чтобы вот так сразу проснуться. Она ловит его руку, и сплетает свои пальцы с его, и кладет его ладонь на свой живот. Не только для того, чтобы он мог ощутить движения их ребенка – движения, которые каждый раз заставляют его замирать от ужаса, и благоговения, и снова и снова говорить себе – это правда, это в самом деле происходит с ним, это все не сон, не затянувшаяся греза. Ей просто нравится прикосновение его руки – она коротко вздыхает, и открывает наконец глаза, и произносит его имя, и прижимается губами к его плечу, и проводит рукой по его бедрам. Она делает смешную гримасу, и толкает его спиной на подушки, и говорит: “Я такая стала толстуха – мне придется отправиться наверх”, и принимает его в себя. Он смотрит, зачарованный, как она движется над ним, такая красивая, с полузакрытыми глазами, прикусив слегка нижнюю губу, и то, что он чувствует, нельзя описать словами. И не только в тепле ее и щедрости дело, не только в том, как она касается его, и целует, и улыбается – словам его, или взгляду, или просто так, без причины, каким-то хорошим своим мыслям. Дело в том, как она смотрит на него, словно глазам не верит, и подходит время от времени просто так, просто чтобы прижаться на секунду, и потереться щекой о щеку – и ей неважно, о какую, левую или правую, какая подвернется, и ему остается только зажмуриться быстро, чтобы удержать непрошенные слезы… Дело в том, что она, очевидно, счастлива с ним. Его женщина. Его возлюбленная. Его жена. Все это так странно для человека, который еще год назад поцелуй, данный из жалости, считал единственной милостью, отпущенной ему небом, и величайшим счастьем своей жизни. Его жизнь, его прошлая жизнь теперь так далеко от него – словно в перевернутый бинокль смотришь. Она стала стремительно удаляться еще в тот момент, когда он, отрешенно и не без некоторого стороннего любопытства увидел, как побледнело лицо бедного мальчишки-полицейского, услышал странный звук, который издало его цыплячье горло – он словно с тошнотой боролся. Люди всегда так реагировали на открытое лицо Эрика – пугались, бледнели, отшатывались. Он никогда – в самом деле никогда – не делал этого сам: его лицо всегда обнажали другие. Хозяева в цирке. Кристина в подземелье. Кристина на сцене. Эрик знал, что ему придется снять маску – задумал это с самого начала, и еще постарался сделать контраст поэффектнее. Он думал, что ему будет больно. Он готовился к унижению. Ждал, что у него будут дрожать руки, что сердце остановится на секунду, как это всегда бывало в прошлом – каждый раз за решеткой цирковой клетки, каждый раз под тонкими пальцами Кристины. Он сделал это так спокойно – как свечу задул. Его выбор был так прост – даже и не выбор, собственно: что такое возможность освободить Джен по сравнению с секундой унижения? Привычные ужас и отвращение на лице постороннего не вызвали у Эрика привычной боли. Он на них рассчитывал, он их добивался. И он достиг цели – инспектор Маррен не задал ему больше ни одного вопроса. Он выскочил из особняка, как заяц, и уже через час отозвал соглядатаев. Что-то должно было сильно измениться в его душе, если он, не колеблясь, смог проклятье свое использовать, как оружие. Дальнейшее было похоже на сон – только во сне так гладко стелется перед тобой дорога, так хорошо ложатся карты и всегда дует попутный ветер. Он пробыл в Париже еще неделю перед тем, как сесть на тот же поезд до Кале и пересечь Ла Манш на пароме. Ночное путешествие, подернутые утренней дымкой белые утесы Дувра, поезд в Лондон, вокзал – огромный пронизанный солнцем полуциркульный свод, графичные тени от ажурной решетки, тысячами тысяч ног истертый каменный пол. Кэб до Ковент-Гардена – цветочницы, овощные лотки, кукольный театр, в котором носатая женщина с верещаньем нещадно лупила своего столь же носатого муженька, скрипач на ступенях старой церкви. В этот момент он впервые почувствовал, что скрипка, именно скрипка будет его голосом этой осенью. Никому больше – и Джен особенно – он не может доверить свою нежность, свое изумление, и свой страх… Отель на Стренде, напротив театра “Савой” – Джен ждет его здесь, и сказала, чуть дрогнувшими губами, что будет ждать столько, сколько понадобится – как бы не обернулись дела в Париже – хоть всю жизнь в скучном номере отеля, выходящем окнами на шумную улицу. Встретившись наконец, они вели себя, право, дико – одежду, разбросанную по всему номеру, еще можно было убрать. Но разбитая ваза с цветами – ваза, которая пала жертвой их судорожных объятий у стены, возле зеркала… Чтобы не ждать троекратного оглашения и не возиться с лицензией на брак – Эрик смутно представлял себе, как скоро может получить ее жених-иностранец, – они венчались в Шотландии. В Гретна-Грин – этом странном местечке, которое, кажется, только и существует, чтобы принимать беглых влюбленных из Англии. Ему-то было все равно, а вот Джен не могла сдержать нервного смеха: она всегда думала, будто в Гретна-Грин женятся только пары из романов для дам – кто бы мог подумать, что она сама будет тут венчаться. Она была невероятно хороша в этот день – в сиреневом платье, в шляпке с белой вуалью, с букетиком белого вереска в чуть дрожащих руках. Это оказалось так странно – надевать на возлюбленную кольцо, и чувствовать, как на твой собственный палец навеки ложится желанная тяжесть широкого золотого ободка. Так странно откидывать с любимого лица вуаль, и заглядывать в глаза, и целовать знакомые губы в новом качестве – с новым правом. Джанет заметно нервничала по дороге к своему отцу и братьям, и не зря: они достаточно времени и средств потратили, решая проблемы с ее первым мужем, и конечно дико было, едва овдовев, явиться домой с новым, весьма необычным супругом, да еще и на сносях. Их обоих спасла приверженность Росса Андерсона старым традициями своей страны. В древней Шотландии женщина, выбрав жениха менее родовитого, чем она сама, имела право дать ему свою фамилию. Каким-то образом Андерсонстарший применил это правило к Джанет и Эрику – у него выходило, что выбор дочери в каком-то смысле подпадает под давний обычай. С братьями – Хэмишем и Малколмом, Дуглас находился в Индии вместе со своим полком, – было чуть сложнее: они некоторое время смотрели на Эрика, мягко говоря, настороженно. Их сердца смягчила Джен. Они всегда баловали свою сестричку – они не могли долго сердиться на нее, когда она была так откровенно счастлива. Чтобы не стеснять братьев, и не привлекать лишний раз внимания к своему странному браку, и не ставить нелюдимого мужа перед необходимостью вот так сразу жить с чужими, Джен попросила отца посоветовать им уединенный дом. Небольшой, на склоне холма над Лох-Ломондом коттедж был очень, очень старым. Из подслеповатых, с косыми переплетами окошек видна была синяя гладь воды, некоторые стекла были цветными и от них на дощатый пол падали яркие пятна. Открытый камин на огромной, как зала, кухне помнил, несомненно, как над ним на вертеле жарили целых кабанов, и скрипела лестница, а в спальне на втором этаже Эрик мог, подняв руку, потрогать открытую дубовую балку на потолке, и очень трудно было затащить в такую глушь рояль. Слуг решили не селить в доме – Джен объявила, что будет готовить сама: “Эрик, меня воспитывали как настоящую леди. А это, между прочим, значит, что я умею шить и прекрасно могу обойтись без кухарки!” В большинстве случаев, правда, Эрик выгонял ее с кухни – ее-то учили готовить в детстве, а он и в самом деле умел это делать… Раз в два дня к молодоженам приходила помочь по хозяйству румяная и любопытная Фиона Килнанн, вдовая сестра местного священника. Эрик в это время по возможности уходил в горы – даже Джен еще не полностью сознавала, до какой степени ему непривычна лишняя компания. Но на самом деле проблема не в том, что Эрик стесняется людей или его раздражает болтливая миссис Килнанн. Ему просто нужно время от времени побыть одному, среди этих разноцветных поющих холмов, и упасть на колени на влажный мох, сжав руки в кулаки и глядя невидящими глазами на яркий, чистый, такой безупречно счастливый мир вокруг, и простонать беззвучно бессвязную молитву. Он, который не верил никогда в милосердие неба, который словами “ангел” и “ад” бросался, как поэтическими метафорами, и с Богом вступал в разговор только для того, чтобы упрекнуть… Он готов теперь молится – иначе это не назовешь. Джен счастлива, как была, наверное, счастлива когда-то его юная беременная мать, которая с момента его рождения не была больше счастлива ни секунды. Его мать умерла, когда ему исполнилось пять – сколько ей было? Двадцать три? Меньше, чем Джанет теперь… Кристина счастлива была, пока он не вернулся в Париж и не опалил ее дыханием своей страсти. Она умерла. Мать Джен была счастлива – и умерла. Его мать была несчастна – и умерла… О, Эрику есть, о чем просить это холодное синее небо. О том, чтобы Господь пощадил его дитя. О том, чтобы Джен все равно была счастлива – даже когда случится то, что случится. Чтобы не наказали его силы небесные за то, что он осмелился связать другую жизнь со своею – чтобы не сделали судьбу этой женщины частью его проклятья. О том, чтобы она осталась с ним – чтобы была жива… Он не вынесет больше потерь – ему неоткуда взять силы. Для себя – неоткуда. Только для нее. Потому что он опять сделал то, чего боялся – все свои силы, все надежды, всего себя навесил, как пальто на гвоздь, на одну женщину, и на этот раз ему не вынести, если все это рухнет. Не второй раз в жизни. Не с женщиной, которая любит его – которая стала частью его. Он молится о том, чтобы сияющий мир этот не рухнул ему на плечи, ломая хребет, когда придет время. Чтобы у него хватило сил удержать, не подпустить к Джен черный хаос, в котором он жил всегда, чтобы она даже не заметила тьмы, скользящей от нее в половине шага. Ему кажется, что между этой гулкой бездной и ее веселым смехом стоит только он, Эрик – только его упрямство, его знаменитое упрямство может остановить то, что порой кажется ему неизбежным. Он сделает все, что в его силах – он всю душу свою положит на это: он будет счастлив, черт подери, счастлив. Глядя в лицо Джен, прикасаясь к ее животу, чувствуя толчки своего ребенка он ни на секунду не допустит мысли, что все это обман, иллюзия, секунда света в вечности тьмы. Он не будет слушать рыдания скрипок – он властвует над музыкой своего мира, и он заставит их смеяться. Глава 28. Новая жизнь. Шотландия, декабрь 1885 года. Склоны холмов припорошены снегом – в последнюю неделю он шел непрерывно, и теперь кажется, что белые шапки дальних гор просто сползли в долину. Сегодня с утра было солнце, и оно сверкало на снегу так ярко, что слезились глаза, и на легком ветерке едва заметно колыхалась, отбрасывая на снежный покров фиолетовые тени, высокая сухая трава. Чем ниже спускается к горизонту солнце, тем тени длиннее. Пять часов пополудни. Скоро солнце упадет за холм, и наступит холодная тьма. Эрик специально думает об этом – он заставляет себя смотреть, замечать все, что происходит вокруг, вне стен дома. Иначе он сойдет с ума. До ближайшей деревни, Бонхилл, пешком можно дойти за полчаса. Он добрался за десять минут – не заметил ни холода, ни льда на дороге. Как хорошо, что за прошедшие месяцы он дал себе труд научиться как следует говорить на той абракадабре, которую они здесь считают английским языком, и понимать ее. Ему не составило труда объяснить Финнесу, хозяину гостиницы, что ему нужны на время две лошади. И он смог легко объяснить Грейс Макнамаре, зачем пришел. Впрочем, она, наверное, и без слов его поняла бы. Мало ли местная повитуха видела таких, как он, зеленых от страха, с трясущимися руками мужей? Ей стоило только бросить на него – расхристанного, без шейного платка, без жилетки, в наспех накинутом и незастегнутом сюртуке – один взгляд маленьких, умных и улыбчивых черных глаз, и засобираться в путь. Она взяла с собой сестру, Сару – в доме, где нет больше женских рук, ее помощь была не лишней. Добрые женщины что-то говорили ему, пока он вел их лошадей под уздцы по узкой тропинке, ведущей из деревни вверх, к дому. Успокаивали, наверное. Но Эрик, признаться, их не слышал. Он считал секунды, которые тратят лошади на каждый шаг. Если бы в силах был замечать что-нибудь вокруг, считал бы, наверное, придорожные камни и сучки на деревьях. Все, что угодно, все, что служит вехой, которая говорит – они движутся вперед. Они почти уже пришли. Он вернулся через сорок минут – ему казалось, что прошла вечность. После этого он словно стал невидимкой – до такой степени в стороне от происходящих событий оставили его заполонившие дом женщины. Он не причем здесь, он ничего не может сделать. Он бесполезен – только под ногами путается. Женщины кипятили, как положено, воду, бегали в бельевую за простынями и полотенцами, о чем-то болтали и смеялись. Вооружившись всем необходимым, они скрылись в спальне, оставив его в коридоре перед закрытой дверью. Здесь Эрик и стоит теперь, прижавшись к стене, и смотрит невидящими глазами в окно, где стремительно гаснет зимний день, и бессильно скребет ногтями штукатурку у себя за спиной. Он дрожит всем телом – его колотит, как в лихорадке. Он весь обратился в слух – он должен знать, что происходит за чертовой дверью, и не хочет знать ничего. Так бывает – ты не можешь смотреть на то, что причиняет тебе боль, и не в силах отвести глаз. С ним было так на крыше Оперы, когда Кристина целовала Рауля. Только не это. Только не Кристина. Он не будет, не хочет, не станет вспоминать теперь. Он не станет сравнивать. Нет такого закона, чтобы все дурное обязательно повторялось. Джанет – не Кристина. Это его ребенок, а не Рауля. У них все будет по-другому. Есть ли во вселенной что-нибудь страшнее бессилия – страшнее невозможности помочь? И есть ли беспомощность хуже этой? Весь день сегодня Джанет была какая-то кислая – жаловалась, что спина болит и что ее мутит немножко. В глубине души Эрик нисколько не удивлялся – вольно ей было накануне носиться по всему дому, развешивая дурацкие рождественские венки и хлопоча с прочей праздничной ерундой. Спору нет – Рождество прекрасно, хотя его представления об этом празднике носили всегда характер сторонних наблюдений. Но для Джен было важно устроить какое-то веселье – устроить все так, или хотя бы отчасти так, как это было у нее в детстве. Так или иначе, не было ничего удивительного в том, что она устала. Что захотела прилечь на диван в небольшой гостиной и попросила его поиграть ей чтонибудь. Он повиновался, и через полчаса, подняв голову от нот, увидел, что Джен бледна, хмурится и как будто что-то считает. А потом она посмотрела ему в глаза, улыбнулась и сказала, несколько смущенно, что, пожалуй, ему пора съездить в деревню за миссис Макнамарой. Когда они приехали, Джанет встречала их в дверях. Грейс бросила на нее один взгляд, покачала головой с шутливым укором, и спросила – почему Джен так тянула, не позвала ее раньше – давно уж было пора? Одна хотела со всем справиться? И Джен, хоть и бледная ужасно, хихикнула и сказала, что, видите ли, не сразу сообразила, что происходит. Эрику никогда, наверное, не удастся понять ее, понять, что там творится в ее светлой кудрявой голове. Ему страшно так, что к горлу подкатывает тошнота. А еще он… в ярости. Он зол на себя оттого, что стал причиной всего этого. Зол на себя за то, что ничем не может помочь. Зол на весь мир – потому что потерял над ним контроль. Он зол даже на Джен – за то, что она так далеко от него, и за то, что ей грозит опасность, в которой он виноват, и от которой он не может ее уберечь. Женщины уже больше часа возятся в спальне, и бог знает сколько еще будут возиться, и он все ждет того, что должно быть, и что разорвет ему сердце… Он, конечно, мало знает об этом – только то, что все знают, только то, что читал. Но он знает, что ей должно быть больно. Что ей трудно. Он готов – думает, что готов, – услышать ее плач. А она… Она смеется. Он слышит это из-за двери: женщины возятся, что-то переставляют, подбадривают друг друга, и Джен… пыхтит тихонько – иначе не скажешь, – и смеется. Как это может быть? И что это, черт возьми, должно значить? До Эрика доносится голос Грейс Макнамары: - Джен, детка ты моя умница, молодец… Да ты не стесняйся, покричи, если охота… Пауза, и Джен говорит, снова смущенно: - Да мне не хочется совсем кричать… А надо? Грейс хохочет: - Не надо, коли не больно – в этом деле правил нет, все по-своему справляются… Джен, чертовка, ну-ка ты погоди – обожди минутку. Обожди! И сдавленный несколько ответ Джен: - Ой – я не могу! Не могу ждать… - Надо – ну куда ты торопишься? Я не могу же остановиться! Ох, Бог с тобой – Сара, ну-ка помоги мне… Ну давай тогда, постарайся еще – чуточку осталось… Ой торопыга. Хотя и правильно – чего тянуть с этим делом? Давай, милая, давай… Молодец, ну еще… Вот наша головка уже видна… Ну давай в последний раз! Джен издает все-таки слабый вскрик – не боли, а скорее… удивления. Это не крик даже, а изумленное восклицание. Словно с ней произошло что-то невероятное – что-то, что она не совсем может осознать. Так ведь оно, на самом деле, и есть. Так быстро? Неужели все произошло так быстро? Тишина – несколько секунд тишины. Эрик смотрит в темное ночное небо за окном, и беззвучно шепчет в пустоту: пожалуйста. Пожалуйста, Господи. Не ради меня – ради нее. Не наказывай ее за то, что она одна в мире меня полюбила. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста… Он переводит взгляд на дверь. Крепкая, старая дубовая дверь, темная, отполированная тысячами прикосновений – люди, которые жили здесь раньше, не особенно жаловали медную ручку. Они толкали дверь плечом, ладонью – детские ручки упирались в нее там, пониже, на уровне его бедра. Всю свою жизнь он ждал за дверью – подслушивая, подглядывая за тем, чего ему хотелось больше всего. Мать запиралась в своей комнате, чтобы лишний раз его не видеть: он часами сидел на полу в коридоре, тихо, чтобы она не знала, что он здесь, и все-таки вышла. Он смотрел на мир из-за решетки цирковой клетки – жестокий мир, склонный кидаться в него гнилыми фруктами, но все-таки другой, свободный. За досками театральных люков кипела жизнь – он слышал ее, слышал смех, перебранки, шаги хористок. Он слышал эту жизнь, но никогда не мог стать ее частью. Он ждал и за своей зеркальной дверью в гримерной – ждал девушку, которая была для него ключом в мир людей, самой жизнью, единственной надеждой. Он снова стоит за дверью. Там женщина, которая приняла его. Там его жизнь. Настоящая жизнь. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста… Короткий детский крик – похожий на громкое мяуканье и явно очень сердитый. Сердце Эрика останавливается – там, за дверью, есть теперь еще один человек. Как, оказывается, физически, всей своей кожей осознаешь это, как резко меняется, с ног на голову переворачивается мир, когда ты слышишь этот звук – крик своего ребенка. Ребенок. Его ребенок. Живой, настоящий, и сердитый – наверное, оттого, что все вокруг холодно и незнакомо. У него есть ребенок. Джен подарила ему ребенка. Новую жизнь принесла в мир, и новую жизнь подарила ему. Перед огромностью этого чуда на какую-то ослепительную секунду все остальное и правда кажется неважным… Что бы ни было. Уже через мгновение он снова напрягает слух – Грейс спрашивает весело: - Ну что, холодно тебе, девочка? Девочка. Грейс продолжает ворковать: - Конечно, конечно… Бедная малютка – куда, скажи, вы меня притащили?.. Хочешь к маме? На Джен, возьми – не бойся… Да лежи ты, дуреха – я тебе ее подам. Пауза. Джен смотрит на их ребенка, на их дочь – держит ее на руках. Что она видит? Почему молчит? Потом Джен снова смеется – на этот раз тихо, и очень мягко, и говорит: - Ну привет, малышка… Ты совсем на меня не похожа. Грейс отвечает, словно между делом: - Да, это папина дочка… Нет. Нет! - … вон и подбородок его, и волосики темные. На глазки не смотри – глазки потом цвет поменяют. Ну давай сюда свою красавицу – наиграешься еще. Дай я ее ополосну. Красавица. Эрик медленно сползает вниз по стене – садится на пол прямо там, где стоял, и закрывает лицо руками. По щекам текут слезы, которые он даже не пытается сдержать. - Глава 29. Битва жизни. Шотландия, декабрь 1885 года. Крошечное, неправдоподобно хрупкое существо – голова меньше его кулака, личико сердечком, верхняя губка обиженно выпячена, глазки с миниатюрными ресничками закрыты, и только слышно сопение: маленькая девочка утомлена совершенным только что путешествием в мир, мытьем и одеванием и теперь спит в колыбели, уже занявшей место в их спальне, рядом с кроватью. Джанет смотрит на нее, приподнявшись на локте: несмотря на строгие указания миссис Макнамары, она никак не может заставить себя лежать спокойно и все вертится, разглядывая дочку. Она протягивает палец, чтобы отодвинуть в сторонку край кружевного одеяльца – Эрику остается только гадать, откуда взялось все это детское приданое, Джен наволокла его в дом и хранила где-то вне поля его зрения, – и оборачивается к нему, застенчиво взъерошивая короткие кудри: - Наверное, я безумная мать, но мне кажется, что она ужасно хорошенькая. Это ерунда, младенцы не бывают хорошенькими, но она, по-моему, чудо. Смотри, она совсем не красная, и личико у нее гладкое, я думала она будет как сморщенная свеколка. Но вот и Грейс говорит, что да – она очень милый младенец… Эрик смотрит в колыбель молча. У него нет ни голоса, ни слов. Девочка, которую он видит перед собой, прекрасна в его глазах, как звезда – была бы прекрасна в любом случае, потому что существует, есть на самом деле, его дочь. И не ему задавать эти вопросы – хорошенькая ли она… Эрик прикрывает на секунду глаза, рука его машинально поднимается к лицу. О да, она совсем не красная, его девочка. У нее гладкое личико. Она здорова. Его дочь здорова. Будь она хоть сто раз похожа на свеклу, в мире нет младенца совершеннее. Джанет замечает жест Эрика и быстро ловит руку. Она знает, о чем он думает. Знает, о чем сама думала еще несколько часов назад. И возносит Деве Марии короткую молитву – благодарность за то, что все обошлось благополучно. И за то, что ей никогда не придется признаваться ему, как она боялась. Его пальцы так и не коснулись лица – она перехватила их в воздухе. Он открывает глаза, и бросает на нее короткий светлый взгляд, и по одному этому взгляду Джен понимает: Эрик знал, конечно, что она боялась, не меньше, чем он – а она видела его страхи, как бы он не старался их скрыть. Она видела – в моменты, когда Эрик думал, что она на него не смотрит, – как беззвучно шевелились его губы, и знала, о чем он просит. Она слышала, как он шепчет во сне – жалобно, как больной ребенок: «Мама, пожалуйста… Кристина, пожалуйста… Нет, нет, нет, нет!» Она никогда не будила его, просто брала его руку в свою и, просыпаясь утром, обнаруживала, что он так и не опустил ее пальцев. Странная они пара – играют в молчанку, но так же молча помогают друг другу. Потому что и ей было легче от того, что он держал ее за руку. Не так страшно. Не так одиноко. И теперь ей не нужно ничего говорить – и он не скажет. Есть химеры, которым лучше неназванными сгинуть в топкой трясине человеческих страхов. Эрик пожимает слегка ее руку и произносит едва слышно: - Это самая красивая девочка в мире. - Она похожа на тебя. Он невольно усмехается: - Ради бога, не начинай. Младенец, которому всего пара часов от роду, не может быть ни на кого похож. - У нее твой подбородок – видишь ямочку? - Зато у нее твой нос – видишь, какой длинный? - Эрик! - Что? У тебя прекрасный, длинный аристократический нос. За этот нос тебе и дали роль грузинской принцессы. - Ты меня даже не видел, когда писал свою оперу. - Но я тебя слышал. – На секунду Джен кажется, что он стал серьезен, но он тут же поднимает одну бровь… привычка, которая ее бесит, потому что она так не умеет, и продолжает. – И по голосу было ясно, что у тебя длинный нос. Он замолкает, неотрывно глядя на девочку, его лицо приобретает отсутствующее выражение. Джен наблюдает за ним: как подрагивают его брови, опускаются уголки губ. Он вспоминает ночь, о которой никогда не рассказывал ей подробно – упомянул только один раз, когда напомнил старую песню и сказал, что любит ее. Но Джен умеет складывать два и два – она помнит единственный раз в своей жизни, когда пела эту грустную песню в Гранд Опера. Она зашла в часовню, расположенную в полуподвальном помещении театра, просто чтобы осмотреться – она прибыла в Париж недавно, будучи приглашена на второстепенную партию в «Норме», и прогуливалась по незнакомому зданию. Почему ей пришло в голову запеть – Бог знает: место показалось ей удивительно печальным, и она как-то вдруг заскучала по дому… Было раннее утро, театр почти пуст. Только на сцене наверху возились рабочие, отодвигая в сторону декорации «Франчески да Римини»: до вечернего представления было еще далеко, и на сцене должна была пройти дневная репетиция какого-то балета. Она слушала «Франческу» два вечера назад, из-за кулис… Ей очень понравилась опера, и она помнит, как сказала в шутку Маргерит Жири: «Вот так всегда, такая чудесная музыка, а для меня партии нет!» Так странно было понимать теперь, что это была опера Эрика – что сам он был в театре в тот вечер. Что Кристина была там – Джен вполне могла ее видеть, просто она никого не знала в Париже и все равно никогда не обратила бы внимания – с чего вдруг? Странно понимать, что в ту же ночь графиня де Шаньи умерла – словно освободила ей место. Господи, как ужасно, как гадко это звучит… Так странно понимать, что Эрик был в театре в то утро, когда она, любуясь цветными солнечными лучами в витражном окне часовни, вспоминала детскую влюбленность в отцовского работника. Что он услышал ее, когда лежал в прострации в своем подвале, мечтая умереть вслед за Кристиной. Они ведь могли бы встретиться тогда. Но, наверное, хорошо, что не встретились. Что бы он не говорил теперь о голосе Джен, о том, что она помогла ему выжить – разве до нее ему было бы в то время? Да и она – это теперь ей кажется, что она не могла не полюбить его. Но на самом деле – за ней ухаживал в то время один банкир, и она думала даже, что увлечена. Она была совсем другой тогда – теперь, возвращаясь мыслями в прошлое, она понимает, что все началось даже не в тот вечер, когда она встретила Эрика на лестнице Оперы. На самом деле все началось в тот день, когда ей прислали из театра партитуру «Синего чудовища». Джен раскрыла ноты – и словно в омут, окунулась в музыку, с изумлением, с недоверием и каким-то даже суеверным ужасом понимая, что партия героини написана не просто для контральто, но для именно ее, Джанет Андерсон, голоса, и что партия эта великолепна, и что музыку эту невозможно будет забыть. Это показалось ей чудом – опера, которая будто для нее написана, подарок, который не каждая певица получает… Теперь она знает, что это не случайно произошло. Что Эрик, как это ни странно, подготовил их встречу – и саму Джен подготовил к тому, чтобы влюбиться в него. Она сумасшедшая, наверное, но теперь ей кажется, что Эрик, как дух незримый, стоял за всеми событиями ее жизни, направлял ее судьбу. Ну в каком-то смысле так и есть – их ведь соединила музыка, его владение, его царство, его инструмент, вселенная, которой он один управляет. Он говорит, что она спасла его. Но ведь и обратное верно… Он изменил ее жизнь – дал ей вещи, о которых она меньше года назад даже не мечтала. Не только идеальную оперу. Необычную, словно в книжках, любовь. Свободу. Ребенка – она ведь искренне полагала, расставшись с Витторио, что ребенка у нее никогда не будет. Джен все еще держит его руку, и в этот момент она импульсивно подносит ее к губам и говорит тихо: - Я так тебе благодарна. Эрик переводит взгляд с детской кроватки на лицо жены. Он выглядит удивленным – мысли его были где-то далеко: - Благодарна? За что? Джен пожимает плечами – она не может объяснить: - За все. За себя. За нее… - Благодарить тебя должен я. Джен трясет головой: Нет… Я не могу объяснить, не наговорив глупостей. Я просто хочу, чтобы ты понимал… Ты столько раз удивлялся тому, что я с тобой, что ты мне нужен. Но я чувствую то же самое. Понимаешь? Он молчит несколько секунд. Что он может ответить? Честный ответ – нет. На самом деле он не может понять, не может до конца поверить в то, что она не просто терпит его, что не плывет по течению, которое свело их вместе, что не жалость заставляет ее быть с ним. Просто она добрее, чем его мать, и не запирает дверь. Она взрослее, чем Кристина, и не отвергает его любви. Просто она позволяет ему быть рядом, и позволяет поделиться с ней тем, что есть в его сердце. Любовью. И болью. Он не находит слов, и просто целует ее в макушку. В конце концов, это не так уж важно – найти для всего словесную форму. Нет таких слов, чтобы объяснить, как он себя теперь ощущает. Он не просто не одинок больше – не просто принят ею, и миром вокруг. Он чувствует себя… целым. Словно мозаика, в которую вставили недостающие части. Это странно, и хорошо, и это пугает немного – потому что совершенно непонятно, как ему жить теперь, когда не надо больше страдать, и доказывать что-то людям, и биться, и вставать, получая удары. Он выиграл битву жизни – он стоит на поле боя, и трофеи его с ним. И он растерян. Так тихо. Только огонь в камине трещит, и ворчит тихонько во сне их дочь. Грейс уже послала в деревню за молоком – у Джен его не будет еще пару дней, и пока надо давать девочке коровье молоко, слегка его разбавив. Утром из Бонхилла придет Абигайль – младшая дочка Грейс Макнамары, она будет помогать им с малышкой. Он протягивает руку к колыбели и тихонько, одним пальцем прикасается к голове ребенка. Его ладонь кажется такой огромной, а у нее такая нежная кожа, и такие мягкие, шелковистые волосики – он в жизни не трогал ничего мягче, и теплее. Она хмурится во сне – такая крошка, но уже умеет выражать свое недовольство. Он прикасается к ее кулачку – она выпростала ручку из пеленки. Не просыпаясь, дочка хватает его за палец. Наверное, рано или поздно он привыкнет к этому, и его сердце не будет каждый раз останавливаться. Хорошо бы – потому что так можно и умереть. Эрик кашляет, чтобы как-то отвлечься, и нарушить зачарованное настроение, и переводит взгляд на Джен. У них есть практические вопросы: - Как мы ее назовем? Они не обсуждали это – не придумывали имени своему ребенку. Это было частью их страхов – суеверное нежелание говорить о том, что так хрупко. Джен вдруг краснеет, и опускает глаза, и отвечает неловко: - Не знаю. Ты выбирай… Эрик улыбается, продолжая одним пальцем гладить детский лобик. Джен смотрит на него, затаив дыхание и собрав волю в кулак. Она знает, что он сейчас скажет. «Кристина». Она готова к этому, и она смирилась… Он не может поступить по-другому, и она сказала себе, что простит его. Она не должна отказывать ему в такой малости – она не станет отнимать у него его прошлое. Наконец он нарушает молчание: - Хэтер. Heather. Так ведь, кажется, по-английски будет «вереск»? - Хэтер? – Джанет не может совладать с изумлением в голосе. – Но почему? - Эрик слегка разводит руками: - Твои волосы пахнут вереском. Я сразу подумал об этом, когда увидел тебя… – В голосе его появляется беспокойство. – А что? Разве так нельзя? Мне казалось, здесь называют так детей?.. Теперь уже Джен не находит слов, чтобы ответить ему – никогда, ничем он еще так ее не удивлял. Не Кристина, не погибшая его любовь пришла ему в голову, а она – запах ее волос, цветок, который он так неловко и нежно дарил ей на протяжении нескольких месяцев. Совершенно неожиданно для себя, она начинает плакать – нелепо, подетски, вытирая лицо рукой, и тряся головой, чтобы показать ему – это ничего, я сейчас перестану. Он реагирует мгновенно: обнимает ее за плечи, прижимает к груди, и шепчет, целуя в волосы, что все хорошо, она просто устала, и ей нужно успокоиться, и они завтра придумают имя, если ей не нравится это. Наверное, он прав – ей действительно надо поспать. Успокоиться. На самом деле, она и правда устала… еще бы. Джен вытирает глаза его рубашкой, и поднимает лицо, чтобы поцеловать его подбородок – куда дотянулась, и говорит: - Это чудесное имя. Мне очень нравится… Просто я не думала… Я думала… – Лучше промолчать – совсем не хочется теперь ляпнуть лишнего. Она закрывает глаза, и шепчет еще раз. – Спасибо. Она спит, и дочка их спит. За окном всходит луна, и Эрик задумчиво смотрит на ее серебристый диск. На лице его – неожиданно сумрачное выражение. Тихое дыхание, уютная комната, спокойная ночь. Поле выигранной битвы. Победить в битве – не значит выиграть войну. Глава 30. Все утра мира. Шотландия, декабрь 1885 года. Ему придется привыкать к тому, что в доме теперь всегда будут чужие люди. Эта простая мысль приходит Эрику в голову, когда он, стараясь не скрипеть ступеньками, спускается вниз, на кухню. Грейс Макнамара сидит за большим столом, спиной к камину. Перед ней стоит горячий чай: пар поднимается над краем толстой фарфоровой чашки с синим ободком. Услышав его шаги, пожилая женщина поворачивает голову и улыбается: - Идите сюда, мистер Эрик. – Они все здесь в деревне зовут его так, по имени – они не в силах запомнить и произнести фамилию, которую он себе придумал. – Садитесь, я налью и вам чашечку. Вам тоже надо бы выпить чаю – отцы всегда в таких делах больше всех волнуются. Эрик неохотно садится к столу – честно говоря, он ненавидит чай и не понимает, что все эти люди в нем находят. Но возражать у него нет сил, и он послушно принимает от Грейс дымящуюся кружку. Странным образом сейчас крепкий горячий напиток с запахом бергамота кажется ему вкуснее, чем обычно – от него и правда проясняется голова, и сердце начинает биться ровнее. Несколько минут они сидят в молчании – уютная толстушка с аккуратно зачесанными седыми вьющимися волосами и большой мужчина в растрепанных чувствах, неловко вертящий в пальцах нагретый кипятком фарфор. Неожиданно Грейс снова подает голос: - Эко вас скрутило… Все позади, мистер Эрик. Все хорошо. Вот что, – она снова встает, и направляется к буфетному шкафу. – Вам надо, я чувствую, не чаю выпить, а чего-нибудь покрепче. В руках у повитухи оказывается бутылка с виски. Эрик качает было головой – с того дня, когда Джен упрекнула его в том, что он зря расходует благородный напиток, он не прикасался к скотчу. Но миссис Макнамара возражений не слушает: наливает ему в стакан на два пальца, и себя не обижает. - Пейте. Вы стали сегодня отцом чудесной девчонки – вам сам бог велел отпраздновать. Эрик пьет неторопливо, стараясь распробовать вкус, оценить все, о чем говорила Джен – все те недели труда и особенности перегонки, все те сложные нотки, которые придала напитку выдержка. Это и правда совсем другое дело, чем пить залпом, чтобы забыть все на свете. Сегодняшний вечер он хочет помнить во всех подробностях… Он осушает стакан и откидывается на спинку стула, устало закрыв глаза. Перед ним, как в калейдоскопе, проносятся картины прошедшего дня, но благодаря волшебному действию крепкого, словно чуть сладковатого виски все они теперь от него чуть-чуть отдалились – будто дымкой затянуло… Господи, как же он перепугался. Из забытья его выводит уютный голос Грейс – женщина говорит мягко, как с ребенком: - Ну вот и славно. Хоть чуточку вы расслабились – а то на вас лица нет. Губы Эрика кривятся в привычной гримасе. Лица нет – о да, это как раз про него. Привычным жестом он поднимает руку к щеке – и замирает. На нем нет маски. Все это время на нем нет маски. Не было ее весь день: он не надел ее утром, он был без нее, когда играл для Джен… Он без маски ходил в деревню, беседовал с трактирщиком и конюхом, он был без маски, когда вез сюда Грейс и Сару… И ни один человек не шарахнулся от него… никто даже не удивился. Что за дикие в этой стране люди! Прятаться теперь глупо – повитуха успела рассмотреть его во всех подробностях. Эрик опускает руку, кладет ладони на край стола. Пальцы его заметно дрожат. Он не в силах поднять взгляд. Что она должна была подумать, эта милая старушка с проницательными черными глазами? Какого младенца она ожидала принять, когда так весело переговаривалась с Джен там, наверху? Грейс словно не замечает его смущения – говорит все так же ласково: - Не стоило так переживать. Ну, ну… вон до сих пор руки дрожат. Может, еще вам налить? Эрик безмолвно качает головой. Сцепив руки, чтобы дрожь в них была не так заметна, он поднимает наконец взгляд: - Я вам так благодарен. Вы правы, я очень… Очень беспокоился. Миссис Макнамара весело фыркает: - Беспокоился он! Деликатное выражение – даром что француз… Да вы весь зеленый были – хуже жены. А из-за чего? Джанет крепкая женщина, и родила в срок – пусть и чересчур быстро. Волноваться-то не о чем было. Не может же он, в самом деле, сказать – я любил прежде женщину, которая умерла в родах? Я боялся, что Джанет не сможет без слез взглянуть на нашего ребенка, как моя мать не могла смотреть на меня? Вместо этого Эрик говорит осторожно: - Всякое… могло случиться. Грейс отвечает назидательно – и в голосе ее звучит оттенок гордости: - У хорошей повитухи, дорогой мой, ничего не может случиться, а я уж слава богу повитуха неплохая – сорок лет занимаюсь этим ремеслом. – Она делает паузу, и отхлебывает еще раз из стакана виски, смотрит на Эрика внимательно. Он чувствует ее изучающий взгляд, и только усилием воли удерживает руки на столе – не тянется закрывать ими лицо. Насмотревшись вдоволь, Грейс говорит задумчиво. – Да… А вот той стерве, что вас принимала, надо было бы руки отрубить. Эрик вскидывает на нее взгляд. О чем она говорит? Черные глазки старой шотландки смотрят на него со спокойным сочувствием: - Бедная ваша матушка. Тяжко ей пришлось. Эрик взирает на Грейс в полном недоумении. Она имеет в виду, очевидно, его лицо, и где-то на задворках сознания у него теплится мысль – прежний Эрик давно уже задушил бы болтливую старуху. Но новый Эрик ведет себя цивилизованно – или хотя бы старается, и потому, взяв себя в руки и подавив тошнотворный приступ ярости, он спрашивает очень ровным и обманчивоспокойным тоном: - Что вы имеете в виду, миссис Макнамара? Не моргнув глазом, она отвечает: - То, что у вас с лицом, мистер Эрик. Эрик сжимает край стола так, что костяшки пальцев бледнеют: - Я такой родился. - Что? – В вопросе Грейс Макнамары звучит неподдельное изумление. – Это кто ж вам сказал такое? - Моя… мать. Грейс возмущенно цокает языком: - Да что же это? Как же ей сердца хватило, сказать такое ребенку? Эрик мотает головой, стараясь стряхнуть наваждение – не может быть, чтобы этот разговор происходил на самом деле, это ночной кошмар… Он поднимает на повитуху полный боли взгляд и говорит – резко, словно рыча: - Моя мать сказала мне правду. Я такой родился. Она не знала, почему. Она была молода, и бедна, и мой отец умер… Она волновалась. У нее были тяжелые роды. Она была очень хрупкой – очень тоненькой. Она чуть не умерла. – Голос Эрика опускается до шепота – гнев, который овладел им так внезапно, так же неожиданно отступает, оставляя его опустошенным. О ком он говорит теперь – о матери своей? О Кристине? О матери… У Кристины родился крепкий, хорошенький мальчик… – Она говорила, что я ее наказание. Может, я просто богом проклят. Он молчит. Грейс встает из-за стола, подходит к нему, и становится рядом: - Ну-ка поднимите голову… К свету обернитесь. Словно под гипнозом, Эрик повинуется – поднимает лицо к свету, инстинктивно зажмурившись, и чувствует на увечной щеке прикосновение сухой старческой ладони. Грейс прослеживает пальцами все неровности его кожи, его асимметричную скулу. Потом она говорит – очень спокойно: - Ну вот что, дорогой мой. Я говорила тебе уже, что сорок лет принимаю ребятишек, которые приходят в этот мир, и поверь мне, я много всего навидалась. Не знаю уж, что тебе говорила мать, но твое лицо мне яснее ясного рассказывает о том, что произошло. Роды, говоришь, были тяжелые? Верю. Тебя щипцами тянули, и делал это какой-то коновал. Не знаю, что нужно было делать, чтобы младенцу скулу сломать и кожу содрать над глазом – вон шрам какой, все веко кривое… Я раз в жизни нечто подобное видела – но там ребеночек умер. Богом он проклят! Ты небо-то не гневи, ты везунчик еще тот – видать, крепкий был малыш, если выжил. Эрик открывает глаза – Грейс улыбается ему сверху вниз: - Ты что, дурачок, думал это болезнь какая? За дочку переживал? Бедный ты парень… Как же ты жизнь прожил, ничего о себе не зная? Живи Эрик сто лет – он не мог бы точнее задать вопрос. Как он жил, ничего о себе не зная? Как жила его мать? Она не могла обмануть его нарочно – было же у нее сердце! Видимо, ей не сказали – не объяснили… Кто бы ни был врач, принимавший роды у бедной, очень юной вдовы, он не сказал ей о том, что сделал ненароком с младенцем. Не проклятье, не печать дьявола – ошибка врача, слишком трусливого, чтобы признаться. И целая жизнь во мраке… Материнские слезы – горькие, тихие рыдания, которые он слышал каждую ночь из-за хлипкой стены старого дома. Ее взгляд, полный неприязни – она винила себя, его бедная мать, но вымещала гнев на нем. Она была такой молодой. Ей неоткуда было взять силы. Эта вина и убила ее – он никогда не забудет ее глухого кашля, и взгляда больших темных глаз, до последних секунд устремленных на него с упреком. С гневом. С жалостью. Ему было пять лет, когда она в последний раз посмотрела на него, и поправила на его щеке самодельную маску. После этого наступила тьма, от которой он очнулся только за решеткой цирковой клетки. На полу, под свист плетки, смех и визг публики. Насмешки, побои, унижения, ненависть к себе, ненависть к другим, одиночество. Растоптанная любовь. Все – не наказание божье, не ошибка природы, а вина человека. Эрик не может теперь сказать – труднее ему от этой правды, или легче. Не так это просто – в одночасье лишиться того, что составляло основу твоей жизни: убежденность в том, что ты – проклятое порождение тьмы. Нет. Не печать дьявола – просто шрамы. Не живой труп – просто жертва. Не демон темнокрылый – человек. И ошибки его, и вины – человеческие. И страдания его, и счастье, и музыка – человеческие. И любовь человеческая. И ребенок… Все – его собственное. Не подарок судьбы, не насмешка Провидения, не пряник вместо кнута. Все его – по простому праву. Потому что он человек. Он чувствует, что по щекам его текут слезы, и все еще ощущает на скуле прикосновение старой повитухи. Она воркует успокаивающе: Ну, ну… Полноте – полно. Чего ж теперь расстраиваться? Кто бы мог подумать, что ты не знал… Ну надо же случиться такому… И ведь кто-то же тебя потом еще разукрасил – тут, я вижу, словно ожог какой… Ох бедный мальчик. Что у тебя была за жизнь?.. Так странно – когда что-то хранится у тебя в памяти, годами скрытое за пеленой тьмы, и одного слова достаточно, чтобы ты вдруг ясно увидел это. Грейс Макнамара сказала – “бедная ваша мать”, и он словно заглянул ее глаза, вспомнил тонкие бледные руки с маской. Она сказала теперь слово “ожог” – и Эрик вздрогнул, вспомнив – увидев вдруг с отчетливостью, которой всегда отличаются ночные кошмары, – как бьется, криком заходится маленький мальчик, связанный, на кровати в какой-то палатке… Над ним склоняется страшный бородач с куском раскаленного металла… Этот мальчик – он, Эрик: пятилетний нищий сирота, которого нашли на улице цыгане. Уродец, которого они решили еще немного украсить… Чтобы продавать подороже. Словно клеймо на скотину поставили. Сколько лет он не давал себе вспомнить об этом? Тридцать с лишним. Долго же он скрывал сам от себя правду. Удобнее ему, что ли, было чувствовать себя нежитью? Ему нужно будет рассказать об этом Джен… Но это может и подождать: у нее есть теперь дела поважнее историй о его прошлом. Как и у него. Эрик медленно отстраняется от заботливого прикосновения Грейс. Он словно очнулся – успокоился, улыбается даже: - О, Грейс, у меня была очень интересная жизнь. Вам и не снилось... Грейс Макнамара качает головой – она шепчет что-то в полголоса. Может быть, опять “бедный мальчик”. Но Эрик уже не смотрит на нее – он замечает, что за окном стало светать: солнце перевалило за гребень холма, и окрасило снег под окнами в нежный розовый цвет. Какое чудесное утро… Сверху, из спальни, раздается младенческое ворчание – его дочь проснулась, и требует внимания. Джен что-то говорит девочке, он слышит гневливый ответ ребенка. Эрик всегда жил звуками – и теперь эти, новые звуки для него живее, значительнее, чем краски утра. Нет – вернее будет сказать подругому… Закрой он глаза, ослепни даже, и сохрани только способность слышать – веселый голос Джен, и мяуканье дочери… Он по звукам этим узнал бы, как выглядит это утро, как ослепительно блестит синий лох, какой рыжей кажется увядшая листва на почти голых ветвях деревьев, как сверкает в лучах солнца летящая с крыши снежная пыль. Она сверкает всеми цветами радуги. Всеми красками мира – как там у Шекспира в “Зимней сказке”, истории о ревнивом безумце, истории, по которой он написал оперу, благословляли девочку, чей отец помешался от ревности? “Но это ваша дочь! Как говорит пословица: "На вас Похожа так, что и смотреть противно!" Ведь это вы, лишь в уменьшенном виде: Глаза, и нос, и то, как хмурит бровки, И этот лоб высокий, и улыбка, И даже ручки, пальчики – ну все! - Природа-мать, великая богиня, Ей сходство даровавшая с отцом! Когда ты будешь создавать ей душу, Возьми все краски мира, кроме желтой, Да не внушит ей желчное безумье…” Желтый – цвет измены, безумия и ревности; желтого цвета не нужно в их жизни. Все остальные цвета есть в этом утре. Есть в этих голосах. И до тех пор, пока Эрик будет их слышать – в пении и в смехе, в гневе и упреках, в страсти и радости, веселые и грустные… До тех пор, пока рядом с ним будут звучать живые голоса людей, которых он любит – до тех пор ему будет принадлежать это сияющее утро, и утра других дней, туманных и седых, жарких и зябких, душных и свежих, суетных и ленивых, омытых дождями и полных шелестом листвы. Все утра мира. Эпилог. Любовь земная и небесная. Париж, май 1890 года Воскресное утро, и Булонский лес полон народу – открытые коляски едва могут разъехаться на широких аллеях, и всадникам приходится держаться газонов, чтобы лошадиные крупы не оказывались в опасной близости от дамских шляпок и зонтиков. Одна из колясок останавливается у небольшого кафе у поворота аллеи. Дамы выходят и устраиваются за одним из столов – к ним немедленно подбегает официант в полосатом переднике. Это очень красивые дамы – блондинки, одной около тридцати, второй чуть меньше. Они одеты сдержанно, но со вкусом – в духе дорогой простоты, о которой писал в этом скандальном русском романе об адюльтере русский граф Лео Толстой. Их сопровождают дети, мальчик и девочка пяти и четырех лет. Мальчик белокур, и его румяное лицо насуплено: мать только что отняла у него леденец, и теперь он жалобно ноет. Девочка ведет себя несколько лучше – она накручивает на пальчик темный локон, и смотрит по сторонам широко открытыми, любопытными серыми глазами. Ее мать – та дама, что постарше и повыше ростом, – знает, куда устремлен взгляд девочки. Она ищет отца. Право, иногда ей кажется, что эти двое цепью скованы – никуда друг без друга. Она наклоняется и говорит тихонько: - Не волнуйся. Он вон там, у того большого каштана, видишь? Вместе с папой Огюста, господином бароном. Девочка сосредоточенно кивает. В означенном месте, под каштаном, и правда видны фигуры двух всадников. Один – коренастый, с шикарными рыжими усами. Другой – высокий брюнет в аккуратной белой полумаске. На него время от времени кивают, стараясь, впрочем, делать это незаметно, проезжающие мимо люди. Их любопытство можно понять – самый знаменитый композитор Франции не часто появляется на публике вне театра. Дама помоложе смотрит в лицо подруге: - До сих пор не могу поверить в то, что с тобой произошло. Джанет Андерсон – мадам де Санном в тех случаях, когда ей не нужно пользоваться сценическим именем, – улыбается: - Пора бы уже, Мег. Все-таки прошло много лет. Баронесса Кастелло-Барбезак энергично качает головой – светлые локоны, как обычно, выбиваются из-под шляпки: - Тебе легко говорить. Ты все-таки тогда своего мужа не знала! А у меня в голове никак все это не укладывается. Джен только пожимает плечами. Она вряд ли может вот просто так, посреди летнего дня, в присутствии детей объяснить подруге свой необычный во всех отношениях брак. Объяснить, что ее муж – это не тот человек, которого Мег знала когда-то как Призрака Оперы, и в то же время тот самый, и в этом-то вся прелесть. Чтобы объяснить это, нужно рассказать о солнечных утрах на берегах ЛохЛомонда и о том, как Хэтер сделала свои первые шаги в высокой траве, и наступила босой ногой на шишку, и бросилась искать утешения на руках у отца. О том, в какой кошмар превращается под вечер кабинет Эрика – весь пол сплошь устлан исписанными нотными листами, потому что он, видите ли, работает одновременно над всеми возможными кусками партитуры, и потому раскладывает у себя под ногами чуть ли не всю оперу. О том, как быстро меняются в их доме горничные – каждая молоденькая девушка неизменно начинает заглядываться на маэстро, и отправляется на другой пост, чтобы избежать душевных драм. О том, каким ледяным взглядом Эрик одарил начальника декорационного цеха КовентГарден, когда тот ошибся в декорациях «Антония и Клеопатры» – оперы, которую Эрик подарил Джен на вторую годовщину свадьбы. О том, как позже, недовольно хмыкнув и почесав подбородок, скинул сюртук, засучил рукава и сам взял в руки кисть, чтобы пройтись по расстеленному по сцене гигантскому полотнищу задника. О том, как бледный от волнения сидел на премьере, слушая ее выступление, и даже согласился, в первый раз в жизни, выйти на поклон. О скандале, который разразился в Италии, где запретили его последнюю вещь – оперу о слишком земной любви Христа и Магдалины. Ее собираются ставить, с некоторыми купюрами, в Байрейте, и Джен будет в ней петь… Это через два месяца – она успеет. Зато потом ей придется заняться делом более важным... Хорошо бы на этот раз мальчика. Эрику нужен сын – каждому мужчине он нужен. Ей пришлось бы рассказать о буре на Ла-Манше – буре, во время которой она чуть не сошла с ума, оставаясь с Хэтер в туманном Лондоне, и поехала, как безумица, в Дувр, и сидела там в какой-то унылой гостинице, вглядываясь в мглистое море, и ждала вестей о корабле, на котором Эрик возвращался из Парижа, и клялась себе, что отныне всегда будет ездить вместе с ним. Как пришел утром корабль, и она встречала его в лучах солнца – они словно разыгрывали начало из «Отелло» Верди… Как смеялась потом сквозь слезы, слушая рассказ о встрече Эрика с теперь уже комиссаром Марреном. Бедный рыжий полицейский явился к нему с упреками: мол, вы обманули меня, мсье композитор, но теперь, когда дело давно закрыто, может бы вы скажете правду – вы ведь и в самом деле уже любили тогда свою нынешнюю жену? Эрик ответил ему, не моргнув глазом: «Напротив, любезный Маррен – я должен быть вам благодарен. Ваши подозрения как раз и заставили меня задуматься о несомненном очаровании мадам и о том, что у меня, возможно, есть надежда завоевать ее благосклонность…» Премьера «Отелло» в 1887-м тоже была бы частью этого рассказа. Эрик представил ее Бойто, у которого глаза были на мокром месте, и самому старику, который был так любезен, что сказал – она была идеальной леди Макбет, и Эболи, и Амнерис, лучших он никогда не слышал. Ей стоило бы упомянуть и Сен-Санса, который к Эрику пришел просить, чтобы Джен спела в новой постановке «Самсона и Далилы» – словно у мужа был патент на ее время и выбор репертуара. И их, Джен с Эриком, бесконечные игры – перечисление сюжетов, которые пригодны для того, чтобы он написал ей оперу. Калипсо, Цирцея, Дидона, Ариадна, Медея, Екатерина Великая, даже Мессалина – он тряс образами этих великих женщин у нее перед носом, каждый раз решая, что по тем или иными причинам ей это не подойдет. Нынче у него было две любимых идеи, из которых ему трудно было выбрать. «Венера и Адонис» – прекрасно, и драматично, и он же называл ее когдато Венерой. Или «Укрощение строптивой»? Тоже хорошо, и, судя по всему, Эрик склонится к этому – ему не терпится проверить, сможет ли он написать комическую оперу. Ей пришлось бы так же рассказать и о вещах, для которых нет в мире слов – по крайней мере не тех, что произносят вслух. Ей пришлось бы рассказать об их путешествии в Россию и о том, как Эрик возмущался бесконечно нелепой и уродливой архитектурой Мариинской оперы, и о песцовой шубе, которую он принес ей в подарок однажды вечером, и о том, что они делали, расстелив эту шубу на полу. О его губах на своей шее, затяжных поцелуях, которые оба прерывают, только чтобы не задохнуться, о руках, сжимающих ее ягодицы, о том, как вытягивается рядом с ней на постели его длинное, сильное тело, о его нежном рычании, о том, как она тонет в его прозрачных дымчатых глазах. О том, как каждый раз, приняв его в себя, снова, на ослепительный миг, такой же, как много лет назад в подвале Оперы, понимает: сейчас, вот в эту секунду она только и становится сама собой – находит свою истинную сущность, оживает, обретает свободу. О том, что она и без слов знает – он чувствует то же самое. О том, что он редко и неловко говорит о своих чувствах, но своей музыкой может сказать ей все, что угодно, и говорит. Что каждый исписанный им нотный лист – это целая вселенная, и что он позволяет ей быть его частью. За все блага мира она не согласилась бы, чтобы свет его глаз ушел из ее жизни – больше этого не скажешь словами. Да и стоит ли? Маргерит смотрит на нее пристально, и Джен чувствует, что на щеках ее появился румянец. Ее маленькая подруга знает, на самом деле, о чем речь. Мег сжимает тихонько ее руку: - Знаешь, я рада. Это очень странно, конечно. Но хорошо. Отставшие мужья присоединяются к ним за столом как раз в тот момент, когда Маргерит произносит эти слова. Эрик протягивает руку, чтобы мимоходом потрепать дочь по голове – девочка ластится к его ладони, как котенок, и он ей подмигивает. Барон Кастелло-Барбезак спрашивает: - Что именно хорошо? - Что они вернулись, наконец, в Париж. Сколько можно было сидеть в этой сырой Англии? Жаль только, что они не застали маму. Эрик настороженно поворачивает голову: - Мадам Жири? Что с ней? Мег смеется: - А то, что она больше не мадам Жири. Она мадам Лефевр. Видите ли, много лет назад директором Оперы был некто Лефевр – симпатичный такой господин с большими усами, ну точно как у Огюста. Он, оказывается, был увлечен с мамой, и в прошлом году он вернулся за ней из Франкфурта, и она согласилась за него выйти. Не думаю, что вы его знали – вы же не были тогда в Опере? Она смотрит прямо в глаза Эрику, невинно хлопая ресницами. Хитрюга. Он улыбается одними губами: - Напротив – я знал мсье Лефевра. Он очень достойный господин, и я рад за вашу маму. Надеюсь, вы передадите ей мои поздравления? Мег не успевает ответить – ее прерывает барон, который увидел что-то необычное на дальнем конце лужайки: - Ну надо же! Неужели он решил выбраться, наконец, в Париж! Эрик смотрит в направлении, указанном бароном, и сердце его пропускает удар. Высокий мужчина, с отличной выправкой, верхом на белой лошади. Светлые волосы аккуратно зачесаны назад, лицо до странности невеселое для такого чудесного весеннего дня. Рядом с ним, на пони – мальчик лет шести. Худенький, с копной темно-рыжих кудрей, и даже на таком расстоянии Эрик может поклясться, что у ребенка огромные, грустные шоколадные глаза. Эрик никогда раньше не встречал этого мальчика, но он узнает его. Он – копия матери, которую Эрик увидел когда-то такой же крошкой. Сын Кристины. Джен отвлекалась на секунду, и не заметила жеста барона – она спрашивает: - О ком вы говорите? Не замечая того, как меняется в лице Эрик, Кастелло-Барбезак отвечает: - О моем приятеле, графе Рауле де Шаньи. Бедняга так и не оправился до сих пор от смерти своей жены, хоть и прошло уже сколько – шесть лет? Шесть с половиной. Он сидит почти безвылазно в нормандском поместье, в Париже его редко можно увидеть. Мег вмешивается, стараясь исправить ситуацию – и делает только хуже: - Он был женат на моей подруге, Кристине – помнишь, я тебе про нее говорила. – Мег вспыхивает до корней волос. Была бы ее воля – она поймала бы свои слова и проглотила, но сделанного не воротишь. Глядя, как стремительно, прямо на глазах бледнеет Эрик, Джен остается только поддерживать видимость светской беседы – надеяться, что муж не сделает теперь чего-нибудь, о чем будет потом жалеть… Она говорит непринужденно: - А этот мальчик – его сын? Барон Кастелло-Барбезак, святая простота, отвечает с готовностью: - Да. Виконт Эрик-Кристиан. Пауза. Голос Эрика, обычно такой мелодичный, звучит непривычно глухо: - Как… – Он сглатывает, стараясь говорить без дрожи. – Какое необычное имя. Семейное имя де Шаньи? Маргерит в ужасе закрывает глаза. Джен закусывает губу. Барон поясняет: - О нет – ничего подобного. С этим именем связана, на самом деле, весьма романтическая история. Покойная графиня очень любила оперу – была даже, кажется, певицей. Как раз накануне рождения сына они с Раулем были в театре, и опера, которую они смотрели, произвела на Кристину огромное впечатление. И она, представьте себе, заставила мужа поклясться, что он назовет мальчика в честь композитора – автора той оперы. Второе имя у него в память жены. То есть мальчик, выходит, наполовину ваш тезка, де Санном. – Барон делает паузу – в глазах его брезжит понимание. – Погодите-ка… А не ваша ли была опера? Эрик судорожно сжимает ножку своего бокала. Такое странное чувство – солнечный день, мягкий ветерок, детские голоса, расслабленные люди в воскресном платье и суетливые официанты, вся эта сценка, словно сошедшая с полотен Ренуара, от него теперь далеко-далеко. В мгновение ока он оказался там, в своем прошлом, в переполненном театре, в зале, где рукоплещущая публика выкрикивает его имя, а он смотрит, не отводя глаз, на женщину, ради которой написал свою музыку – ради которой вернулся едва ли не с того света. Кристина. Узнала его. Приняла. Назвала, умирая, его именем своего сына. Она любила его. Эрик получил, наконец, ответ на вопрос, заданный ей когда-то на сцене во время «Триумфа Дона Жуана», ответ на фразу, посланную ей вслед, в полную слез тишину – «Я люблю тебя…» Она все-таки любила его. Эрик закрывает глаза – ему трудно смотреть на свет. Он должен бы теперь быть уничтожен. Он знает, теперь совершенно точно, что мог вернуть ее – мог любить ее. Он должен быть раздавлен чувством вины: он ведь не просто потерял Кристину – он предал ее. Остался жив. Написал новую музыку – без нее. Он ждет, замерев, что вот сейчас в его сердце поднимется, как мутные воды выходящей из берегов реки, черное, ядовитое отчаяние. Но вместо этого происходит другое. Она любила его – это знание стирает с его души, словно грязные разводы со стекла, годы сожалений, обид и несбывшихся надежд. Эрик видит теперь свое прошлое иначе: он замечает нежность там, где раньше была только жалость, улыбку там, где прежде были слезы. Она любила его – и от одной этой мысли прощание превращается в прощение. В ту ночь, когда он вернулся, в ту ночь, когда Кристина умерла, услышав его музыку, театр был полон не просто безликой толпой. Среди этой человеческой массы была Джанет – она уже тогда была рядом. У него перед глазами стоит Кристина, уходящая от него в своем перепачканном белом платье – но, когда она оборачивается, чтобы бросить на него сквозь слезы последний взгляд, у нее другое лицо. Это лицо Джен, и она никуда не собирается уходить. Кристина любила его – и, наверное, он чувствовал это, потому что не умер, отпустив ее с Раулем. Его сердце знало, что ему есть смысл биться – есть смысл бороться. И он начал бороться единственно возможным для себя способом – он стал писать музыку. И музыка, в конце концов, подарила ему Джен. Он никогда не встретил бы ее, не полюбил и не завоевал, если бы не Кристина. Он жил во тьме своего подземелья, одинокий бог тьмы, неуязвимый и несчастный, не зная человеческих слабостей. Как Зигфрид, он не ведал страха. Как Парсифаль, не имел представления о любви. Как Тангейзер, не знал раскаяния и не умел донести до людей звуки своих песен. Ради Кристины он прошел сквозь огонь, Кристина подарила ему первый человеческий поцелуй, и боль потери, и ради Кристины он научился делиться с миром своей музыкой. Она не смогла остаться с ним – но он не будет больше ни о чем сожалеть, он забудет свои упреки. Он будет ей благодарен. Потому что из его музыки, из ее зыбких звуков, из языков пламени и теней, которыми он умел наполнить ее, к Эрику пришла Джен. Как живая, смертная и исполненная непривычной нежности Брунгильда, которую обнаружил Зигфрид за стеной божественного огня. Как ведунья Кундри, целующая невинного Парсифаля в чаще девственных лесов. Как Венера на гребне морской волны, принимающая в объятия Тангейзера. Не новая любовь – и не бледная замена любви прежней. Новое воплощение вечного, единственного смысла его жизни – его музыки. Музыка – одна любовь его жизни, и нет для него иной любви. Она воплотилась для него в кудрявой девочке с грустными глазами – девочке, которую он потерял. И она снова пришла к нему – в виде женщины с короной золотых кудрей, и ясным серым взглядом, и щедрым сердцем, и теплыми пальцами, которыми она сейчас сжимает его ладонь. Эрик открывает глаза: мир вокруг снова обретает реальность. Он чувствует тепло солнечного луча на своей коже, и аромат горячего шоколада, который пьет Мег, и терпкий вкус красного вина на своих губах. Его дочка сидит на скамейке, болтая ногами: ее щеки перемазаны шербетом. Он смотрит в лицо Джен. Правда в том, что он никогда не привыкнет к ее лицу – не перестанет ему удивляться. Никогда не примет, как данность. Она всегда будет для него чудом: его музыка, принявшая облик живой женщины и оставшаяся с ним рядом. Любовь земная и небесная, которые нашли способ соединиться – для него. Джен улыбается Эрику и смотрит в глаза с некоторой тревогой… Ах да – барон ведь задал ему, кажется, вопрос. Словно не заметив неловкого молчания, Кастелло-Барбезак уточняет: - Не так уж много я знаю композиторов по имени Эрик. Может ли быть, что юного виконта назвали в вашу честь? Эрик сжимает руку жены. Он отвечает барону, но смотрит – и видит в мире – только ее: - Да. Думаю, да. Это вполне возможно.