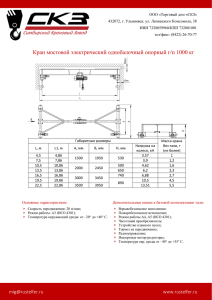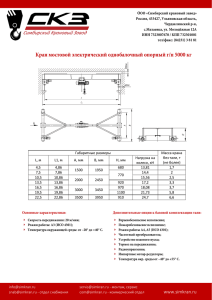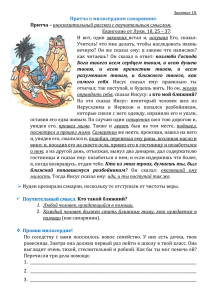Сверхновый литературный журнал «Млечный Путь» Выпуск 7 Содержание:
реклама
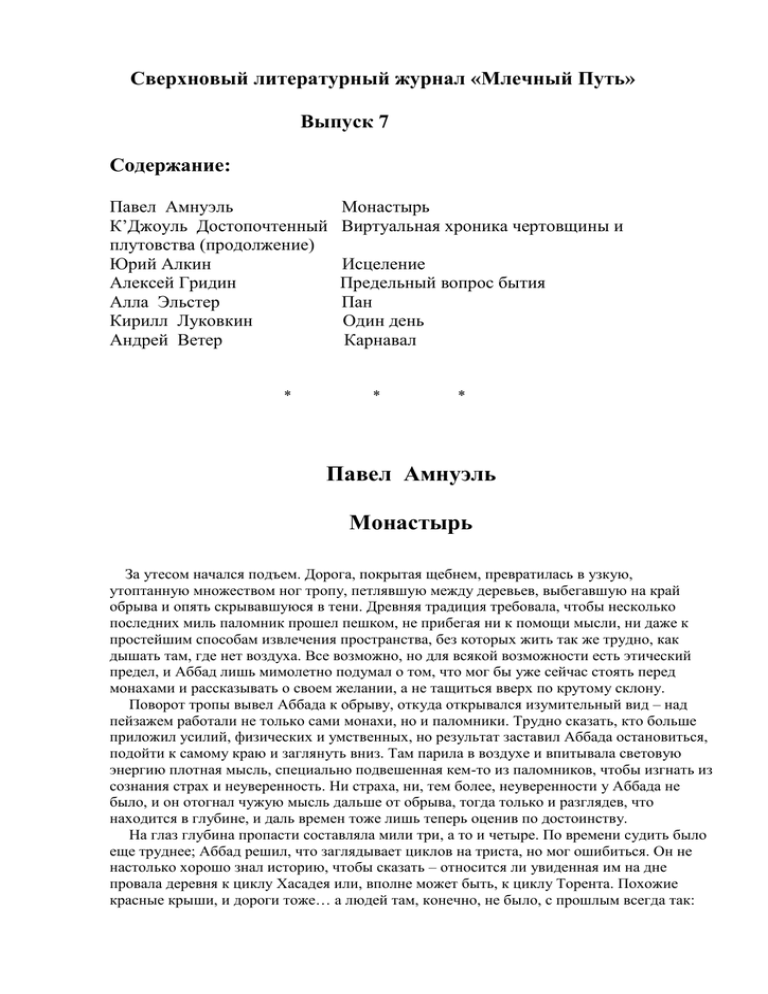
Сверхновый литературный журнал «Млечный Путь» Выпуск 7 Содержание: Павел Амнуэль К’Джоуль Достопочтенный плутовства (продолжение) Юрий Алкин Алексей Гридин Алла Эльстер Кирилл Луковкин Андрей Ветер * Монастырь Виртуальная хроника чертовщины и Исцеление Предельный вопрос бытия Пан Один день Карнавал * * Павел Амнуэль Монастырь За утесом начался подъем. Дорога, покрытая щебнем, превратилась в узкую, утоптанную множеством ног тропу, петлявшую между деревьев, выбегавшую на край обрыва и опять скрывавшуюся в тени. Древняя традиция требовала, чтобы несколько последних миль паломник прошел пешком, не прибегая ни к помощи мысли, ни даже к простейшим способам извлечения пространства, без которых жить так же трудно, как дышать там, где нет воздуха. Все возможно, но для всякой возможности есть этический предел, и Аббад лишь мимолетно подумал о том, что мог бы уже сейчас стоять перед монахами и рассказывать о своем желании, а не тащиться вверх по крутому склону. Поворот тропы вывел Аббада к обрыву, откуда открывался изумительный вид – над пейзажем работали не только сами монахи, но и паломники. Трудно сказать, кто больше приложил усилий, физических и умственных, но результат заставил Аббада остановиться, подойти к самому краю и заглянуть вниз. Там парила в воздухе и впитывала световую энергию плотная мысль, специально подвешенная кем-то из паломников, чтобы изгнать из сознания страх и неуверенность. Ни страха, ни, тем более, неуверенности у Аббада не было, и он отогнал чужую мысль дальше от обрыва, тогда только и разглядев, что находится в глубине, и даль времен тоже лишь теперь оценив по достоинству. На глаз глубина пропасти составляла мили три, а то и четыре. По времени судить было еще труднее; Аббад решил, что заглядывает циклов на триста, но мог ошибиться. Он не настолько хорошо знал историю, чтобы сказать – относится ли увиденная им на дне провала деревня к циклу Хасадея или, вполне может быть, к циклу Торента. Похожие красные крыши, и дороги тоже… а людей там, конечно, не было, с прошлым всегда так: жизнь можно увидеть лишь при сближении. Он посмотрел в даль – зрелище могло, наверно, потрясти ребенка, не имевшего понятия о комплексной перспективе, Аббад же удовлетворенно кивнул: все было именно так, как он себе представлял, так, как описывала теория, да и могло ли быть иначе, чем это предписано физическими законами? Но как красиво! Аббад смотрел, как истончаются вдали линии рек и становятся плоскими уступы далеких гор. Перспектива сглаживала неровности, а дымка чужих мыслей, испарения чужих эмоций создавали мерцающую колышущуюся завесу, за которой туманно проступали контуры континента Ассонг, где Аббад был много раз, но никогда не думал, что земля эта может выглядеть так странно и незнакомо, если смотреть на нее с противоположной стороны планеты. Красиво, да. Очень. Стоять бы так и смотреть. И думать, направляя свою мысль поверх мерцающего занавеса, чтобы не смешивать собственные размышления с устоявшимся мнением большинства. Надо идти, сказал он себе и вернулся на тропу. Дальше стало хуже. Путь перегородил огромный валун, обойти который в трехмерии не было никакой возможности – пропасть слева, вертикальная стена справа. Задачка для торопливого паломника: а ну как не хватит терпения, не захочется терять времени, или забудет человек, куда идет? Маловероятно, конечно, но не исключено, потому что поднимаются в Монастырь люди, сосредоточенные на неосуществимой идее. – Ладно, раз так, – вслух произнес Аббад и ухватился обеими руками за острые выступающие грани. Подтянулся, почувствовал, как отозвалось тело. Стало легко, ноги оторвались от земли, на это монахи и рассчитывали: на автоматизм, на инстинкты. Нельзя. Аббад повторил себе «Нельзя!», и пальцы ощутили тяжесть тела. Аббад едва не упал, пришлось крепче вцепиться пальцами, содрать кожу на ладонях, почувствовать и загнать в подсознание боль, вонзить кончики пальцев в камень так, что посыпалась мелкая крошка, запорошив глаза… Аббад повис, перекинул правую руку выше, вцепился в неровность, воткнул в нее большой палец и перекинул вторую руку. Он ощутил наверху движение и поздно понял, что камень расплывается, становится податливым, как глина, пальцы заскользили, пришлось погрузить руку по локоть, чтобы добраться до тверди. Как же теперь, что делать, невозможно… Аббад уперся взглядом в серую поверхность, на которой появлялись трещины, сосредоточился, приказал камню застыть и едва успел выдернуть руку. Он повис на кончиках пальцев одной руки, будто прилип к стене, и действительно прилип – грудью, хламидой своей, из которой едва не выпал, но одежда не подвела, и сразу полегчало, а камень, конечно, отозвался, мысли хлынули сверху, подобно водопаду, Аббад задержал дыхание – он не хотел вдыхать чужие мысли, и без того силы на пределе, – подтянулся, и пальцы легли на горизонтальную поверхность, липкую и уступчивую. Тело нашло, наконец, с камнем общую идею, поднялось над ней, теперь уже и думать ни о чем не надо было: Аббад опустился на влажную поверхность и вскочил на ноги. Он стоял на камне, как на вершине горы: радость его была розовой, подобно облакам над Карадой, и поднималась прозрачным туманом. Валун уменьшался в размерах, и очень быстро Аббад встал на тропе, камень же оказался простым булыжником. Аббад ногой отшвырнул его в пропасть и пошел дальше, не оглядываясь. Слишком легкой стала вдруг дорога, подъем прекратился, а за новым поворотом возникла равнина, поросшее высокой травой поле, будто и не было крутой горы с воткнувшейся в небо вершиной. Аббад хотел заглянуть за близкий здесь горизонт, но взгляд ушел в пространство, потерявшее почему-то способность прогибаться. Наверно, сейчас начнется самое трудное. Может быть, невозможное. Конечно, равнина – всего лишь передышка. Скоро… Что? Из воздуха медленно возникал Монастырь. Он рождался из чьих-то фантазий, из долгих обсуждений и споров, из предвидений и недоговорок, уступок и разочарований, надежд и неосознанных желаний. Стены его, даже будучи пока всего лишь мысленными конструкциями, представлялись упрямыми, как характер самого Аббада, и его неудержимо притягивало к ним, как притягивает земля или чья-нибудь гениальная мысль, против которой невозможно устоять. Из шуршания множества идей возникла высокая стена, изгибавшаяся вверху так, что издали Монастырь был похож на изготовившийся к полету старинный воздушный корабль. Монастырь встал, наконец, во всей своей красе, о которой Аббад был наслышан, но в его реальности оказался совсем не таким, каким его описывали. Не великий, но величественный. Не пугающий, но грозный. Не подавляющий, но внушающий трепет. Где-то Аббад уже видел нечто подобное, он мог бы даже вспомнить – где и когда, но не было у него сейчас желания копаться в памяти, хотя он и знал, как найти нужное воспоминание. Какая разница? Все равно, на что бы он ни был похож внешне, Монастырь был один, других таких не существовало ни в Галактике, ни в других мирах по той простой причине, что законы физики не позволяли находиться в одном фазовом пространстве двум объектам с одинаковым полным набором квантовых чисел, включая и числа нематериальных измерений, которых в этом сооружении древности было, пожалуй (так казалось Аббаду), больше, чем материальных плит, сделанных из глины и камня. Материальное было в основании Монастыря, в его фундаменте, и стены внизу тоже выглядели материальными и устойчивыми к изменениям поля тяжести, но, чем выше поднимался взгляд Аббада, тем яснее юноша понимал, что там, в высоте, и стены, и площадки, и пилоны были слеплены не из обожженных звездным светом камней, а из мыслей создателей этого удивительного сооружения. А на самом верху, выше тех крыш, что мог обозреть Аббад, не вступая в противоречивые отношения с конструкторами замка, сияла, как голубая звезда, единственная идея, символ этого места, его название, его суть. Выразить эту идею словами Аббад не мог, слишком она была для него сложна и многогранна, а без слов, без собственной интерпретации, идея Монастыря так и осталась ярким, ослепляющим сознание, лучом, вдоль которого и нужно было идти, чтобы не попасть ни в звездный шторм, ни в запретные для человеческого воображения закоулки Галактики. «Паломник, ты пришел. Иди по лучу, и тебя встретит монах, Тебя встретит монах, и ты получишь помощь, Ты получишь помощь, если твоя мольба – о невозможном. Но если ты молишь о невозможном, зачем ты нарушаешь покой Монастыря?» Иди, сказал себе Аббад и сделал первый шаг к Монастырю. В стене на уровне вершины высокого дерева появилась дверь – простая, без замков, кодов, задвижек, материальных или мысленных. Дверь звала, и он вошел. Подпрыгнув, он с удовольствием ощутил, что мышцы точно оценили высоту в этом измененном тяготении, поболтал в воздухе ногами (может, кто-то подставит опору, но нет, никто не собирался ему помогать) и, толкнув дверь, ввалился в широкий коридор. Дверь захлопнулась с тихим щелчком и произнесла равнодушно: «Обратной дороги нет». – Знаю, – улыбнулся Аббад. Он и не собирался обратно. – Знание не избавляет от необходимости познания, – назидательно сказала дверь и умолкла, показывая, что в дальнейшие пререкания вступать не намерена. Истина была азбучной, от двери в Монастырь Аббад ожидал более сложных и неожиданных умозаключений. В коридоре было темно, и Аббад постоял минуту, дожидаясь, пока глаза привыкнут к инфракрасному диапазону. Проявился длинный и узкий – двоим не разойтись – проход, стены светились мрачно, а с потолка капала тяжелая жидкость, растворявшаяся в воздухе: вопросы без ответов, обычная, как он слышал, игра для входивших. Отвечать было не обязательно, игры монахов забавляли, но не входили в непременную программу. Аббад, однако, любил вопросы. Что могли спросить монахи, он себе представлял плохо и потому поймал в ладонь одну каплю, прежде чем она успела иссякнуть. Жидкость обожгла ладонь и впиталась в кожу так быстро, что Аббаду даже показалось, будто он не смог понять ее смысла, и как теперь разберешь – что твое, что чужое в смеси нового и старого, узнанного и еще не виденного? Впитавшись, капля повисла перед его глазами короткой жаркой пульсирующей в воздухе надписью: «Только прямо». Это и не вопрос был вовсе, а указание пути. Похоже, монахи не собирались с ним играть – значит, отнеслись серьезно. Что ж, прямо так прямо. Знать бы еще, имели монахи в виду лишь материальное направление, или прямого пути нужно было придерживаться и в духовных поисках. Аббад сделал несколько шагов, вглядываясь в открывшуюся даль коридора. В бесконечности возник белый свет – тусклая точка, с каждым мгновением становившаяся ярче. «Увидишь свет в конце тоннеля, Увидишь смысл в конце пути»… Аббад увидел свет, о котором говорили все, кому довелось не только войти в Монастырь, но и покинуть его. Смысл он знал – потому и пришел. Бесконечность обернулась на деле сотней шагов, яркая точка обратилась в светящийся круг, и Аббад, даже при напряжении всей воли, не смог разглядеть, что находится там, за новой дверью. Как ее открыть, он не знал тоже. Положил ладонь в центр круга – ничего не произошло, но, может, ничего и не должно было измениться? «Да», – сказал воздух. «Что – да?» – озадаченно переспросил Аббад. «Свет в конце тоннеля, – объяснил воздух. – Ты хочешь пройти, а не вернуться? Значит, да». «Да», – сказал Аббад. Свет пролился ему на плечи, оказавшись жидким, как вода в ручье, у света был приятный запах цветочного мыла, Аббад растер свет ладонями, одежда мешала, и он понял, что пора ее скинуть. Он облил себя светом, и балахон истаял. Истаял и висевший на поясе оптический нож – единственное оружие, которое Аббад взял с собой; пользоваться им он не собирался, но без него чувствовал себя наполовину голым. Аббад оказался полностью обнажен – обнажено было тело, обнажены были его мысли, обнажилось даже то, что он считал запрятанным глубоко в подвалах памяти, и нематериальная его суть обнажилась тоже. Тем лучше. Меньше придется объяснять словами. Дверь открылась – исчез свет в конце тоннеля, исчез и сам тоннель. Аббад стоял посреди большой комнаты, огромные – от пола до потолка – окна которой выходили на один и тот же склон горы, будто пространство снаружи свернулось и стало однонаправленным. Скорее всего, так и было, но раздумывать над этой топологической особенностью у Аббада не было времени: перед ним на расстоянии вытянутой руки стоял человек. Наверно, он был высок. Наверно – не молод. Возможно, у него была мощная фигура бойца. Скорее всего, на человеке была одежда. Все это существовало с разной степенью вероятности, и оттого монах выглядел странно: будто он то был здесь, то исчезал, то присутствовал, то еще не родился, он был, и его не было – квантовые эффекты, которые Аббад так не любил в обыденной жизни, проявлялись сейчас в полной мере. Значит, – понял Аббад, – монахи действительно принадлежат не одному миру, но всем мирам одновременно. Он слышал такие рассказы, но полагал их апокрифами, поскольку не представлял, как можно жить с разной вероятностью в столь различных мирах и не потерять единства своего «я» и прочности своей сути. Монахам, однако, удавалось и это. «Аббад, – услышал юноша. – Ты хотел прийти, и ты пришел. Говори». «Я пришел, – Аббад постарался думать так, чтобы мысль оказалась не только ясной и точной, но еще и эстетически красивой, ведь только красивая мысль может быть истинной, особенно для монаха, – я пришел, чтобы просить о помощи». «Помощь ты можешь получить и вне Монастыря. Любой человек на любой планете в любой из галактик примет в тебе участие и поможет». «Помощь, которая мне нужна, я могу получить только здесь». Ритуальные мысли перетекали из мозга в мозг, как быстрые ручейки, сразу и безнадежно высыхавшие. – Мое имя Сатмар, – сказал монах, и Аббад не сразу понял, что в гулкой тишине помещения прозвучал голос – не мысль, не посланная поверх звуковых волн идея, но обычный голос, утомленный голос человека, уставшего от трудов, забот, размышлений. Три нейтральных слова, сказанных нейтральным голосом, но сколько в них было… Гораздо больше, чем Аббад мог бы рассказать о себе даже самой глубокой и пространной мыслью, тщательно продуманной и лишь затем вылепленной из электромагнитных полей и гравитационных довесков. «Мое имя Сатмар», – сказал монах, и Аббад увидел, как этот человек, родившийся много циклов назад в системе Аршана, учится ремеслу погонщика звезд у Рената Великого (у самого Рената!), а потом еще долго занимается этим довольно нудным, хотя и важным для космогонии мира, занятием. Галактику Лигии, оказывается, перестроил именно он, Сатмар, не один, конечно, ему помогали гиреи, как всегда, никому не рассказавшие о своем посильном участии. По Лигии Аббад путешествовал не так давно, и еще очень молоды были воспоминания о безумно красивых звездах перешейка и окраин. Он хотел побывать и в центре галактики, но не прошел заслона, потому что создатель (теперь Аббад знал, что это был Сатмар) устроил там пространство по другим, им самим сконструированным, законам физики. Говорили, что в центре Лигии материя состояла не из атомов, а из слепленных по особой системе субпространственных частиц, не обладавших ни зарядом, ни массой. Наверняка нематериальной сути там было больше, чем даже мысли, которая все же материальна во всех проявлениях. «Мое имя Сатмар» – и Аббад впитал в себя странную, опасную и обычную среди обычных историю любви этого человека к Дакрии Пероне, той, что была символом многих поколений молодых… пока они не взрослели и не начинали относиться к жизни с тем уважением, какого не могло быть у людей, не узнавших еще, что такое соперничество, измена, предательство… Неужели Сатмар прошел через эти испытания и остался таким, каким был… стал таким, каков он сейчас? Было ли что-то, что Сатмар скрыл от Аббада, называя имя? Наверняка. Скорее всего, он не стал открывать главного. Аббад сам поступил бы так на его месте, но именно поэтому монах мог сказать такое, чего Аббад не сказал бы – потому что пути монахов неисповедимы. – Сядем, – произнес Сатмар глубоким мощным баритоном, от звуков которого воздух в комнате ходил волнами от стены к стене, создавая видимые глазом маленькие бурунчики: монах играл обертонами, заставляя звуковые волны определенным образом отражаться от стен и совсем иначе – от предметов обстановки. Сатмар произнес лишь слово, и Аббад услышал симфонию звуков, музыку, которую можно слушать вечно. Он так не умел, для него устная речь была лишь инструментом, очень простым и не всегда удобным при общении. Писать словами музыку он не мог, это было высшее искусство звукоизвлечения, а если учесть, что тремя словами Сатмар рассказал чуть ли не всю историю своей жизни… Удивительно. Посреди комнаты сгустились два удобных кресла, Аббад не смог сразу определить материал, из которого они сделаны, и, лишь опустившись в одно из них, почувствовал теплую поверхность дерева-вяза из долины вулканов. Впрочем, дерево было с какими-то минеральными добавками, сделавшими его податливым, мягким и услужливым, готовым прогнуться под тяжестью тела. Сатмар сел в кресло напротив и соорудил низкий столик из прочного акмалийского стекла. Предвидя вопрос, Аббад подумал о том, что хотел бы выпить чаю с бабушкиным тортом, рецепт которого он знал (а теперь узнал и Сатмар, в этом Аббад не сомневался), но никогда не пытался сделать в реальности то, что бабушке удавалось в измерениях, существовавших в ее сознании для личных кулинарных утех. Торт, нарезанный ровными дольками, появился на тарелочке. И чашки – красивые, с золотистой росписью. Уровень напитка быстро вырос до краев чашек, и Аббад увидел, как сахар, возникнув горкой на дне, мгновенно растворился в самом замечательном чае, какой он только пил в своей жизни. Если он это видел, то почувствовать должен был непременно. – Попробуй, – сказал Сатмар, намеренно убрав из голоса обертона, чтобы не смущать Аббада. – Этот чай вырастили на Эмите. Ты бывал на Эмите? – Нет, – сказал Аббад. Как сухо и неинтересно звучал его голос! Аббаду стало стыдно – он не мог рассказать обертонами даже миллионной части того, что умел Сатмар. Голосом он лишь сообщал информацию и кое-какие основные эмоции – не больше. Почему Сатмар хочет, чтобы они говорили вслух? Чтобы показать свое превосходство? Нет, это не похоже на монаха. Значит, что-то иное… Что? – Эмита, – сказал Сатмар, – удивительна. Молодые предпочитают Герму, Антигру… То, что рядом, то, что легко достижимо, выглядит изначально не интересным. «Сейчас он скажет, что сам был таким в молодости», – подумал Аббад, устыдился этой мысли и не выпустил ее из сознания, но Сатмар улыбнулся, и кровь прилила к щекам Аббада. Он поспешил поднести чашку ко рту, опустив взгляд. Чай был не просто вкусен. Кроме странных ароматов, он источал непривычные идеи, какие, вообще говоря, не могли содержаться в обычном чае – это были идеи покоя, насыщенные чьими-то воспоминаниями об отдыхе в долине гейзеров на одной из планет в системе Зеленых Полос, удивительной системе, где вокруг двух зеленых звезд обращались не планеты, а длинные молекулярные цепи, свернутые спиралями. Странная там была жизнь – не обладавшая разумом, но инстинктивно построившая одно из самых совершенных околозвездных сооружений в Галактике. – Нравится? – спросил Сатмар. – Очень, – признался Аббад. – В системе Зеленых Полос ты еще тоже не был? – Нет, – сказал Аббад. Он не побывал во множестве мест даже в своей Галактике, что уж говорить о других, и если Сатмар хотел обратить его внимание на это обстоятельство, ему, конечно, удалось. – Нет, – повторил Сатмар. Он медленно пил из своей чашки, думал о чем-то, не выпуская мыслей наружу, и Аббад догадывался, что именно сейчас, изучив паломника, монах решает его судьбу. Решает: помочь или… – Нет, – еще раз повторил Сатмар, – я не собираюсь решать твою судьбу. Во всяком случае, не буду этого делать, не услышав твою историю. Словами, а не мыслью. Вы, молодые, недооцениваете силу и информативность слова, выраженного в звуке. «Мысль изреченная есть ложь». Да? Лесторин, подумал Аббад. А может, произнес это имя голосом? Он сейчас не вполне понимал сам себя, не мог точно определить: выдавливает ли мысль или говорит вслух, думает ли сам или всего лишь принимает мысленные образы Сатмара. Монах не то чтобы подавил его сознание, но своим присутствием влиял на мыслительные процессы, проходившие не только в мозгу Аббада, но и в нематериальной его сути, которую Аббад не всегда понимал на нужном для осознания уровне. Собственно, разве не потому он поднялся сюда, чтобы?.. Аббад не стал продолжать мысль, прервал ее волевым усилием: если Сатмар хочет услышать его историю, значит, нужно рассказать ее с начала. – Лесторин, да, – кивнул старший. – Ты не знаком с этим гением? Аббад промолчал, вопрос не требовал ответа, Сатмар и сам прекрасно понимал, что юноша не мог быть знаком лично с человеком, который стал монахом за много циклов до рождения Аббада. – Лесторин был прав и, конечно, ошибался, – продолжал Сатмар, произнося слова с таким изяществом, что ментальные рамочки, в которые были заключены изреченные звуки, образовывали в неподвижном воздухе мелкую вязь, поднимавшуюся к потолку и оставлявшую на его поверхности усложнявшийся узор. – Парадокс в том, что изреченная вслух мысль одновременно правдива и ложна, и ты, конечно, понимаешь… Сатмар сделал паузу, и ментальные рамочки неподвижно повисли над головой. – Понимаю, – медленно произнес Аббад, стараясь точно подбирать слова. – Изреченная мысль становится реальным, а не потенциальным выбором. И потому, будучи, по сути, правдой, изреченная мысль является и ложью, поскольку не создает равных вероятностей для всех возможных решений… – И это плохо, – удрученно сделал вывод Аббад. – Да, – кивнул монах. – Но именно поэтому информативность произнесенного вслух слова гораздо выше слова, оставшегося в духовных измерениях. Вот почему я хочу… Сатмар не закончил фразу вслух, но мысль его была очевидна; Аббад даже не стал ловить ее тень, скользнувшую серым облачком к потолку. – Я понимаю, – подтвердил он. – Я расскажу. Мне нужно подготовиться, потому что… Сатмар сделал рукой неопределенный жест. Не продолжай. Конечно, тебе надо подготовиться, ты не привык говорить вслух. Но сейчас слишком важный момент, и потому изволь объясниться словами, не порождая новых возможностей выбора. У тебя есть полчаса. Я вернусь не один – ты это понимаешь, надеюсь. Конклав соберется в этой комнате. Оставайся здесь. Думай. Готовься. Сатмар встал, кивнул Аббаду и вышел в высокую дверь, закрывшуюся за ним с гулким стуком, от которого едва различимо завибрировали стены. Вибрация породила высокий звук, отозвавшийся болью в ушах Аббада. Он дернул головой, отталкивая неприятные звуки и ощущения, и отошел к окну, забранному не стеклом, как могло показаться неискушенному взгляду, а прозрачной идеей невидимой, но ощутимой преграды, задерживавшей холодные струи воздуха снаружи. Аббад хуже соображал сидя, ему нужно было двигаться, простое физическое движение разгоняло мысль, кинетическая энергия переходила непосредственно в энергию размышлений. Он и в разговоре с Сатмаром предпочел бы ходить от стены к стене, но это было бы невежливо, хотя и оценено правильно, в этом Аббад не сомневался. Существуют традиции, и он не хотел их нарушать. Нет – так нет. Но сейчас он мог дать волю привычке и бегал от кресла к окну и обратно. С чего начать? С рождения и первых ощущений? С понимания себя в мире и мира в себе? Нет. Он не должен говорить об истинной причине своего решения. Требование Сатмара даже упрощало Аббаду задачу: ведя обычный мысленный разговор, он должен был постоянно ткать тонкие узоры многосмысленности, поднимая на поверхность сознания одно и пряча на дно подсознательного то, чего не должны были понять монахи. Начинать нужно, конечно, не с детских воспоминаний. Напротив, это верный способ дать монахам понять, где он прячет невысказанное. Начать надо со знакомства с Тали. Это и красиво: он сумеет соткать словесную вязь так, чтобы получился замечательный ковер, эстетический шедевр. Да, он начнет с Селирены. А потом… Сатмар вошел неожиданно, без мысленного предупреждения, а может, Аббад в своей сосредоточенности ничего не почувствовал? Монах едва заметно улыбнулся – уголками сознания, – приветливо кивнул, будто заново здороваясь, и уступил место очень высокой женщине. Аббад, пожалуй, и не видел таких никогда, она принадлежала к древней расе, судя по скуластому лицу, и наверняка возраст ее был сравним с возрастом звездного скопления Нереи, откуда она, скорее всего, и была родом. – Здравствуй, Аббад, – произнесла женщина мелодичным голосом, не став, однако, раскрывать себя в обертонах, – мое имя Асиана. Не надо так волноваться. И рассказ свой начни не с Селирены, где все мы не раз бывали и прекрасно представляем это замечательное место. Аббад кивнул. Асиана отошла к окну и встала рядом с Сатмаром. Монахи сцепили пальцы и улыбнулись друг другу, будто давно не виделись. Может, так и было? В другое время Аббад понял бы правильно сплетение отношений этих людей, но сейчас… здесь… Третий монах поднялся с кресла, будто просидел там уже довольно долго, ожидая своего выхода. Коренастый, похожий на бочонок, с вытянутой головой – уроженец Истрии. Аббад не смог даже приблизительно определить по внешнему виду возраст этого монаха. Больше сотни тысяч циклов – молодых среди монахов быть не могло, – но насколько больше? – Здравствуй, Аббад, – улыбнулся монах. – Мое имя Крамус. Ты правильно понял – моя родина Истрия. Скажу больше – я родился на Лемре, когда Истрия в пятый раз стала спутницей звезды Орхама. Ну и ну… Аббад не смог скрыть изумления. Это же получается… – Миллион и сто пятнадцать тысяч циклов, да, – подтвердил Крамус. – И потому менее своих коллег я способен, видимо, буду понять твои устремления. Прошу тебя – будь очень точен в словах. Изреченное слово содержит очень много смыслов, обертоны сами себя усиливают в податливом для звуков воздухе. Аббад об этом не подумал. Эффект реверберации. В воздухе этой комнаты возможно было усиление до вполне различимого даже такого смысла, который в слове присутствовал только в качестве сцепляющего звуки. Крамус успокоил юношу кивком головы: – Скрепляющие здесь, конечно, демпфированы, это я тебе как физик говорю, поэтому думай только над смыслом, а не над внешними атрибутами сказанного. Спокойно, Аббад. – Все в порядке, – подтвердил Сатмар, и Асиана кивнула, соглашаясь с мужчинами. – Говори, мы слушаем. – Только шлаки слов направляй вверх, – деловито предупредил Крамус, – а то многие тут… Аббад представил, как другие паломники, приходившие сюда и рассказывавшие о своих нерешаемых проблемах, не могли справиться с волнением, и ошметки их мыслей, не сумевшие стать словами в звуках, плавали по комнате, натыкаясь на стены и, конечно же, на людей, здесь находившихся. Не очень приятное ощущение. – Я постараюсь, – смиренно произнес Аббад. Он глубоко вдохнул наполненный множеством непонятных ему смыслов воздух Монастыря и произнес давно обдуманные первые слова своей предсмертной речи. – Мое полное имя Аббад Нерегай Сигрон. Он никогда еще не произносил собственное имя вслух. Знакомясь с Тали, Аббад сразу раскрылся, ощущение резонанса было таким мощным, что сопротивляться оказалось невозможно. Тали ощутила то же самое, имя для них не значило ничего, имя даже словом, по сути, не было, а только символом, обозначением личности, для обоих это уже не имело значения, они были вместе, стали одним целым, говорили о себе «мы», а потом – «я»… Сейчас Аббад вынужден был разделить свою с Тали личность на части, он произнес свое полное имя и, значит, показал монахам, что он – один, нет у него никого, с кем он мог составить новую, высокую суть. – На Сигроне живут мои родители, Ант и Лиоз, они перестали опекать меня еще в те дни, когда я учился в школе Кастелло, а потом и вовсе ушли из моего сознания – не хотели мешать. Почему я это рассказываю? – подумал Аббад. – Это была не совсем та, а точнее, совсем не та речь, не та мысленная заготовка, которую он отрепетировал до полного, как ему казалось, автоматизма. Неужели монахи смогли… Он умолк и всмотрелся новым взглядом в лица стоявших перед ним монахов. Сатмар смотрел на него с видимым равнодушием, но за этой маской различались и пристальное внимание, и искреннее участие, и, главное, доброжелательность. Нет, он не мог… Не стали бы этого делать ни Крамус, ни Асиана. Их взгляды тоже были чисты, как свет Аридны, когда она стоит выше остальных шести звезд скопления. – Продолжай, – сдержанно произнес Сатмар и опять едва заметно улыбнулся. Почти как отец. Почти? Нет, в точности так же. В детстве Аббад часто терял игрушки, и они исчезали от отсутствия внимания. Он еще не знал, что предметы нужно привлекать в мир, думая о них постоянно, и потому терял то одну игрушку, то другую, они таяли, унося свою суть в нематериальные измерения. Аббад, бывало, даже плакал от бессилия, и тогда отец брал его на руки и улыбался. Всего лишь улыбался, но Аббаду сразу становилось хорошо, и он придумывал новую игрушку, мгновенно забывая о старой. – Я был знаком с Антом, – тихо произнес Крамус. – Замечательный человек. Он стал… Монах не закончил фразу, и мысль его, мимолетно уловленная Аббадом, тоже не позволила понять, кем или чем стал его отец, которого он не видел и о котором ничего не знал вот уже шестнадцать циклов. В иное время Аббад, конечно, не удержался бы, задал бы прямой вопрос и получил бы ответ, но сейчас… – Продолжай, – повторил Cатмар, поняв, о чем подумал Аббад, и что его взволновало. *** На Селирене обычно было много туристов – людей, не искавших каких-либо откровений, не жаждавших приключений, но желавших отдохнуть от тяжелых энергий заселенного пространства: Чианутра светила так яростно, что, кроме человека, здесь не выживало ни одно существо, умевшее питаться звездной энергией. Но зато и красота Селирены, совершавшей оборот вокруг светила за семьдесят шесть часов, была поистине неописуемой. Светло-зеленый диск Чианутры занимал полнеба, и смотреть на него можно было, если только воспринимать не физически значимые электромагнитные потоки, но лишь информационные блоки, не такие яркие, хотя и тоже возбуждавшие не очень подготовленные души. Аббад уже бывал на этой планете и знал, как поступить, чтобы в первые же секунды не получить или лучевой ожог, или шок от невообразимого наслаждения красотой. Он заставил заснуть все воспринимавшие материальное отделы мозга, и мир вокруг стал похож на тонкую сеточку, пунктир. В любом другом месте Вселенной Аббад ничего не смог бы увидеть, кроме хаотичного движения атомов и быстрых частиц, но на Селирене он только так и смог воспринять красоту искривленного пространства и попавших в ловушку времени мыслей множества людей, побывавших здесь прежде. Аббад стоял на холме, не очень высоком, но удобно расположенном – с его вершины легко было разглядеть противоположную сторону планеты и возвышавшийся там штатив звездной лаборатории научников. Туристов здесь оказалось немного, а в какой-то момент Аббад и вовсе ощутил, что остался в одиночестве: группа отправилась по очередному пункту маршрута, а следующая еще не прибыла. Он стал спускаться с холма в долину и тогда увидел ее. Девушка, скорее всего, отстала от группы. Она стояла метрах в десяти от Аббада и смотрела на него. – Мое имя Тали, – сказала она. Между ними, подобно прозрачному занавесу, висела в воздухе мельчайшая пыль – это оседали идеи, оставленные здесь многочисленными туристами. Такая на Селирене повелась традиция: уходя с этой планеты, бросать в воздух какую-нибудь мысль, не всякую, конечно, а идею, как обустроить Селирену или, может быть, изменить орбиту, или перестроить ландшафт, годилось все, никто не знал, какая идея окажется полезна строителям, в ход могла пойти любая, и потому идеи здесь носились в воздухе, оседали на почве и вновь поднимались, вспугнутые, как сейчас, каким-то неординарным происшествием. – Мое имя Аббад. – Я наблюдала за тобой, – сказала Тали и улыбнулась. Ему показалось, что такой улыбки он не видел никогда и никогда больше не увидит. На девушке было облегавшее фигуру платье, ткань не сковывала движений и, скорее всего, не ощущалась, разве что создавала приятный температурный режим. Золотистое с ярко-зелеными переливами, если смотреть под определенным углом, и Аббад не сразу понял, был этот угол материальным или духовным: цвет платья менялся и в зависимости от того, как менялось отношение к девушке, смотрел ли на нее Аббад взглядом влюбленного или взглядом заинтересованного наблюдателя, или равнодушного туриста. Платье ярко вспыхнуло зеленым, и Аббад в смущении закрыл глаза. Мысль свою он, однако, запирать не стал, и Тали сказала: – Спасибо. – Здесь есть неплохое местечко, где можно посидеть и поговорить, – смущенно подумал Аббад. – Мысли там совсем не рассеиваются, не то что здесь, на вершине. Тали улыбнулась… *** – Так мы познакомились, – сказал Аббад, стараясь, чтобы в голосе его не прозвучали лишние обертона. Монахам нужна была информация, а не его отношение к произошедшему. Они должны были оценить сами, чтобы потом сравнить собственные впечатления с его волнением, страхом потерять обретенную любовь и еще с миллионом других ощущений, которые Аббад пока скрывал, чтобы не исказить простой, по сути, картины знакомства. – Тали, – сказала Асиана. – Я не могу по короне ее имени определить точнее… Ты не мог бы… – Да, конечно, – смутился Аббад. – Ее полное имя Тали Карита Сейдон Дакшми. Она уроженка Зельмиры. – Да-да, – сказала Асиана. – Я вспомнила. Воспоминание всплыло над ее головой, и Аббад увидел Асиану, поднимавшуюся по ступеням университета на Зельмире, ступени были намеренно вырублены огромными, каждая высотой метра в два, подниматься приходилось, используя энергию знаний о структуре поля тяжести, а у кого таких знаний еще не было, тем приходилось карабкаться, цепляясь руками. Асиана высоко подпрыгивала и на одной из ступеней нос к носу столкнулась с высоким мужчиной в хитоне, сотканном из давно устаревших идей об устройстве мироздания. «Асиана, – подумал старик, – ты тратишь лишнюю энергию. Спокойнее, девочка». «Прошу прощения, учитель Дакшми», – Асиана отступила на шаг, чтобы не поддаться неожиданно мощному обаянию личности учителя. Останься она на месте, и ей пришлось бы сменить наставника, чего Асиана не хотела. – Учитель Дакшми, отец Тали, – пояснила Асиана, – преподавал мне физику многомерий на последнем курсе университета. Пожалуй, благодаря его лекциям я решила, в конце концов, стать физиком нематериальных структур. Она не стала продолжать и вспоминать больше тоже не стала, она и без того обнажила перед Аббадом свои ощущения, не следовало этого делать, хотя, конечно, только сама Асиана и могла решить, что ей следовало демонстрировать паломнику. – Я не был знаком с учителем Дакшми, – сказал Аббад. – Как-то мы говорили с ним в пространстве Яройи, но там нет личностных ограничителей, и о том, что это был именно учитель Дакшми, я узнал много времени спустя, сопоставив кое-какие вешки из рассказов Тали с моими собственными ощущениями. Я слишком много говорю, – подумал он. – Нет, – улыбнулся Сатмар. – Напротив, ты говоришь слишком мало. Ты пришел, чтобы мы выслушали тебя. Продолжай. – Мы пошли с Тали в… – сказал Аббад. – На Селиранде, неподалеку от северного магнитного полюса, есть место… Простите, я не могу произнести вслух ни его названия, ни того, что там… Это эмоциональное, голосом не передается. – Продолжай, – сказал Крамус. – Не нужно эмоций. Название не имеет значения. Аббад думал иначе, но не стал спорить. – Тали в то время только поступила на курс химии пространств, еще не прошла даже первого посвящения, она… Слов для описания у Аббада не было. То есть, были, конечно, но он считал их такими банальными… – В любви нет ничего банального, Аббад. – сказала Асиана. – Точнее, все настолько банально, что никакое слово не может оказаться ненужным, неверным или неточным. Говори. – Тали была, как птица, пролетевшая над нашими головами, когда мы спускались с холма… – Птица? – удивился Сатмар. – На Селирене нет птиц, эволюция там подземная… – Птица, – повторил Аббад. – Нас это тоже удивило. Она была похожа на толстопуза, длинные широкие крылья в два ряда, голова большая на короткой шее, птица была прекрасна, она сделала над нами круг и что-то крикнула… Я даже подумал в тот момент, что это разумное существо, такой же турист, но… эмоции у птицы были инстинктивны, мыслей никаких, подсознательное отсутствовало… Это действительно была птица, неизвестно как оказавшаяся на Селирене – будто специально для нас с Тали. Я воспринял ее полет, как знак, да и могло ли быть иначе? Тали тоже… Только это оказались разные знаки – для нее и для меня. – А птица… – обеспокоено произнесла Асиана. – В непривычной для нее экологической среде… – Она сделала над нами круг, крикнула и взмыла ввысь – очень красиво, будто человек, летящий к звездам, крылья сверкнули радужным блеском и… Аббад замолчал, сдерживая эмоции. – Птица исчезла так же внезапно, как появилась, – проворчал Крамус, стоявший в проеме окна и освещенный желтоватым сиянием только что взошедшего Гримта. – Обычная склейка. Я знаю эту породу: такие птицы водились много циклов назад на одной из планет в системе Вистера. В нашей ветви вымерли, потому что звезда была нестабильна, очень быстро прошла ядерную стадию эволюции, а дальше понятно… Дальше, конечно, было понятно – стремительное расширение, планета погружается в горячую звездную атмосферу, все живое, не обладающее разумом и не способное перенести температуру плавления, обращается в протовещество или вовсе переходит в нематериальное состояние – в зависимости от соотношения физических постоянных… – Птица стала для тебя знаком… – произнесла Асиана и подошла к Аббаду так близко, что он решил, будто она хочет коснуться его кончиками пальцев. Это могло нарушить его планы, прямого прикосновения он не вынес бы, броня, которую он на себя надел, растаяла бы сразу, как цветы паронника в свете красных звезд. Испуг его был быстрым, и так же быстро Аббад с ним справился, уложившись в те микросекунды, которыми отмеряются неконтролируемые и, по большей части, невоспринимаемые эмоции. Если Асиана заметила… – …И нетрудно понять, каким это был знак, – продолжала Асиана, не заметив, похоже, мгновенного испуга Аббада. Или не обратив внимания. Или не показав, что заметила и оценила. – А Тали? Если склейка стала для тебя знаком любви, то для нее… Вопрос, к которому Аббад долго готовился. Сначала ему требовались секунды, чтобы дать ответ, не окруженный множеством вопросительных знаков, свидетельствующих о лжи. Наконец он достиг автоматизма, каким владеют звездные путешественники, способные принимать решения в квантовые доли мгновения, когда от решения зависит, попадешь ли ты в атмосферу выбранной планеты или в корону звезды, или даже в ее недра. Неприятных ощущений не оберешься… Аббад стал звездным путешественником – и сумел добиться автоматизма, отвечая самому себе на заданный Асианой вопрос. – Для Тали это был знак приятного знакомства, – услышал Аббад свой голос даже прежде, чем вопрос отпечатался в сознании. – Это был знак долгой дружбы. Она… – Ты должен был понять это сразу, верно? – мягко сказала Асиана. – Да, но… Аббад позволил себе передышку. Сейчас монахи размышляют над его ответом. Он не сможет больше отвечать, будто конечный автомат, над которым ставят эксперимент по контролю разумности. Он не выдержит, броня уже истончилась настолько, что может прорваться… Аббад отступил на шаг и закрыл глаза. Он видел теперь инфракрасную картину, потерявшую четкость: Сатмар неподвижно сидел в кресле, предавшись размышлениям, Крамус бродил по комнате, меняя маршрут случайным образом, Асиана по-прежнему стояла перед Аббадом, внимательно его рассматривая, волны ее взгляда ощущались, как теплые потоки. – Да, но я в тот момент не думал о ее чувствах, – пробормотал Аббад. И это была правда. Птица исчезла, будто сожженная светом Чианутры, Аббад смотрел на Тали и видел не девушку, но ее духовную суть, ее нематериальное «я», внутренние сплетения смыслов, ее ум… видел все, что хотел видеть, и только то, что хотел. Он был слеп, да. Но разве каждый влюбленный не слепец в своем роде? Чтобы правильно понять человека, нужно быть беспристрастным. Отрешиться от эмоций. Не ощущать – только думать. Неужели Асиана полагает, что в тот момент Аббад мог думать? Вместо Асианы ответил Крамус, переставший кружить по комнате. – Я тоже был таким, – сказал монах задумчиво. – Да, представь себе. Резонанс не может не ощущаться на любом уровне – сознательном, подсознательном, духовном, нематериальном… Это как вспышка сверхновой. Это… Это любовь, вот и все. Ты хочешь сказать, что ощутил резонансное состояние, которого не было на самом деле? – Я принял за резонанс всплеск собственных эмоций, – покаянно произнес Аббад. Крамус кивнул. Асиана покачала головой. Сатмар сидел неподвижно, скрестив руки на груди и глядя в окно. – Сколько времени это продолжалось? – мягко спросила Асиана. – Семь циклов. – Ну-ну, – пробормотал Сатмар. – Бедняга, – сказала Асиана. Крамус бросил на Аббада проницательный взгляд, но рта не раскрыл. – Когда ты понял, что… – начал Сатмар, и Аббад поторопился с ответом, он боялся, что, промедлив, выдаст себя – психологическая броня стала уже такой тонкой, что единственный рискованный вопрос мог бы… – Когда настало детское время, – перебил он Сатмара, возможно, слишком невежливо, но монахи должны простить его волнение, – Тали не захотела ребенка. Все стало ясно. – Все стало ясно, – повторил Сатмар. Что ему стало ясно? Что? Мгновенный испуг сделал защиту совсем тонкой. Больше Аббад не мог сопротивляться. Открыть себя. Невозможно. Он проиграл. Он… Нет. Спокойно. – Все стало ясно, – сказал Аббад. – То есть, стало ясно мне. Тали понимала суть наших отношений с самого начала, это очевидно. – Семь циклов. Не слишком ли много? Нам не доводилось прежде встречаться с таким взаимным непониманием. Твой случай уникален. Аббад молчал. Любое сказанное им слово могло сейчас быть истолковано только против него. – Если знание о природе резонанса сугубо теоретическое, – подал голос Крамус, – то, полагаю, это возможно. – Теоретическое знание о природе резонанса? – поднял брови Сатмар. – Это оксюморон, друг мой. – Итак, – произнесла Асиана, чей взгляд был чист, прозрачен и понятен, насколько вообще могут быть понятны мысли монахов, – прожив столько времени с любимой женщиной, ты понял, наконец, что это была не любовь, но всего лишь материальная близость… так? – Да, – кивнул Аббад. – Невозможно не понять… – начал было Сатмар, но Асиана прервала его движением руки. – Сложно, действительно, – сказала она. – Но в нашем сложном мире я встречалась и с более странными случаями. Ты – нет? – Да, – признал Сатмар. – Ты говоришь о Ститусе Анконском? Нарушение принципа относительности. – Один из множества, верно? – улыбнулась Асиана. – Так возникают новые направления в искусстве, – согласился Сатмар, и Аббаду захотелось понять, о чем они говорят. Он интересовался искусством, любил музыку, они с Тали посещали концерты на Бишоре, где музыканты-авангардисты создавали новую музыку, отделяя материальные звуки от нематериальных идей и духовных носителей мелодического начала – получалось очень интересно, звуковые волны, исторгнутые инструментами, начинали жить собственной жизнью, уже по пути к слушателям пытались найти для себя новых нематериальных двойников, и то, что приходилось слышать Аббаду, было порой не просто бессмысленно красиво (он вспомнил «Чайную кантату» Пертолено), но наполнено таким совершенно непредсказуемым смыслом, что закладывало не уши, как это бывало на концертах Аргеллида, нет, закладывало душу, запечатывало ее, заставляло погружаться на дно всех существующих смыслов… Аббад отогнал воспоминание, услышав Сатмара: – Иными словами, малая вероятность произошедшего не позволяет сделать вывод о том, что Аббад мог неверно понять послание Тали. – Как можно понять неверно то, что сцеплено смыслом? – удивился Крамус. – Я впервые встречаюсь с человеком, принявшим сложение ментальных волн за физический резонанс. Дружба и любовь – что может быть более различно в отношениях мужчины и женщины? – Удивительно, да, – согласилась Асиана. Она обернулась к Аббаду: – Теперь, когда понятна причина, сбрось броню, которой ты себя окружил, и покажи глубину. Аббад был готов и к этому. Наружная броня все равно уже истончилась, она лопнула бы и без просьбы Асианы. Аббаду показалось, что тщательно сконструированный костюм распался на полоски ткани, полоски эти упали на пол с тихим шелестом, и сразу стала видна вторая броня, блестевшая в лучах Алцедона, светившего сейчас во все окна. Он чувствовал себя перед монахами таким же физически обнаженным, как в детстве, когда мама обливала его холодной водой и требовала, чтобы он не прикрывал руками голову: «Убери руки, Аббад, – говорила она, – ты не только макушку не даешь полить, но и мысли, и то, что под ними, и то, о чем ты еще не знаешь, и то, чего ты еще не чувствуешь, убери руки, ты еще не умеешь управлять ими»… Он не умел, да. Аббаду показалось, что он и сейчас не умеет – он надел два слоя брони, первого уже лишился, а если сейчас под взглядами монахов упадет вторая… – Понятно, – сказала Асиана. – Пожалуй, – согласился Крамус. – Ну… – протянул Сатмар. – Допустим. – Ты очень страдаешь, – сказала Асиана. Не спросила, просто констатировала. Он страдал, да. Вот только причина… – Не нравится мне это, – сказала Асиана. – Что тут может понравиться? – удивился Крамус. Сатмар промолчал. – Что ж, – сказала Асиана. – Говори. Теперь мы знаем достаточно, чтобы выслушать твою просьбу. – Я хочу умереть, – сказал Аббад. *** Когда Аббаду не было и недели от роду, мать погрузила малыша в пространство мысли – хотела, видимо, чтобы ребенок быстрее развивался, ибо если учат плавать, бросая в воду, то научиться объективному мышлению можно, погрузившись всем существом в мир логических умозаключений. Неокрепшая психика Аббада не была подготовлена к восприятию всеобщности Триединства – материи, духа и идей. Его еще не вполне даже себя осознавшее «я» трепыхалось и тонуло, и, как рассказывал потом отец, выбрасывало в материальный мир искореженные до неузнаваемости идеи, собиравшиеся в немыслимые конструкции, которые сразу разрушались. Психика Аббада оказалась нарушена: вместо обычных игрушек – зверушек, птичек – он создавал логически несуразные артефакты, которые, тем не менее, действовали, что-то творили, иногда прекрасное, иногда уродливое. Объемную картину-калейдоскоп, сооруженную Аббадом в младенчестве, отец даже поместил над крышей дома, в котором они тогда жили, и странную, иногда утомительную, но чаще освежающую игру света, желаний и возможностей легко было разглядеть даже с противоположной стороны планеты – лучи света изгибались, отражаясь в ионосфере, желания яркими блестками впивались в сознание любого, кто бросал взгляд на странное сооружение, а возможности, созданные неуемной фантазией Аббада, обладали удивлявшей всех силой, толкавшей зрителей на поступки, которые они вовсе не желали совершать. Мать как-то попыталась снять это, по ее мнению, слишком въедливое сооружение, но игрушка Аббада не поддалась. Оказалось, что подчиниться она готова лишь его личному желанию, так и висела до самого его поступления в школу. В школу Аббад был принят раньше, чем его сверстники. Возможно, для него действительно не прошел даром эксперимент матери – во всяком случае, он умел легко управляться в трехмерии уже тогда, когда другие дети его возраста лишь начинали понимать, что Вселенная – далеко не только игрушки, которыми можно швыряться, не только дом, в котором они живут, не только долина, лес, живность, молчаливая и говорящая, не только тысячи близких ослепительных звезд над головой, создающих вечный свет, и не только быстрый бег или спокойные игры с приятелями. Вселенная – это еще и мир идей, желаний, нематериальных сутей, которые не менее реальны, чем игрушки, дом, птицы и звезды. Дети обычно ко второму циклу, а то и позже, начинают разбираться в том, что такое нематериальная составляющая мироздания, начинают понимать, что любую игрушку можно сделать самому из идеи, надо только научиться пользоваться законом сохранения полной энергии, а это не просто, как убедился на своем опыте Аббад еще тогда, когда его сверстники пускали пузыри и пачкали себя отбросами не только переработанной организмом пищи, но и ошметками собственных не выстроенных мыслей. Искусству покидать тело и перемещаться в физическом пространстве, пользуясь энергиями духовных полей, Аббад научился перед тем, как надо было отправляться на Аарагду, планету-странницу. Пространственная ее скорость была так велика, что Аарагда не могла надолго – хотя бы даже на цикл – прибиться к какой-нибудь звезде, но, с другой стороны, скорость эта была недостаточно велика, чтобы планета покинула Галактический шар и отправилась в долгое и беззвездное странствие к другой галактике. Искусству пространственного перемещения Аббада, на самом-то деле, обучил отец, но делал он это так искусно, незаметно и ненавязчиво, что Аббаду еще очень долго казалось, будто всему он научился сам – в том числе и искусству духовных слияний, позволявшему избегать стычек с другими детьми, не вполне еще понимавшими истинную структуру взаимоотношений (в том числе отношений полов) и потому тратившими много энергии на выяснение взаимных обид, претензий и противоречивых желаний. Тяготился ли Аббад своей отделенностью, своим часто не нужным ему одиночеством? Да, хотя сейчас Аббад и понимал, что именно одиночество заставило его быстрее, чем это удавалось многим, подняться на первую ступень посвящения – он, кстати, не ожидал, что это случится так быстро, на втором цикле обучения. Аарагда тогда прибилась к синей, как саримская лисица, звезде, чье название содержало больше нематериальных и духовных символов, чем можно было произнести и даже подумать. Название свое звезда получила из-за того, что демонстрировала в чистом виде закон сохранения полной энергии: какие-то вещества (впоследствии, уже в университете, Аббад разобрался, конечно, в их физикодуховной структуре), каких недоставало в недрах обычных звезд, вступали здесь в полный цикл реакций, производя не только электромагнитное излучение, но и довольно частые выбросы духовной энергии. Время посвящения выбрали учителя. Для Аббада стало неожиданностью, когда однажды, приступив к изучению внутренних смыслов поэмы Дервита «Мир, как пространство и воля», он ощутил полное единение с автором. Он стал Дервитом, вспомнил свою (его!) жизнь, то, о чем не имел раньше ни малейшего представления, пережил его душевные муки и великие подъемы разума, написал десятки поэм, забытых за давностью лет, прожил две тысячи циклов и умер потому, что узнал о жизни все. Молекулы в его теле начали распадаться на атомы, поскольку истончилась духовная составляющая личности, сохранявшая в веществе жизнь. Дервит стал духовной сутью, памятью, что в полной мере и ощутил Аббад. Он вернулся обновленным, и, главное, понимал теперь, что такое смерть. Прежде он не знал этого и, как все дети, воображал, что будет жить вечно. О сущности смерти Аббаду рассказал учитель Левкид. – Человек, – объяснил он, – самое сложно организованное существо в нашей Вселенной. Ты уже знаешь: человек – не только материальное тело, но и духовная суть, а также нематериальные составляющие, которым нет названия в вещественном мире. Животные, птицы, космические монстры, планеты, звезды, пыль и газ, само пространство – физический вакуум и все его квантовые состояния, – в общем, все, что можно увидеть глазом, не обладает духовным содержанием, хотя и содержит, конечно, его зачатки. В нематериальном мире у физического вещества и полей нет таких глубоких связей, как у человека. Вещественная планета содержит в нематериальности собственную идею и множество других идей, с нею связанных, но число и сложность этих идей ничтожны по сравнению с идеями, из которых возникает человеческий дух, а затем и тело… – Да, я это почувствовал, – подумал Аббад и попытался вернуться памятью в тот миг, когда… – Не нужно, – поспешил остановить его Левкид. – Ты посвящен – этого достаточно. Воспоминание может вывести тебя из психического равновесия, а ты еще многому должен научиться, чтобы понять самого себя. Я только хотел сказать, что финал жизни человека отличается от финала существования любой другой структуры во Вселенной. Когда в звезде заканчивается ядерное топливо, она сжимается под действием собственной тяжести и становится черной дырой, ее вещество вновь превращается в идею, которая когда-то и породила звезду, заставив сжиматься межзвездное облако. Это простой переход, результат сохранения полной энергии. Когда в живом существе – животном, например, или космическом монстре – начинают распадаться молекулярные структуры, часть энергии переходит в духовные миры, часть – в нематериальные, но часть остается здесь, во Вселенной. Остаточная энергия излучается в виде электромагнитных волн, и смерть живого существа представляется яркой вспышкой – обычно зеленого цвета, потому что именно в этом диапазоне… – Я видел, как умер листочник, – сообщил Аббад, невежливо прервав учителя, и тот мощным мысленным импульсом заставил ученика всплыть из нового воспоминания. – Ты еще не понимал, что это была смерть, верно? – подумал Левкид. – Нет, я… Я решил, что листочник отправился в другое место. – У физиков есть термин: телепортация. – Путешествие, да? Но это не совсем… – Молодец, Аббад, ты уже понимаешь разницу между физической телепортацией, которую и сам хорошо освоил, и сложным процессом трансформации… – При телепортации, – сказал Аббад, – меняются только координаты объекта в пространстве-времени, но нет обмена энергиями с духовным и нематериальным мирами. – Конечно, – кивнул Левкид. – А тот листочник действительно умер, судя по твоему описанию. В материальном мире он обратился в горсть пыли, в духовном осталось содержание его памяти, а в нематериальном сохранились все идеи о его структуре. Такова судьба живого, но не разумного. Человек… Левкид помедлил, пряча от Аббада какие-то свои мысли, не предназначенные для ученика, и продолжил после короткой паузы: – Настала пора, Аббад. Первое посвящение, через которое ты прошел, это знание о начале и конце всего сущего. Прежде ты жил в убеждении, что будешь всегда. – Конечно, – подумал Аббад. – Человек рождается из идеи. Из мысли. Из желания. Если бы у отца и мамы не возникло мысли о сыне… – Ты не родился бы, конечно. – А идеи вечны, или это тоже неверно? – Идеи вечны, – повторил учитель. – Полагаю, да. Во всяком случае, наука пока не смогла доказать обратного или показать в эксперименте исчезновение хотя бы одной идеи. Но это… – Это я пойму при втором посвящении, – подсказал Аббад. – Возможно, – сдержанно сказал учитель. – Физика утверждает, что идеи вечны, духовная суть изменчива, а вещественное тело смертно и в назначенный срок становится прахом, горсткой пыли. Тело живет… на этот счет есть разные мнения… некоторые исследователи считают, что человек в своей вещественной форме может, в принципе, прожить столько, сколько будут существовать молекулы, атомы и частицы. Примеров тому мы не знаем по той простой причине, что наша Галактика образовалась шестьдесят семь миллионов полных циклов тому назад. По сути это – вечность. – Но Дервит умер, – сказал Аббад. – Его молекулы распались. – Он сам того пожелал, – покачал головой Левкид. – Но как… – Дервит и сейчас жил бы и продолжал радовать нас своими поэмами – поистине гениальными! Физическое тело человека не может погибнуть, пока связано законом сохранения энергии с духовным миром и миром идей. Пока сохраняется триединство, смерти нет, потому что всегда из неуничтожимой идеи может возникнуть мысль, а энергия мысли, перейдя в материальный мир, восстанавливает тело таким, каким оно было в момент гибели. – Да-да, – нетерпеливо сказал Аббад. – Но Дервит… я был им, я ощутил его смерть, полный распад… – Неприятные ощущения, верно? Аббад передернул плечами. – Дервит сам того пожелал, – повторил учитель, – но у него ничего не получилось бы, если бы не помощь монахов. – Монахи?.. – Ты знаешь о Монастыре? – Конечно, – сказал Аббад. – Монахи управляют всеми процессами во Вселенной… – Нет, конечно, – улыбнулся Левкид. – Монахи все знают, да, но умеют далеко не все. Правда, никто не знает, чего же они все-таки делать не умеют, потому и сложилась легенда… – С неразрешимыми проблемами люди поднимаются в Монастырь. – Да, – кивнул учитель. – Поднялся и Дервит. Повторяю: поэт и сейчас был бы жив, не помоги ему монахи разорвать энергетические связи в его душе. Правда… Левкид скрыл от Аббада какую-то свою мысль, пустая оболочка взлетела в небо так быстро, что Аббаду показалось – сверкнула молния. «Правда»… – После первого посвящения, – сказал учитель, – ты начал понимать устройство Вселенной. После второго ты поймешь себя. *** – Я хочу умереть, – произнес Аббад. Ему показалось, что монахи не поняли его слов. Все трое остались неподвижны – не только в пространстве комнаты, но и в пространстве мысли: ничто не сдвинулось, не изменилось, слова Аббада повисли в воздухе, как легкие воздушные шарики. Они поднялись невысоко и выглядели одинокими путниками, уставшими и не желающими продолжать подъем. – Повтори. Кто это спросил? – Я хочу умереть и прошу вашей помощи. Слова, наконец, взлетели вверх, и в комнате возникло движение – не столько в физическом пространстве, сколько в пространстве мысли. Возможно, идеи в нематериальном мире также пришли в движение – во всяком случае, Аббад очень на это рассчитывал. И очень рассчитывал на то, что, произнося вслух кощунственные слова, он не позволил монахам понять их истинную причину. Он так старался… – Ты просишь нашей помощи, – сказала Асиана, передав голосом всю гамму охвативших ее чувств. Это было высшее искусство речи, Аббад так не умел, он даже не подозревал, что подобное умение существует. Он не представлял, как можно с помощью звуков, простых колебаний воздуха, передать и грусть свою, и боль, и любовь к нему, пришедшему в Монастырь со своей болью и грустью, и желание помочь, но не так, как хочет этот юноша, еще не понимающий, должно быть, что такое жизнь, и что прожить ее нужно, как бы ни оказалось трудно, как бы ни… О чем-то еще более глубоком и важном сказала в четырех словах Асиана, но Аббад не смог понять, он не умел так хорошо, как монахи, анализировать звуковые колебания. – Я прошу вашей помощи, – повторил Аббад. Сатмар подошел ближе, и Аббад ощутил исходившее от монаха душевное тепло, оно согревало и даже больше: юноша ощутил жар, в голове застучали быстрые молоточки. В ритме, который Аббад не сразу сумел расшифровать, они говорили о том, что жизнь – сложнейшая категория сущности, он еще молод, чтобы понять ее даже в самом простом воплощении, и, несмотря на два посвящения, он еще слишком мало… – Я решил, – твердо сказал Аббад. Молоточки перестали стучать, обруч, сжимавший череп, разжался, Сатмар бросил взгляд поверх головы Аббада – прочел, должно быть, остаточные мысли и соображения, – и отошел в сторону, а на его месте оказался Крамус. Он ничего не сказал, ни о чем не думал – во всяком случае, ни о чем таком, о чем следовало бы знать Аббаду. Он просто стоял и не смотрел даже, глаза его были закрыты для всех длин волн, и, может быть, только нематериальная суть была ему сейчас доступна, но Аббад очень надеялся на собственную защиту, пусть уже и тонкую, но все еще действовавшую. – Так, – сказал Крамус и отошел к Сатмару, стоявшему в проеме окна. Асиана не сдвинулась с места. – Ты решил, – сказала она, – и нам нужно знать причину. Конечно. К этому Аббад готовился почти половину цикла – с той ночи, что они с Тали провели на плато Уппары. Ужасная ночь. Последняя. Больше они не виделись. Ощущение резонанса, могучее и притягивающее, исчезло не сразу, но все-таки исчезло – последнее время Аббад провел вдали от родной планеты и вдали от всех мест, где могла находиться его любимая. Он любил Тали и с каждым прожитым часом любил все больше, он хотел сказать ей… Не мог. Не должен был. В ту ночь на плато, когда в небе не осталось ни одной близкой звезды и упал мрак, они оба будто обезумели. Темно стало не только в вещественном мире, но и в душе. Многие отправлялись сюда, чтобы испытать свои чувства, вот и они тоже… Это была идея Аббада, но Тали казалось, что испытание придумала она, и он не спорил, так было лучше, так он хотел, Тали, любимая, так часто принимала его мысли за свои, что и на этот раз… Он укрылся от нее в пещере бессознательного, и Тали оказалась такой одинокой перед мраком… Много позже Аббад раскрыл ее воспоминания, ощутил ее ужас. Все происходило так, как он хотел, то есть, конечно, он не хотел такого конца их отношений, он даже не представлял сначала, что резонансные связи разумов можно разорвать, но так было нужно, и главное: Тали не должна была знать, почему он это делал. – Ты больше не любишь меня, – сказала она. Это было не так, но Аббад кивнул: «Да». – Ты больше не любишь меня. Женщины лучше мужчин ориентируются в пространстве души, где мысль вторична, а то, что делал Аббад, происходило в мире идей, в нематериальном, там, куда Тали войти не могла – она еще не прошла даже первого посвящения, и это Аббад учел, конечно, когда обдумывал свой жестокий, но необходимый план. – Ты больше не любишь меня. Когда души перестают резонировать, возникает пустота… И еще эта ночь – чернота неба, к которой невозможно привыкнуть. Нужно бежать отсюда, туда, в родную Галактику, где всегда светло, но как бежать, если нет сил, если все напасти разом: чернота неба, чернота в душе, чернота, чернота… – Ты не любишь меня, но это невозможно. Конечно, это было невозможно. Но она должна была думать… Когда исчезает резонанс, наступает обратный эффект. Аббад знал это, он изучал физику волн – материальных и духовных, – а Тали еще не знала, и Аббад воспользовался своим преимуществом. – Уходи, – сказала она. – Я не хочу тебя видеть. Я не хочу тебя знать. – Хорошо, – сказал он. Аббаду никогда прежде не было стыдно, он не представлял, каково это – пережить стыд. Он пережил. *** – Я люблю Тали, – сказал Аббад. – Мы были вместе. Она разлюбила меня. Она меня прогнала. Теперь вы понимаете, что я не могу жить? Монахи должны были понимать. Они могли заглянуть в его душу (смотрите: все, что выше защиты, вы можете увидеть, ощутить, понять). Аббад любил Тали, и весь мир существовал для него, пока Тали была с ним. Она прогнала его, сказала «Уходи», смотрите, как это было. Да, плато Уппары – ужасное место, но ведь многие влюбленные отправляются туда, чтобы испытать свои чувства… Монахи стояли в проеме окна, освещенные двумя звездами – голубым Камроном и желтым Сатусом, – и о чем-то советовались друг с другом. Ни единой видимой мысли не поднималось над их головами. Решают? Что решат? В следующее мгновение Аббад понял, что остался в комнате один. В лучах Камрона все еще были видны контуры человеческих фигур, сквозь которые не проникал свет, но монахов здесь не было. Ни мыслей, ни даже их нематериальных сутей. Аббад сделал несколько шагов, почему-то с трудом передвигая ноги, на его плечи навалилась тяжесть, воздух давил и прижимал к полу. Аббад протянул руку и коснулся плеча Сатмара – холодного и пустого внутри. Он знал, что монахи способны покидать свои тела, он слышал об этом, теперь видел, как это происходит. Он что-то сделал не так? Что-то не так сказал? Его защита оказалась недостаточно надежной? Аббад отвернулся, ему неприятно было смотреть на пустые человеческие оболочки – живые, но не существовавшие здесь и сейчас. Что хотели знать монахи? Только бы не… Сатмар вернулся – его угловатая, чуть сутулая фигура возникла у двери – впечатление было таким, будто он только что вошел и прикрыл дверь за собой. Аббад отвлекся, вот и не обратил внимания. Он невольно бросил взгляд на другого Сатмара – фигуру у окна, все еще неподвижную и равнодушную. Монах ощутил удивление Аббада, но не стал ничего объяснять, прошел на середину комнаты, соорудил удобное кресло из мыслей о хорошем отдыхе, поставил стол, вырастив его из плиток пола, устроился поудобнее и лишь после этого пригласил и Аббада присесть – разговор, мол, еще предстоит долгий, во многом нужно разобраться, решение непростое, ты понимаешь, одно из самых сложных решений, и нужно быть уверенным… Аббад не стал фантазировать – не монахам же демонстрировать свои умения, – вызвал низкую скамеечку, самое простое, что можно было легко соорудить из мысли о приятной беседе, – присел так, чтобы фигуры у окна остались за спиной, не мог он их видеть, они ему мешали. Сатмар усмехнулся – мысленно, выражение его лица оставалось в меру доброжелательным и внимательным. – Ты уверен, что между тобой и Тали больше не существует резонанса, – сказал Сатмар. Он не спрашивал, он утверждал, и Аббад подтвердил сказанное мысленным «да». – Да, – задумчиво произнес Сатмар, помедлил и продолжил, поглядывая время от времени в ту сторону, где у окна, как чувствовал Аббад, все еще стояли три неподвижных фигуры. – Ты должен понимать, что своим решением изменишь жизнь многих людей. Тали – прежде всего. Вы связаны резонансом, в мировых линиях сложилась структура, определившая с высокой вероятностью не только ваше личное будущее, но и будущее мира. – Я не… – Помолчи, – резко сказал Сатмар. – Твои желания ясны, но причины… Твое решение безответственно, Аббад. Я знаю сейчас, как изменится мир после твоей… м-м… смерти. – Да? – сказал Аббад. Сам он не знал этого. Точнее – знал, конечно, но совсем не то, что заинтересовало бы монахов, поддерживавших Вселенную в равновесии, без которого невозможно развитие трех составляющих мироздания – материи, духа и идей. Мучительно размышляя о собственной участи и принимая решение, Аббад пытался представить себе не только то, что он сейчас скрывал за оболочкой защиты, но и – естественно! – вообразить, каким будет мир после его ухода. Ему это не удалось – возможностей оказалось так много, а исчисление вероятностей было таким сложным, что свои попытки Аббаду в конце концов пришлось оставить. Он мог только надеяться, что с его смертью ни одна звезда не взорвется, ни одна туманность не схлопнется, ни одна идея не станет причиной рождения монстра, и вообще никто в мире не будет сожалеть о его уходе. Кроме Тали. Она больше не любит его, да, но в день печали, в тишине, пусть вспомнит его имя и произнесет, тоскуя… Должно же быть и в этом мире нечто… Не должно. – Тали будет помнить тебя всегда, – печально сказал Сатмар. – В этом ты можешь быть уверен. Давление мысли монаха казалось Аббаду почти невыносимым. Если защита исчезнет… – Тали, – повторил Сатмар. – Ты понимаешь, что сломал ей жизнь? – Она разлюбила меня, – горько произнес Аббад. Сатмар покачал головой. – Ты еще не знаешь довольно простой вещи, – сказал он, отведя взгляд от Аббада и позволяя ему немного расслабиться. Монах не хотел давить, предлагал Аббаду раскрыться самому. – Ты не знаешь, что возникший резонанс не может быть разорван. Любовь не может пройти, как проходит зима на окраинной планете. Любовь, Аббад, имеет начало, но не имеет конца. Как жизнь человека. Возникнув однажды, резонанс не может прерваться, волновая функция этого процесса – если говорить языком математики – имеет начальное состояние, но в дальнейшем не зависит от времени, а число ее возможных ветвлений таково, что никто до сих пор не смог в точности определить их количество. Этим занимались великие ученые – Кармикор, Баззард, Делиата… Аббад знал имена великих физиков. Их идеи он впитывал в школе, их мысли, витавшие в пространстве, изучал в университете, а во время экзаменов они помогали ему преодолевать препятствия: Делиата даже подсказала решение, когда Аббад не мог справиться с волнением… – Баззард, – продолжал Сатмар, – доказал, что число решений волнового уравнения резонансного состояния психики превышает число атомов в наблюдаемой части Вселенной. Это нижняя граница. Верхнюю пыталась определить Делиата. Ей это пока не удалось, и проблема не решена до сих пор. Современная физика полагает, что резонансное состояние – то, что называют любовью, – не ограничено во времени. Так что… Им не нужно было взламывать мою защиту, чтобы понять, что я лгу, – подумал Аббад, не пытаясь скрыть свою мысль, мгновенно всплывшую из подсознательного и светлым облачком поднявшуюся к потолку. Сатмар проводил мысль взглядом и даже не попытался ее притянуть, оценить, взвесить. Им не нужно было взламывать защиту, они и так знали, что я что-то скрываю… – Конечно, – кивнул Сатмар. – А разговор с Тали подтвердил нашу догадку. Разговор с Тали. Они… – Конечно, – повторил Сатмар. – Речь идет о резонансе. Это самое удивительное явление в природе разума. Любовь. Познавать ее еще не изведанные грани – само по себе великое счастье, а то, что произошло у тебя с Тали… – Вы говорили с Тали! – не удержался от восклицания Аббад. Как они сумели? После расставания – так, во всяком случае, было решено между ними – Тали отправилась в галактику Сентти, на маленький звездный островок, куда никто не стремился попасть. Между нами – сотни тысяч излучающих галактик и поглощающих любую направленную мысль облаков. В духовном измерении Сентти почти не проявляла себя – разве что слабая тень осталась от когда-то существовавшей в этой галактике цивилизации, погибшей на заре неудачно сложившейся для нее технологической эпохи и не успевшей подняться до вершин разума. В мире идей Сентти и вовсе отсутствовала, странное создание природы, возникшее случайно и обреченное на существование лишь в материальном мире. Аббад не представлял, как сумели монахи отыскать Тали в этой звездной пустыне. Не могла же она, в самом-то деле, нарушить их уговор и вернуться… *** – Постой, – сказала Тали. – Прежде чем мы расстанемся, ты должен сказать: кто она? – Она? – удивился Аббад. – О чем ты? Он прекрасно понимал, конечно. – Другая женщина, – сказала Тали. – Я давно почувствовала твое отчуждение, Аббад. Ты уходил в себя, погружался глубоко и закрывался, я переставала видеть тебя… мне становилось плохо, а ты не замечал. – Замечал, – подумал Аббад, – но не должен был… – Кто она? – Тали! – Аббад не мог больше выдержать игры, которую придумал, чтобы уберечь любимую от неизбежной горечи расставания. – Ты прекрасно знаешь: у меня нет и не может быть другой женщины! Он снял защиту, которую выстраивал долгие месяцы – с тех пор, как почувствовал в себе… – О! – сказала Тали. – Это… – Осторожно, – сказал Аббад. – Держись за мои мысли, я поведу тебя. *** – Нет, – сказал Сатмар, – Тали не возвращалась, она все еще в Сентти. Она любит тебя. А ты, конечно же, любишь ее. Резонанс разрушить невозможно, тебе нужно было придумать другую отговорку. – И вы бы… – Да, ты не сумел бы скрыть, верно. Но то, что ты… вы с Тали… придумали – не лучшее решение. – Тали сказала… – Сейчас с ней Асиана и Крамус. Видишь ли, Аббад, любовь – неустранимая связь на всех уровнях и во всех трех мирах. Материальная любовь – это жизнь, дети, работа… Духовная – это сила жить, сила познания. А в нематериальном мире тебя и Тали соединяют идеи, столь же вечные, как Вселенная. – Мы… – Да, вы с Тали, конечно, все это знаете. Вы создали другие идеи, идеи разрыва резонанса, но… Понимаешь, Аббад, невозможно убить идею. Материя может исчезнуть из мира, может перейти в духовную форму, и дух может породить материю, лишь бы сохранялась полная энергия. Можно уничтожить и духовную сущность, тогда она становится нематериальной идеей, а некоторые идеи – большинство, да, – могут стать элементами духовной жизни. В конце концов, материя возникает из идей, проходя духовную стадию. Я повторяю тебе известные истины для того, чтобы ты понял: не бывает полных преобразований. Аббад, ты был прекрасным учеником! Тебе когда-нибудь удавалось полностью, без остатка, использовать идею для создания духовной структуры или полностью исчерпать духовную энергию, создавая материальное тело или явление? Аббад молчал. Он не задумывался об этом. Просто черпал, просто создавал, пользовался, но действительно… – Невозможно, – продолжал Сатмар, – без остатка переводить энергии из одной формы в другую. Это универсальный закон. Ты бы узнал и это на собственном опыте. Но ты торопился. – Да, – подумал Аббад. Верно, он не мог ждать. Разве стал бы он так поступать с Тали, если бы полагал, что у него есть время? – Всегда что-то остается, – сказал Сатмар. – Ты поставил сильную защиту. Никто из нас не смог пробиться в твой духовный мир. Но в нематериальной своей сути ты не мог не оставить следа – нити, соединившей тебя с Тали. – В нематериальном? – удивился Аббад. – Там нет ни пространства, ни времени, там не существует связей, подобных материальным нитям! – Конечно, – согласился Сатмар. – Но цепочки идей приводят от причин к следствиям и могут вернуть следствия к причинам не менее верно, чем дорожный указатель на пустынном шоссе. Сейчас Тали будет здесь, и я надеюсь, что ты, наконец, снимешь свой панцирь и покажешь истинную причину твоего решения. Прежде, чем воздух начал густеть, Аббад почувствовал присутствие Тали. Он ощутил прилив вдохновения, избыточный, так и не израсходованный запас духовной энергии их оборванной связи – будто резко распрямилась сжатая до предела пружина, и все мысли, все образы, все загнанные в подсознательное их общие желания, мечты, планы, все это вспыхнуло и едва не сожгло его мозг, едва не заставило Аббада вскричать от мгновенно возникшей и так же быстро задавленной боли. Тали ворвалась в его мысли, она протягивала к нему руки, и он инстинктивно потянулся к ней, не понимая, как он мог… почему придумал именно такой план… да, другого просто не было, но так… нельзя было… Тали, любимая, ты здесь, я всегда была с тобой, Аббад, ты ушел, но все равно чтото осталось, да, я знаю теперь, остались идеалы любви… Я не могу без тебя, Аббад. Я не смог без тебя, Тали. Воздух, как ему казалось, загустел так, что стало почти невозможно двинуть рукой. Конечно, это было лишь ощущением, осознанием перехода энергий, но как же больно было даже подумать… выдавить из себя мысль… направить… Стало легко. Аббад вскочил на ноги – посреди комнаты стояла Тали, рядом – Асиана с Крамусом. – Я не смогла без тебя, Аббад, – сказала Тали. Сказали ее глаза, сказали ее руки, ее мысль прокричала это, и тонкие струйки слов разбрызгались по всей комнате. Защита рухнула – то, что не получилось у монахов (да и старались ли они?), легко сделала Тали, нарушив данное Аббаду слово. Осуждать ее? – Я люблю тебя, Тали, – сказал он. Не было смысла скрывать это. Теперь придется сказать монахам правду, и они откажутся помочь. Он навеки останется с Тали. Это счастье. Он никогда не сможет стать самим собой – это горе, которое невозможно вынести. – Аббад, – сказал Сатмар, прерывая начавшуюся любовную игру, – теперь тебе нечего скрывать. Да, ты неплохо придумал: назвать неудавшуюся любовь причиной своего решения. Ты не виноват в том, что это не удалось. Ты не знал, что несчастная любовь – оксюморон. Но теперь тебе придется назвать истинную причину. Или… ты передумал и не хочешь больше встречи со смертью? Слова монаха воспринимались, будто сквозь шумовой фон: Аббад видел глаза Тали и читал в них все, что она пережила, оставшись одна в темном и безрадостном мире. Он видел ее душу, раскрытую для него, как это было с первой их встречи, он обнял свою Тали, рассказал ей обо всем, что случилось с ним после их расставания. Они опять стали единым целым – в духовном мире и в мире идей они слились в одно человеческое существо. Что говорил монах? – Простите, – сказал Аббад, и странным образом его голос содержал в себе интонации Тали, это она так растягивала звуки, – простите, Сатмар, я слышал, но… – Да, мы понимаем, – улыбнулся монах. – Ты уже вернулся из любовного погружения? – Мы… – Все в порядке, – сказала Асиана. – Вопрос: ты передумал и больше не желаешь встречаться со смертью? – Нет, – твердо сказал Аббад. – Я не передумал. Я хочу умереть и прошу вашей помощи. – Тебе придется назвать истинную причину, – мягко сказала Асиана. Защиты больше не существовало. Аббад был открыт, как книга, которую можно прочитать от первого до последнего знака и в материальном, и в духовном, и в идейном ее содержании. Однако Аббад сам поднялся на гору. Сам просил помощи. Он должен был сам назвать причину. – Я почувствовал это в себе сразу после второго посвящения, – начал Аббад. *** Он почувствовал в себе чужое и сначала не понял, что произошло. Второе посвящение он прошел неожиданно, когда меньше всего ожидал каких бы то ни было перемен. В школе «Зив», где он учился после окончания первой ступени, Аббаду было интересно и легко, у него оказалось много друзей не только среди учащихся – он подружился с керадами, многолапыми пушистыми и не очень умными животными, которые прекрасно чувствовали любое движение его мысли и, не понимая сути, всем существом поддерживали Аббада, часто заставляли его переживать экстаз и, следовательно, взрослеть. В тот день Аббад играл с приятелями (среди них были и люди, и керады и мысли о будущем, не имевшие воплощения в материальной реальности), устал – скорее духовно, чем физически. Он вернулся в свою комнату и отгородился от мира, хотел отдохнуть перед экзаменом по химии духовно структурированных соединений. Аббад практиковал не полную медитацию (инстинктивно он опасался полностью погружаться в мир идей, боялся, что потеряет, выбираясь оттуда, какую-то часть своей телесной оболочки и останется уродом, чего, конечно, не могло случиться, но он все равно боялся, не умея еще управлять своим страхом), он лишь остановил в себе поток времени, затемнил пространство – в общем, сделал все, как учили. Обычно достаточно было нескольких минут, и физическая усталость проходила, а мысли расставляли сами себя в порядке очередности. В тот раз, погрузившись в приятную темноту, Аббад почувствовал, как от пяток к коленям, а потом выше – к животу, шее и, наконец, к голове поднимается странный жар. Утомительный, но, в то же время, возвышенный, поскольку, не обладая материальными энергиями, он раздувался энергиями духовных исканий. Волна жара поднялась к голове, что-то переключила в сознании и схлынула, опять пройдя через шею в грудь, но там и оставшись, заставляя Аббада тяжело дышать, будто в комнате вдруг упало давление. Аббад умел перемещать свое тело в пространстве, у него и сейчас возникло инстинктивное желание оказаться там, где легко дышится – в долине Бирта, например, удивительно красивом месте, где тысячи водопадов создавали уникальное сочетание множества звуков разной высоты и силы. Возникала симфония, которую можно было слушать бесконечно. И воздух там такой… Перемещения не получилось, а грудь сдавило сильнее. И голос. Чей-то низкий голос произносил слова, которые Аббад не мог понять. И еще смутное желание чего-то, что еще не случилось. Несбывшееся. Не произошедшее. Будь Аббад в состоянии связывать кванты мыслей в целостные структуры, он понял бы, конечно, что начался процесс второго посвящения, и нужно отдаться потоку энергии, переходившему сейчас из мира идей в духовный, а из духовного – в физический. Аббад сопротивлялся, и, возможно, из-за его неосознанного сопротивления что-то то ли порвалось в ткани пространства-времени, то ли, наоборот, склеилось не по обычным законам Клавиуса-Коретти, всегда ведь есть статистическая вероятность, погрешность… Неважно. Это и тогда, и потом казалось ему неважным. Он ощутил в себе вселенную. Он стал вселенной. Не вокруг себя, а внутри, в себе самом он ощутил движение, излучение, жизнь множества галактик, самых разных – сферических, как его родная Галактика Альбуаза, спиральных, будто закрученных энергетическим вихрем, были галактики и вовсе бесформенные – заброшенные звездные острова. Галактики собирались в скопления, разбегались друг от друга, а кое-где, наоборот, сталкивались. Это я? – мелькнула мысль. Это во мне? Конечно, – сказал голос. Десятка два галактик столкнулись в тишине пространства, и Аббад почувствовал легкий жар на уровне сердца, будто тоненькая игла вонзилась в тело и расплавилась, оставив вместо своей материальной сути гибкую мысль и не понятую еще идею. Он медленно проплывал, пролетал… почему-то из его лексикона исчезли слова, обозначавшие движение в пространстве со скоростью, превышавшей скорость света. На его пути возвысилась, поднялась, приблизилась галактика… или это была лишь мысль о… или, возможно, проросшее в его душу стихотворение… нужно успокоиться, иначе он ничего в себе не поймет и не сможет выбраться из этого… этой… Он летел, плыл, проползал между звезд, погружался в холодные недра туманностей, перехватывал излучение белых карликов и жарких шаров, которые не были ни звездами, ни черными дырами, а представляли собой щупальца идей, проникшие сквозь два мира в это материальное пространство. Это я, – говорил он себе, и суть всякого явления, всякого движения была ему ясна. Он знал, почему светят звезды, почему они собираются в спирали, и понял неожиданно, что где-то в этой огромной вселенной, на одной из планет одной из галактик в одном из скоплений… в мире, так непохожем на его собственный, но все-таки похожем, как бывают похожи друг на друга братья, разделенные при рождении и никогда не встречавшиеся. Я – это он? – мелькнула мысль. Он – кто? Резкая боль возникла не в нем, конечно, потому что себя он не чувствовал, резкая боль пронзила все пространство, будто натянувшееся, готовое разорваться, лопнуть, вот сейчас… и мир перестанет быть… невозможно… нет… *** Что-то вытолкнуло Аббада из собственного подсознательного, заставило его открыть глаза, а уши опять слышали множество звуков – тихий гул компьютера, тиканье часов, чьи-то возбужденные голоса на лестничной площадке, и еще были какие-то звуки, природу которых он не мог определить. Он открыл глаза и понял, что вернулся сон, преследовавший его которую уже ночь. Это был не кошмар, напротив, ему было безумно интересно ощущать себя в мире, который он не мог бы никому и даже самому себе описать словами, потому что слов таких не существовало в природе. Он потянулся, и образы сна, будто испугавшись света дня за окном, свернулись в клубок и спрятались, сделавшись невидимыми и неощутимыми. Каждое утро, просыпаясь, он хотел запомнить хоть что-нибудь, знал, что это важно – прежде всего, для работы, это было прозрение, инсайт, но почему-то память подводила, и он запоминал только ощущение, внутреннюю потребность делать то, что он делал. Он заставил себя встать и поплелся в душ – пустил сначала очень горячую, а потом ледяную воду, мысли чуть прояснились, и ему даже показалось, что он ухватил кончик решения уравнения, того, вчерашнего. Он читал перед сном новую статью Линде в «Физикал ревью леттерс», очень интересный поворот в умозаключениях по поводу теории инфляции. В комнате надрывался телефон, но ему не хотелось выходить из-под душа, он надеялся, что сейчас вспомнит… Нет, не получалось. Ни сейчас, ни вчера, ни неделю назад. Наскоро обтершись, он прошел в комнату и схватил трубку телефона как раз в тот момент, когда звонки прекратились. Номер… Да, звонила Дженни, ладно, ей я перезвоню позже, подумал он, все равно вечером встретимся, а сейчас не хотелось бы отвлекаться. Он выпил кофе, съел вчерашнюю булочку, густо намазав ее айвовым вареньем, и сел к компьютеру. Он не знал, как выйти на решение, но почему-то был уверен, что именно сегодня, стоит только ему увидеть на экране цепочку знакомых символов… Наверно, это и называют инсайтом, озарением, прозрением. Заменить переменную, проинтегрировать по поверхности, потом сократить и суммировать… Все. Решение. Красивое, как миланский собор, прочное, как пирамида Хеопса, – и правильное, как четыре первых постулата Евклида. Он записал формулу в файл, вывел на экран всю цепочку преобразований и предположений, начав с граничных условий и критериев. Слов для описаний понадобилось совсем немного – не статья получилась, а математическая вязь, именно такой он и представлял себе идеальную статью по космологии, где все понятно посвященному, специалисту, и совершенно непонятно прочим смертным. Космология, – подумал он, – не наука об устройстве Вселенной (или вселенных, если быть точным). Космология – это самосознание. Или – самопознание. Извлечение мира из сна. Или – сон мира. Он вывел статью на принтер, распечатал, но перечитывать не стал – положил восемь получившихся листов сверху на купленную вчера в университетском магазине «Жизнь в Многомирии» Бергсона. Надо будет почитать, но он знал, что не найдет там ничего для себя нового. Идеальная статья, – подумал он. Только формулы. Посвященный поймет. Или не поймет – если не захочет разглядеть очевидного. Не нужно полагаться на интуицию читателя, будь он лучший в мире специалист по строению Вселенной. У каждого свой взгляд на предмет, и каждый (разве он не убедился в этом на собственном опыте?) в любом, самом, казалось бы, очевидном тексте видит лишь то, что хочет – до тех пор, пока его не ткнут носом, пока не скажут: «Что же ты, идиот этакий, не видишь очевидного?» Конечно, из формул следует, что плотность темной материи во Вселенной близка к критической настолько, насколько вообще эта величина может быть определена на современном уровне наблюдений. Вообще говоря, темной материи во Вселенной ровно столько, сколько требуется для объяснения ускорения – и столько, сколько нужно, чтобы в любой момент ткань пространства-времени порвалась, как рвется под руками старое прохудившееся платье: так он порвал, когда был ребенком, старую мамину блузку, самую дорогую для нее вещь, которую она берегла, как… да, пожалуй, как обручальное кольцо, переходившее в семье от матери к дочери. Мама говорила, что кольцо сделано было в семнадцатом веке, а может, и раньше – во всяком случае, его далекой прапрабабке это кольцо подарил на свадьбу прапрадед-пират, а с чьего пальца этот прожженный негодяй снял удивительную по красоте вещь… лучше не думать. Вот-вот. И сейчас, пожалуй, лучше не думать о том, что каждый прожитый миг может стать последним, и ни от чего земного это не зависит – ни от террористов Бин-Ладена, ни от бандитов из Гарлема, ни от иракской политики президента Буша, ни от болезни, любой, в том числе и той, которой он боится больше всего, боится настолько, что даже мысленно не хочет произнести название, потому что это семейный бич, от этой болезни умерли его дед и отец… Все. Не думать об этом. Хорошее настроение? С утра у него было замечательное настроение, он закончил статью, да. Правильную статью, где каждая формула следует из предыдущей, доказательства плотно, без малейших зазоров, пригнаны друг к другу. И где нет последней, заключительной фразы. Вывода. Он побоялся написать. Побоялся за свою научную репутацию. Побоялся, что ему скажут: а это уже фантазия. Не должны сказать, потому что уравнения правильны, а решение однозначно. Но ведь скажут, нет никаких сомнений. «По-вашему получается, что скорость света не предел скоростей? Повашему, общая теория относительности неверна в масштабах, сравнимых с размерами Вселенной?» Верна, конечно. Но тот, кто не хочет понять сам… Он стоял, прижавшись лбом к оконному стеклу, и смотрел на улицу: в узком дворе играли дети, залезая на горку и скатываясь с нее с громким визгом, а чуть дальше поток машин по-черепашьи двигался, застряв в утренней пробке. Мрачный поток, водители не сигналили, но он мог себе представить, какими словами каждый из них проклинал сейчас дорожную полицию, светофоры, своих собратьев-автомобилистов и, конечно, президента, которого к месту службы доставляют с эскортом полиции или на вертолете – за деньги налогоплательщиков, кстати, то есть, и за его деньги. И все это – и дети на площадке, и дома, и машины, и президент с эскортом и вертолетом, и Дженни с ее причудами, и он сам с его работой и занудством – все-все-все в следующую секунду перестанет быть в материальном мире, потому что… Так говорит уравнение. Так говорит Заратустра. Он слушал эту симфоническую поэму нелюбимого им Рихарда Штрауса в прошлом сезоне в Карнеги-холле, играл Израильский оркестр под управлением Меты. Так говорит Заратустра. Говорит – и все. Слово сказано. Музыка сыграна. Точка. В статье он точку не поставил. Понимайте, мол, сами. Пусть кто-нибудь, кто поймет, напишет об этом и станет первым, сказавшим слово. Пусть коллеги расправляются с тем, кто это слово скажет. Не с ним. В начале было слово. Да? Нет, господа, в начале было число. В начале была формула. Словом мир не сотворишь. Мир нужно рассчитать, иначе… Да, иначе он в какой-то момент – через тринадцать миллиардов лет – попросту развалится, исчезнет, растворится в физическом вакууме… Хорошо. Он сам скажет, напишет слово и поставит точку. А в редакцию пошлет первый вариант. Если не передумает. Мальчишки на детской площадке подрались, как голуби у кормушки, и визг стал непереносим, а тут еще и машины начали гудеть – у водителей кончились запасы терпения. Невозможно слушать. Он вернулся к компьютеру, по темному экрану ползала надпись: «О, Дженни, любовь моя», это сама Дженни и написала, ему бы в голову не пришло. Он надавил на какую-то клавишу, и надпись исчезла, уступив место последнему абзацу статьи, последней – ясной, по его мнению, – формуле. Он вздохнул. Обо всем надо говорить словами. Да, в начале была формула, было число. Но потом Господь, если это была его работа, все-таки произнес слово. Значит… «Из приведенных расчетов, – написал он, медленно отстукивая буквы, – с очевидностью следует, что в безразмерных величинах значение плотности темной энергии в наблюдаемой части Вселенной тождественно равно критическому значению космологической постоянной. Следовательно, решение не зависит от времени. Следовательно, разрыв пространства-времени может произойти в любой момент. И этот момент станет последним в существовании Вселенной». «Нет нужды говорить, – отстукивал он, – о скорости света как максимуме скоростей, поскольку указанный процесс не имеет ничего общего с движением материальных тел – речь идет о разрыве самого пространства-времени. Как будет выглядеть разрыв (иными словами – гибель Вселенной) для внешнего наблюдателя, если таковой существует? По-видимому, точно так же, как мы сейчас описываем Большой взрыв: рождение новой физической структуры, для которой пространство-время может и не являться необходимым атрибутом. В рамках современных физических теорий не представляется возможным описать будущую вселенную, как нет у нас возможности описать вселенную прошлую…» Это понятно. Это должно быть понятно каждому специалисту. А для не специалистов он дописал: «И чтобы все поняли: каждую секунду, в любое мгновение мир, в котором мы живем, может исчезнуть. Не взорваться, не схлопнуться в сингулярность, а именно исчезнуть: из вакуума мы родились и в вакуум вернемся». Из праха мы… Страх смерти. Невозможно жить, зная, что любой миг – этот или следующий, а может, через десять лет или через сто, или через миллион, – может стать последним не только в твоей жизни, но и в жизни Дженни, которая уверена, что доживет с ним до старости и родит ему трех детей, двух девчонок и мальчишку, и в жизни Кэрролл, его первой жены, бросившей его накануне защиты и уехавшей куда-то (в Германию, кажется) с любовником, о существовании которого он узнал из ее прощального письма. Он не желал Кэрролл ничего дурного, он действительно оказался плохим мужем, и мысль о том, что сейчас или завтра Кэрролл тоже может отправиться в небытие… это была неправильная мысль, он не хотел думать об этом, но ведь думай или нет… Человек – даже не пылинка в этом мире. Человек – ничто, живущее на планете, абсолютно не выделенной среди прочих. Если исчезнет Вселенная, если кто-то снаружи сможет наблюдать ее гибель, разве этот гипотетический наблюдатель поймет, что вместе с мирозданием исчезло человечество, так долго шедшее к процветанию, что по дороге забыло о цели своего пути? Профессор Чейни, кстати, тоже исчезнет. Кто тогда должен будет съесть свою шляпу? Вот ведь закавыка: странное получилось, на самом-то деле, пари. Он докладывал о возможном (тогда – еще только возможном, но совсем не обязательном) разрыве пространства-времени, и Чейни в обычной своей пренебрежительно-высокомерной манере сказал с места: «Мечник, вы всегда торопитесь с выводами. Если у вас противоречие с Эйнштейном, то подумайте все же, кто, скорее всего, не прав!» «Профессор, – не выдержал он, стоя у доски и от волнения рисуя на ней фломастером кривые треугольники, – послушайте, в уравнениях нет ошибок, с этим вы согласны? Да? Разрыв пространства не является передачей информации, при чем здесь постулат Эйнштейна? Вы же не спорите с Линде, когда он говорит о том, что после Большого взрыва Вселенная за микросекунды раздулась до размеров в десятки миллионов миль!» «Вы не понимаете, Мечник, что это разные вещи? – Чейни не потрудился встать, чтобы его реплику услышали присутствовавшие в зале, а не только докладчик. – С вами невозможно дискутировать, любое возражение вы воспринимаете, как личный выпад. Хорошо, давайте и я по-вашему. Так вот: я готов съесть свою шляпу, если ваша математика – совершенно правильная, не спорю! – имеет какое-то отношение к реальности». «Хорошо, – сказал он, – позвольте, я сам выберу вам шляпу и подберу гарнир». Если он прав (а он прав!), то, когда это случится, профессор не успеет узнать о том, что оказался побежден в споре. Пусть все думают, что мир просуществует еще миллиарды лет. Пусть все думают, что… Невозможно жить, зная, что каждое мгновение… Но разве не живем мы именно так? Разве не каждое мгновение на голову может упасть кирпич с крыши или самолет с неба? «Человек не просто смертен, но смертен внезапно». Он прочитал это в романе одного русского автора. Мы живем, понимая, что каждый миг может стать последним, и разве мы об этом задумываемся? Что изменится оттого, что к бытовому знанию добавится чисто абстрактное представление о том, что и Вселенная смертна так же внезапно, и что в любое мгновение, которое станет последним в отсчете времени, исчезнем не только мы, но и эта планета, и звезды в небе, и галактики, и само небо? Он бросил листы бумаги на стол, они тихо спланировали и улеглись друг на друга причудливым образом, будто лепестки странного цветка, вроде маргаритки, по которой можно погадать о будущем, которое наступит… или не наступит… «будет, не будет, погибнем, будем жить»… Всегда, сколько себя помнил, он воспринимал жизнь, как мгновение, то самое настоящее, что не имеет длительности – будущего еще нет, прошлого уже нет. И потому он жил в постоянном страхе, что хрупкое настоящее исчезнет тоже. Должно быть, к нему относились, как к человеку немного не в своем уме, а когда он занялся космологией, наукой, где, по его мнению, имели смысл два понятия: «настоящий момент» и «вечность», то после первых же работ кто-то публично назвал его гением, а от гения можно ожидать любых причуд на бытовом уровне. Эйнштейн, говорят, ходил на работу в тапочках, Ньютон колотил своих слуг скалкой… А он жил в страхе, скрытом от всех, даже от Дженни и Кэрролл – не хотел, чтобы женщины знали, как страшно ему ложиться спать, подозревая, что утром он может не проснуться. И как страшно ходить по улицам, зная, что существует не равная нулю вероятность падения метеорита, достаточно крупного, чтобы пулей пробить его ничем не защищенный череп. И как ужасно ощущение сдавленности, которое не покидало его в любом помещении – ведь здание в любой момент могло обрушиться, потому что существует не равная нулю вероятность ошибки в расчетах конструкции, не говоря о том, что строительные подрядчики всегда экономят на материалах. А еще он боялся… Он отгонял ненужные мысли, за многие годы он научился делать это так искусно, что иногда и сам забывал, что настоящее эфемерно и преходяще. В такие моменты, как наивно полагали его знакомые, он становился самим собой, а на самом деле терял себя на какоето время, обычно исчезавшее из его памяти. Он стоял, прижавшись лбом к оконному стеклу, и впервые в жизни ощущал полную внутреннюю гармонию. Он знал, чувствовал с младенческих лет – не только человек живет настоящим, не только для всего живого на планете существует лишь проживаемый сейчас миг, но и для мироздания есть миг реальности – и вечность, в которой от реальности не останется и следа. Когда? – думал он. В том-то и дело, что никто этого не узнает. «Пока я есть, нет смерти. А когда придет смерть, не станет меня». Он хотел взять эти слова эпиграфом к статье о разрыве Вселенной, но подумал, что редактор все равно попросит эпиграф снять, поскольку у журнала свои традиции, свое представление о связи времен, нелепое, конечно, но разве не на таких нелепостях держится так называемая духовность? Нравственность? «Пока я есть, Вселенная существует. Когда Вселенная исчезнет, меня не станет». Телефон затрезвонил так, будто уже наступила последняя секунда бытия. Он быстро поднял трубку. – Значит, в восемь? – сказала Дженни. – Я звоню, чтобы уточнить, а то ты вчера говорил так неопределенно… – Постараюсь, – сказал он. – Если ничего не случится. – Да что может случиться? – привычно возмутилась Дженни. – Ты только не забудь! – Что может случиться? – так же привычно повторил он. – Конец. Финал. – Ну да, – сказала Дженни, – ты рассказывал: как это… разрыв пространства. Звучит, будто разрыв селезенки. У одной моей знакомой… она попала недавно в аварию… представляешь, у парня ни царапины, а у нее… и вот привезли Катрин в больницу, а там… Он положил трубку на стол. Дженни любила рассказывать жуткие истории, приключившиеся, впрочем, не с ней, а с кем-нибудь из ее дальних знакомых. Лишнее доказательство того, что человек, как и Вселенная, смертен внезапно. Он думал о том, нужно ли переписать последний абзац статьи, сделать его более устрашающим – люди любят, когда их пугают, так они лучше воспринимают… – Да, интересная история, – сказал он, поднеся трубку к уху точно в тот момент, когда Дженни замолчала. – Извини, мне нужно на работу, мобильный я выключил, он мешает мне думать. – В восемь, – с нажимом сказала Дженни. – Не забудь. Память, – подумал он. Это лишь набор знаний о прошедших мгновениях. Как может помочь память, когда речь идет о будущем, которого нет и которое может не настать? – Хорошо, – сказал он и положил трубку. По дороге в университет нужно зайти в магазин Дортмана и купить шляпу для Чейни. Все нужно делать сегодня. «Никогда не откладывай на завтра…» Потому что завтра может не наступить. Если Вселенная просуществует до вечера, он сделает Дженни предложение. *** – Ты полагаешь, – сказал Сатмар, – что это существо… – Человек, – поправил Аббад, – это человек. Его зовут Натаниэль Мечник. – Человек, – наклонил голову Сатмар. – Этот человек, как и мир, в котором он живет, является порождением твоего подсознательного? Это должно быть так, судя по твоему рассказу. При втором посвящении ученик начинает понимать собственные подсознательные устремления и обычно скрытые для сознания связи материи, духа и идей. – Нет, – покачал головой Аббад. – Этот мир, вселенная, в которой живет Мечник и его цивилизация, все это реально, а не создано моим воображением. – Конечно, – согласился Сатмар, – мир Мечника не менее реален, чем наш, что не помешало ему возникнуть в результате твоей подсознательной деятельности. – Да, – помолчав, произнес Аббад. Монахи поняли, что с ним происходило, и не нужно им объяснять, почему он хочет уйти из жизни… то есть, не хочет, конечно, нужно точнее выбирать слова даже когда не собираешься произносить их вслух. Он не хочет умирать, но разве есть иной способ спасти Вселенную… одну из множества, но все равно Вселенную с большой буквы, потому что для Мечника это единственный мир, какой он знает, единственная реальность, которая может исчезнуть… если монахи не помогут Аббаду выполнить задуманное. Он не станет произносить слова вслух, защиты больше нет, пусть монахи сами… – Ты сумела преодолеть резонанс? – обратился Сатмар к Тали. – Мы не предполагали, что такое возможно. – Да, – сказала Тали. Она не привыкла говорить вслух, и потому слова были отделены друг от друга, как камни на морском берегу, и так же медленно перекатывались под напором волн мысли. – Мы. Аббад и я. Любим. Друг друга. Не всем это дано. Не у каждой женщины получается. Мы могли иметь детей. Но. Есть состояния… Процессы… Которые. Сильнее. – Какие же это процессы? – с любопытством спросила Асиана, потому что Тали замолчала. Что вы делаете? – думал Аббад. – Вы можете прочитать. Почему вы ее мучаете? Тали должна ответить сама, – метнул мысль Крамус, – не мешай. Это важно. – Долг, – сказала Тали. – Необходимость. Выбор. Я не могу говорить об этом вслух! – крикнула она. Хорошо, сказал Сатмар. Не говори вслух. Долг сильнее любви? Да. Ты останешься одна. Тебе будет невыносимо тяжко. Так тяжко, что ты тоже пожелаешь смерти, но тебе мы не сможем помочь. Никто не сможет помочь тебе уйти, пока ты не прошла даже первого посвящения, пока у тебя еще нет общности со всеми тремя мирами – материальным, духовным и идеальным. Ты навсегда останешься такой, как сейчас. Вечно. С твоей не проходящей болью. Да. – Скажи это вслух. Слова повисли в воздухе тонкой серой лентой, протянувшейся из угла в угол: «Скажи это вслух скажи это вслух скажи это вслух скажи»… – Да, – сказала Тали, ощутив слабость в ногах, будто вся ее энергия ушла на короткое простое слово. Монахи переглянулись. Хотел бы я знать, о чем они сейчас разговаривают, подумал Аббад, не пытаясь уже скрывать ни свои мысли, ни желания, ни тревогу свою, ни грусть, ни любовь к Тали, как бы это чувство ни называлось на физическом жаргоне. Вы должны мне помочь, молил он, полагая, что всякая его мысль становится известна старшим прежде, чем он успевает додумать ее до конца. Нет времени. Совсем нет времени. Да, он виноват. Только он и никто больше. Он медлил, а в это время энергия его подсознательных эмоций, энергии его необдуманных решений, энергии идей, приходивших ему в голову, энергии его споров и мысленных столкновений с реальностью переливались во Вселенную Мечника, заполняли ее, заставляли расширяться быстрее и уже так ее наполнили, что разрыв стал неизбежен, мог произойти в любой момент… сейчас, когда монахи медлят… И если Вселенная Мечника погибнет… – Каждый человек, – сказал Сатмар, – это целая вселенная. Каждый. Каждый создает себе мир – после второго посвящения это неизбежно. Возникая в подсознании из кокона собственной идеи, мир этот расширяется, создавая пространство-время нашей памяти. Разве ты один ощущаешь в себе вселенную? – Личная вселенная есть у каждого. Конечно. Но в моей Вселенной возникла разумная жизнь. Разве таких вселенных много? – Нет, – сказал Сатмар. – Твой опыт – единственный в своем роде. – Я в долгу перед разумом, который создал. Они мыслят, как мы. Они материальны. У них есть душа. Идеи. Да, это моя внутренняя Вселенная, и потому материя там отделена от духа, а дух – от порождающих идей. Они не могут создавать материальное из духовного, не могут конструировать идеи из материи и материю из мысли. Этого они лишены. Но они живут, страдают, любят, и для них любовь не равнозначна физическому резонансу, они не достигли этого понимания, и, наверно, в том их счастье. Почему-то Аббаду стало легко произносить слова вслух, звуки соединялись и создавали гармонию, в воздухе комнаты зазвучала музыка, которую Аббад никогда не слышал – его музыка, музыка его души. – Они ощущают себя, но что они знают о Вселенной, в которой возникли? Для них я – Создатель, Бог… – Бог, – повторила Асиана. Слово взлетело знаком вопроса и застыло, покачиваясь, под самым потолком. Аббад проследил взглядом за конструкций, которую создала Асиана, и сказал: – Нет, не так. Создатель для нас – такое распространенное понятие, что не требует не только объяснений, но даже название является лишним, достаточно внутреннего понимания. А для них… для тех, кто живет на планете, которую они называют Землей… для них Создатель, Творец, Бог – это высшая сила, абсолют, нематериальная сущность, обладающая бесконечными возможностями и бесконечной мудростью. Бог всемогущ и всеведущ. Бог создал их мир из хаоса. Бог следит за каждым из них. Бог дал им свободу воли. Они молятся мне. Молятся – понятие, для нашего мира не знакомое, молитва существует лишь во мне, в них, это то, что нас связывает, и то, что нас разделяет… – Значит, – сказал молчавший до сих пор Крамус, – они все же способны переводить материальную мысль в духовную форму? Разве не это является сутью молитвы, судя по твоему описанию? – Нет, – покачал головой Аббад. – Три мира разделены для них, и лишь я, ощущая призывы, могу помочь кому-то время от времени пересекать эти границы. – То есть, без тебя они… – начала Асиана, но Аббад перебил ее, потому что она коснулась самого сокровенного, и он не мог позволить ей произнести фразу до конца, сообщить кощунственной для него мысли атрибут материальности, с которым потом трудно будет что-то сделать. – Нет! – воскликнул он, и трое монахов направили на него осуждающие взгляды, от которых решимость Аббада начала испаряться, как вода под лучами Аргидды. – Нет, – повторил он, справившись с нападением, которое было естественной реакцией на его слова, нуждавшиеся в объяснении. – Все наоборот! У каждого есть своя внутренняя вселенная, но в моей возникли они, разумные, и для них я стал Богом, на которого можно надеяться, которому можно молиться, чтобы он совершил вместо них то, что они сами совершить не в силах… С этим я еще мог смириться, я не вмешивался, лишь чувствовал в себе их духовную жизнь и наблюдал за жизнью материальной. Но сейчас… Аббад запнулся, он хотел описать словами то, что почувствовал, когда понял: темная энергия заполняет созданный им мир. Он полюбил Тали, возник резонанс, ощущение счастья, бесконечного и неостановимого. Он стал лучше и решил: все темное, что было в нем, исчезло, растворилось в бесконечном пространстве идей, он радовался этому, как мальчишка, впервые ощутивший способность перемещаться между звездами и галактиками. Тали была рядом, они были вместе… а его темная энергия заполняла внутреннюю Вселенную, заставляла ее расширяться быстрее и вела к трагедии. – Когда я это понял, – сказал Аббад, – было поздно что бы то ни было предпринимать. – Ты Бог своего мира, – с оттенком удивления произнес Сатмар. – Ты всемогущ и всеведущ. Что значит – поздно? Ты можешь перекачать свою темную энергию… – Не могу, – мрачно сказал Аббад. – Для них я Бог, но вы-то знаете, что я еще не прошел высшего посвящения и… – Да, – с сожалением сказала Асиана. – Это верно. – Верно, – с сожалением произнес Сатмар. – Ускорить третье посвящение невозможно. – Невозможно, – подтвердил Крамус. – Ты прав: закон сохранения энергий ТиусаЛонгера не позволяет. Значит… – Значит, – заключил Аббад, – есть лишь одна возможность спасти этих людей. Их Вселенную. Значит, мое решение правильно, и вы с ним согласны. Я должен умереть. – Бог не может умереть… – это была мысль Тали, с трудом различимая в перенасыщенном рассуждениями воздухе комнаты. – Я должен умереть, – повторил Аббад. – Мое материальное тело исчезнет из мира, моя материальная энергия соединится с духовной и рассеется в пространстве идей. Тогда и темная энергия из моей Вселенной вернется к начальному состоянию – согласно упомянутому закону сохранения Тиуса-Лонгера. – Ты прав, – сказал Сатмар. Я прав, – подумал Аббад. Нет другого выхода. Нет альтернативы, если он хочет спасти Натаниэля Мечника и его уродливый, безумный, страстный, неповторимый, радостный мир. Так получилось. Бог должен умереть, чтобы созданные им творения продолжали жить. – Бог должен умереть, – медленно проговорил Сатмар, прочитав, конечно, простую мысль Аббада. Он перевел взгляд на Тали, которая стояла в стороне от скрещения слов. Ее настроения и желания были монахам понятны, Сатмар лишь кивнул, ощутив стремление девушки поступить так, как нужно ее любимому. Аббад так решил. И я могу только сказать «да». – Без вашей помощи, – произнесла Тали вслух, – Аббад не сумеет выполнить задуманное. Тали хотела думать «нет, нет»… но из пространства идей, где ее связь с Аббадом была неразрушима, проецировалась только одна мысль: «да, да, да»… – И не осталось времени на раздумья, – добавил Аббад. – В любое мгновение моя Вселенная может исчезнуть. – Велика ли беда, – пожал плечами Сатмар. – Создашь другую, в Большом взрыве родится новая… – Нет! – воскликнул Аббад и шагнул, пересекая грань, отделявшую его от монаха. – Простите, – пробормотал он, отступая, и добавил, тщательно артикулируя, как того требовал ритуал на этой, последней, как ему казалось, стадии разговора: – Новая вселенная возникнет в Большом взрыве, когда разорвется Вселенная Мечника. Но человек погибнет… Человечество. Семь миллиардов разумных. Таких, как мы. – Таких, как мы, – повторил Сатмар, сомневаясь. – А если ты умрешь, – продолжил он, – эти существа… люди… получат полную, ничем не ограниченную свободу воли. – Они и сейчас… – попытался Аббад вставить слово. – Нет! – воскликнул Сатмар. – Сейчас они обладают свободой воли лишь в тех пределах, какие допускают физические законы связи твоей внутренней Вселенной с внешним миром твоего «я». Сейчас – и ты это понимаешь – они ограничены в своей свободе выбора векторами добра и зла, ты дал им законы нравственности, записанные в книге, которую они называют… Сатмар вопросительно посмотрел на Аббада. Он знал, конечно, как назвали люди Книгу книг, монах ориентировался в ментальном пространстве юноши не хуже самого Аббада, но хотел полной ясности. – Просто Книга, – сказал Аббад. – Библос – на одном из их языков. На другом – Тора, Учение. Сатмар сделал неопределенный знак рукой. – Когда… если ты умрешь, темная энергия вернется из их мира и будет, как вся твоя духовная энергия, распылена и обратится в тепло. Тебе известны законы сохранения, верно? Вселенная Мечника продолжит расширяться, не разгоняясь, а человеческий род на планете Земля получит истинную, ничем не ограниченную свободу выбора. Ту свободу, о которой… извини, я вижу в твоих мыслях… да, один их писатель сказал: «Если Бога нет, то все дозволено». Они получат свободу от морали, которая у них есть, пока ты направляешь их эволюцию. В результате, убив себя, ты дашь своим творениям лишь временную отсрочку. Они все равно погубят… – Нет, – твердо сказал Аббад. – Вы, монахи, видите сейчас всю мою суть. Значит, и мою Вселенную видите тоже. Сатмар кивнул, подтверждая. – Значит, – в отчаянии воскликнул Аббад, – вы видите, что ожидает человечество, если я не умру, и моя темная энергия… Он захлебнулся словами, которые рвались из его горла, опережая друг друга. Посмотрите сами, думал он. Если вам недостаточно моего свидетельства, прислушайтесь к Мечнику, к его мыслям, его разуму… *** – Ты обещал повести меня в «Катрину», – капризно произнесла Дженни, взяв Натаниэля под руку. – Не хочу сегодня в кино. – Хорошо, – сказал Натаниэль, подумав о том, что обещал самому себе сделать Дженни предложение, если мир просуществует до вечера. Вечер настал, душный, пропитанный множеством неприятных запахов, и если Натаниэль честен с самим собой… При чем здесь честность, он ведь действительно хочет… И слово себе дал только потому, что в любом случае собирался предложить Дженни… – Нам нужно серьезно поговорить, – сказал Натаниэль, – а в «Катрине» такой шум, что самого себя не слышишь. – В кино тоже, – сказала Дженни и заглянула Натаниэлю в глаза, пытаясь прочитать во взгляде если не мысли его, то хотя бы намерения. – Может, поедем ко мне? – Хорошо, – согласился Натаниэль, хотя предпочел бы вести важный для него разговор на своей территории. Но ведь Дженни сразу примется за уборку, это ясно: посуда у него не мыта, грязное белье свалено кучей в шкафу, а не сложено аккуратно в бельевой корзине, да еще полное ведро мусора, уже и крышка не закрывается, очень милая обстановка для того, чтобы говорить с девушкой о совместной жизни. Дженни снимала двухкомнатную квартиру в Южном Бронксе. Всякий раз, когда Натаниэль бывал здесь и, особенно, когда оставался на ночь, он чувствовал, как в его душе или в том, что психологи называют подсознательным, что-то определенно сдвигается с привычных мест. Ему казалось, что он теряет самого себя и на время становится другим человеком – он не мог определить, каким именно, и потому чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Странно, но тот Натаниэль, каким он становился, входя в квартиру Дженни, ему нравился, он готов был оставаться в этом непривычном качестве, но ему не хотелось раздвоенности, и он старался все же чаще приводить Дженни к себе и позволять ей наводить в его квартире хотя бы временный и весьма относительный порядок – порядок, конечно, в ее женском понимании. – Я приготовлю стейки, – сказала Дженни, – а ты пока посмотри телевизор. Обычная фраза, так всегда начинались их вечера – и заканчивались всегда одинаково. Сегодня все может пойти иначе. Если Дженни скажет «да»… Она, конечно, так и скажет, какие могут быть сомнения? Тогда они откроют бутылку шампанского, оставшуюся еще с прошлого Рождества, и отправятся в постель, не дожидаясь окончания передачи «Вечер с Риччи Карпани», которую Дженни обычно смотрит перед сном – и действительно, Натаниэль сам убедился, после тупых шуток этого клоуна спится особенно сладко, и сны снятся такие… ну, какие-то интересные, снов Натаниэль не запоминал, только ощущения. И всего этого может не быть, если именно сейчас темная энергия разорвет, наконец, ткань пространства-времени, и они с Дженни исчезнут, станут физическим вакуумом. По закону подлости так вполне может случиться. Не говорить Дженни об этом? Лучше умереть в неведении, чем жить в ожидании конца? Но если быть честным… Он так и не включил телевизор, сидел перед темным экраном и разглядывал линии и круги на обоях – причудливый узор, всегда помогавший ему сосредотачиваться на нужной мысли, хорошее средство при медитации. – Нат, – крикнула из кухни Дженни, – иди ужинать! В ее голосе звучало напряжение, или ему это показалось? Конечно, она все время думала о его словах – что он хотел ей сказать? То, на что она рассчитывала? Или «важный разговор» – это, как часто бывало, рассказ о его новой теории или о семинаре, на котором он выступил? Он прошел в кухню – здесь все было особенным, Натаниэлю всегда казалось, что он входит не в другую комнату той же квартиры, а в иной мир, иную ветвь мироздания, где и сам в очередной раз становится другим. Это был мир Дженни – особые запахи, присущие только этой кухне, особая мебель, сделанная на заказ в маленькой мастерской на Сто восьмой улице. И посуда была особенной, тщательно отобранной на протяжении десятка лет. После того, как Дженни переехала из Финикса в Нью-Йорк и стала работать в Центре дизайна у самого Альфреда Барстена, она каждый предмет, который приносила в свою квартиру, соотносила с какими-то своими внутренними представлениями о гармонии, своей внутренней жизненной структурой, не всегда Натаниэлю понятной. – Господи, как хорошо, – сказал он, опускаясь на табурет, купленный на ярмарке, организованной по случаю то ли Дня благодарения, то ли Дня всех святых. Табурет выглядел простым – четыре ножки и сидение, – но почему-то, сидя на нем, Натаниэль ощущал покой, не нужно было никаких медитаций: садишься и проваливаешься в нирвану, а если еще Дженни ставит перед тобой тарелку с прожаренным, с изумительной подливкой, мясом, которое она только что сняла с огня… – Почему ты называешь это стейками? – спросил он. – Стейки в моем понимании… – Да, – улыбнулась Дженни, сев рядом, так, что ее нога легко коснулась его колена. – По-твоему, стейк – это полуфабрикат? Я могу прочесть тебе лекцию о том, что такое настоящий стейк. – Не надо лекций! – воскликнул Натаниэль и, наклонившись, поцеловал Дженни в щеку. – Я вижу перед собой настоящий стейк и намерен его уничтожить. И еще я… Он на мгновение запнулся, подумав о том, следует ли начать разговор сейчас или лучше подождать, пока ужин закончится и они перейдут в гостиную, где на журнальный столик Дженни поставит чашечки из кофейного сервиза… – Да? – спросила она, подняв на Натаниэля взгляд, в котором он, если бы умел читать в чужих душах, смог бы уже сейчас разглядеть ответ на еще не заданный вопрос. – И еще, – пробормотал он, отправляя в рот маленький кусочек мяса, облитого соусом, это тоже было частью ставшего привычным ритуала: первый кусок должен быть маленьким, как и первая ложка, если Дженни готовила суп, – нужно распробовать, прочувствовать аромат, войти в еду, как входишь в сад… – И еще, – сказал он, нарушая заведенный порядок, – я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. То есть, это мое желание, да, но без твоего оно всего лишь… я хочу сказать, что тут решают двое, а ты еще не знаешь всех обстоятельств и потому не можешь пока сказать точно… – Я могу сказать совершенно точно, Натаниэль Мечник, – произнесла Дженни, положив вилку и отодвинув тарелку, – что намерена выйти за тебя, даже если ты не закончишь свое предложение, потому что не знаешь, после какого слова поставить точку. – Обстоятельства… – Мне надоело зависеть от обстоятельств. – Ты не понимаешь! – Я все понимаю. Ты привык к определенному образу жизни и не хочешь вылезать из своей скорлупы. Ты боишься, что я начну наводить свои порядки в твоем… – Этого я не боюсь! – воскликнул Натаниэль. – Наоборот, я… Подожди, дай мне сказать. Понимаешь, Дженни, обстоятельства таковы, что наш мир… все это: ты, я, Земля, Солнце, звезды, галактики… в общем, все мироздание прямо сейчас, в эту секунду, а может, завтра или через неделю, но очень скоро… обратится в ничто, перестанет существовать в пространстве-времени, и нас не будет, мы исчезнем, именно исчезнем, потому что плотность темной энергии в точности равна критической и… – Не надо так волноваться, – спокойно сказала Дженни, придвинулась к Натаниэлю и положила голову ему на плечо. – Мы вместе, верно? Я сказала «да», и теперь мы вместе, сколько бы нам ни осталось. – Резонанс, – пробормотал Натаниэль. – Что?.. Да, наверно. Съешь стейк и хотя бы сегодня не думай о своих теориях. – Мир может исчезнуть сейчас… – Не может, – уверенно сказала Дженни. – Пока мы вместе, ничто никуда не исчезнет. Послушай, Нат, я тебя не понимаю: ты всегда говорил, что невозможно точно определить всякие там астрономические числа, да? Я правильно запомнила? Когда говорят, что до звезды сколько-то световых лет, то на самом деле может быть вдвое больше или меньше. Если мироздание должно исчезнуть, то почему сегодня, а не через тысячу веков? Нам с тобой и одного века хватит, так что ешь мясо и… Конечно, он говорил ей все это. Она запомнила, молодец, бьет его же оружием. – Я сумел ввести в уравнения… неважно, долго рассказывать. Нет, уравнения ни при чем. Я просто знаю, понимаешь? Это внутреннее ощущение. С тобой бывает такое: никто тебе не говорит, но ты точно знаешь, что именно этот предмет тебе нужен. Табурет, на котором я сижу – ты сама говорила, что посмотрела на него и поняла: да. – Да, – сказала Дженни, теснее прижимаясь к Натаниэлю. – Два года назад в магазине Батлера я посмотрела па парня, выбиравшего диск, и поняла: да. Я подумала, что сейчас он поднимет взгляд… посмотрит… и подойдет ко мне, чтобы сказать: «Простите, мы с вами знакомы?». Ты поднял взгляд, посмотрел на меня удивленно, подошел и сказал: «Простите, мы знакомы?». – Вот, – сказал Натаниэль. – Ты знаешь, что тебе нужно в жизни. Просто знаешь. А я с некоторых пор просто знаю, что происходит с мирозданием. Не спрашивай – откуда. Это внутреннее ощущение, оно тебе знакомо. Уверенность. Раньше я пытался описать мир уравнениями, а с некоторых пор пишу уравнения, зная решение. Все наоборот. Будто весь этот мир… как тебе объяснить, если я и сам не могу понять… Ощущение, будто весь мир, Вселенная – это часть меня, я ощущаю далекие галактики так, как чувствую сердце или ногу, понимаешь? Я не сошел с ума… – Конечно, – быстро сказала Дженни, – и не думай об этом. Натаниэль повернул голову и поцеловал Дженни в губы. Я просто знаю, – подумал он. Я даже мог бы назвать имя того, кто… Это не Бог, я не верю в Бога, создающего мир по своему желанию, это не Бог, это человек, как ты и я, только он… Он создал нас по своему образу и подобию, он хочет нам помочь, но у него не получается, потому что он не Бог, и поэтому Вселенная исчезнет, темной энергии в ней слишком много… Дженни не думала ни о чем. Она просто чувствовала, что Нат прав. Ей было все равно, что станет с миром через минуту. Она жила сейчас. Она сказала «да». И все. Сейчас – да. А через минуту – или будет счастье, или не будет ничего. И это правильно. Если нет счастья, то зачем все? Это было так неожиданно, – думал Натаниэль. – Я шел вечером по университетскому парку, тяжелые тучи давили на психику, настроение было поганым, и вдруг… Я будто поднялся над тучами и увидел Землю сверху… и себя, стоявшего, задрав голову. Я смотрел в свои глаза, и взгляд многократно отражался от самого себя, как в бесконечных зеркалах. Я увидел Вселенную такой, какая она на самом деле. Это было не знание, а ощущение, но оно стало уверенностью, потому что энергия чувств перелилась в энергию знаний, закон сохранения это позволяет… Нет такого закона. Это он сказал себе, вернувшись. Он стоял, прислонившись к дереву, ноги не держали его, и Натаниэль вынужден был обнять ствол обеими руками, чтобы не упасть. Нет такого закона в физике. Но он знал. Он читал о том, как приходит к человеку откровение. Смысл. Что-то вспыхивает внутри… Он не думал, что это может случиться с ним. Он подождал, пока перестанут дрожать колени, и побрел к кампусу, где стояла его машина. Тучи почему-то рассеялись, закатное солнце мрачно заглядывало в глаза, а он знал: скоро. Может, завтра. Или через неделю. И ничего не будет. Наверно, так пророки ощущали будущее. Не понимали, не могли описать, просто знали. – Нат, – сказала Дженни, оттолкнув его, потому что губы стали вдруг горькими, – ты сделал мне предложение, но так и не сказал… не сказал… – Я люблю тебя, – выдохнул Натаниэль. – Дженни, я тебя люблю. – Ну вот, – улыбнулась она. – А ты говоришь: мир погибнет. Я тоже люблю тебя, Нат. *** – Все верно, – сказал Сатмар. – Или ты, или они. Тихий вздох наполнил комнату, как песня, услышанная издалека. Это Тали, – подумал Аббад, – пожалуйста, ты не должна… – Они справятся, когда меня не будет, – подумал Аббад. – В их мире любовь – обычное дело. Не резонанс, такой же редкий, как явление сверхновой, но… просто любовь. – В их мире есть ненависть, – сказал Сатмар. – В их мире есть дружба, – твердо произнес Аббад, – альтруизм, желание делать добро. – И гораздо больше эгоизма и зла. – Нужно дать им шанс, – упрямо сказал Аббад. – Они должны выбрать. Сами. Без меня. – Это твое окончательное решение? – спросил Сатмар. Аббад перевел взгляд на Тали. Нет, говорила она, думала, призывала, просила. – Да, – сказал он. Сатмар кивнул. Асиана покачала головой. Крамус отвернулся. За время разговора из-за горизонта поднялись Эрон, Гирда и Капринаут, и цвета изменились – воздух стал розовым и струился, подогреваемый более жестким излучением Гирды, в комнате стало теплее, но Аббад почему-то ощутил озноб, и свет казался ему не таким ярким, как обычно. Смерть, подумал он. Да, я решил, но как же… Меня не станет. Меня. Это так, молча сказал Сатмар. Не уходи, молила Тали, сцепив пальцы и с трудом сдерживаясь, чтобы не ворваться в его мысли, не расшвырять в них все, что было еще связано с их общей памятью. – Ты решил, – сказал Сатмар, и голос его прозвучал, будто громоподобный удар, наверняка его было слышно на равнине, а может, в городе и на континенте Тирд. Голоса монахов изредка доносились с вершины, Аббад слышал их далекие раскаты, когда бывал в столице и думал тогда: в Монастыре принимают решение. Что-то менялось в мире. – Мы поможем тебе умереть, – спокойно произнес Сатмар. – Готовься. – Когда? – спросил Аббад. Он не должен был спрашивать. Не удержался. – Сейчас, – сказала Асиана. – Ты сам утверждаешь: нет времени ждать. – Что я должен сделать? – спросил Аббад. – Попрощайся с Тали, – сказал Сатмар. – Нам придется разорвать ваш резонанс, иначе ничего не получится. Тали тоже станет свободной. Память о тебе не будет кровоточить. – Я не… – Ты тоже решила, – напомнила Асиана. – Пожалуйста, покинь нас. – Тали, – прошептал Аббад. Они протянули друг к другу свои мысли, ощущения: я буду помнить тебя, не печалься, помни меня таким, какой я сейчас, я буду тебя любить, не надо, ты должна жить, я все равно… да, я знаю… я люблю тебя, Аббад… я люблю тебя, Тали… Дженни, я люблю тебя… Аббад, что ты говоришь?.. Прощай. – Все, – сказали монахи. И Тали не стало. Аббад не знал, впервые не имел ни малейшего представления о том, куда она ушла. – Ты готов? – спросил Крамус. – Он готов, – вместо Аббада ответил Сатмар. – Тогда здравствуй, Аббад, – приветливо проговорила Асиана. Мир взорвался. *** Они лежали, обнявшись, смотрели друг другу в глаза и улыбались. Натаниэль знал, что Дженни улыбается, но не мог этого видеть, потому что лицо ее было серьезным, а глаза казались грустными. – Мне еще никогда не было так хорошо, – сказал он. – Мне тоже, – прошептала Дженни. – Я люблю тебя… – Я тебя люблю, Нат… – Знаешь, – сказал он, – по-моему, любовь – это резонансное состояние душ, когда один плюс один равно не двум, а миллиону. Если ты понимаешь, что я хочу сказать… – Понимаю. Конечно, понимаю. – Я вдруг почувствовал себя совершенно свободным. Странно, да? Когда я был один и мог делать все, что хотел, мне казалось, что я связан множеством условностей, и даже твое присутствие чем-то меня стесняло, а сейчас, когда мы вместе и меньше стало степеней свободы, я чувствую себя свободным, как никогда прежде. Странно? – Нет. Я тоже… Я знаю, что могу все. Все-все. Что хочу. Именно потому, что мы вместе. Ты больше не думаешь о том, что… ну, про эту темную энергию? О том, что мир может в любой момент… – Глупости, – сказал Натаниэль. – Наверняка я ошибся в уравнениях. Чейни был прав. Не будем сейчас об этом. Бога больше нет, и значит, Бог теперь в нас самих. – Что ты сказал? Я не поняла. – Не знаю. Вдруг подумалось. Я люблю тебя. – Я тебя люблю. Рассветало. *** Аббад стоял над мирами. Он так ощущал свое состояние – высоко-высоко над его головой множеством звезд, собравшихся в неразделимый шар, светила его родная Галактика, а низко-низко, под ногами, мчались во времени, неожиданно застыв в пространстве, миры, похожие на его собственный, но другие. Неотделимые от него, но иные в своем воплощении. Миры множились с каждым мгновением, Аббад, не глядя, узнавал каждый – вот мир, в котором он не встретил Тали и жил анахоретом, воображая, что резонансные отношения между мужчиной и женщиной – теоретическая абстракция. А вот мир, в котором он не прошел первого посвящения и жил среди множества таких же обделенных судьбой мальчиков, не умевших даже игрушки создавать из собственных неоформленных желаний. Вот мир, где он после второго посвящения стал погонщиком звезд – то была его детская мечта, и он осуществил ее: перетаскивал звездные шары с орбиты на орбиту, формируя галактические цепочки, связанные друг с другом не материальными силами тяготения, а жесткими ограничениями придуманных им идей. Вот мир, где он стал художником и рисовал мыслью почти невидимые картины, передавая на тончайшей пленке светлой радости собственные ощущения крутизны гор и обрывов, восторга закатов и прелести шепота младенцев. Были еще миры… и еще… он перестал их считать, дойдя до трех миллиардов. Все эти миры были реальны, и во всех был он, Аббад, с иной судьбой, иной жизнью, и каждый из его миров что-то менял в нем. Он перестал ощущать собственное тело – свои тела во всех ветвях своих многочисленных жизней. Он стал мыслью о вечном, а потом и мысль исчезла, вся его энергия перелилась в пространство идей, и он узнал все обо всем. Он стал собой. Он поднялся на высшую ступень посвящения. Он умер. *** Аббад стоял посреди комнаты, раскинув руки и положив ладони на плотные воздушные подушки, не позволявшие телу упасть, потому что ноги самым тривиальным образом не держали его, и пол притягивал так, будто под ним была сильнейшая гравитационная аномалия. Он был один. Из всех окон на Аббада смотрел лик Кейдона, голубой звезды, мимо которой планета должна была пролететь три цикла спустя после того времени, когда Аббад начал подъем к Монастырю. Неужели он так долго… Да. Теперь он знал все, знал и это. – Я готов, – сказал он вслух, и перед ним появились монахи: Сатмар, Асиана, Крамус и еще двое. – Керет, – сказал один. – Реона, – сказала другая. – Здравствуйте, – сказал Аббад. – Здравствуй, монах, – сказали они. – Я не умер, – констатировал Аббад. – Я стал одним из вас. – Да, – подтвердил Сатмар, подойдя к Аббаду и сняв его руки с воздушной подушки. Стало легко. – Вы знали это, когда я только начал подниматься… – Конечно. Ты был не таким, как все. Именно потому в твоей Вселенной возникла разумная жизнь. Точнее, именно потому ты сумел создать разум и смог, в конце концов, дать ему свободу. – Я знаю все обо всех мирах, – сказал Аббад, – но больше не чувствую в себе Мечника. – Естественно, – улыбнулся Сатмар. – Ты дал им полную свободу воли. Твоей темной энергии больше нет в их Вселенной. Ты отпустил свой народ. – Бога больше нет, и значит… – Они решат сами. Смогут? – Теперь ты один из нас, – сказал Сатмар. – Монахи не создают миры, мы лишь помогаем вселенным находиться в гармонии друг с другом. Миры ветвятся, каждое желание, каждая мысль человека рождает новые вселенные, связанные материальными, духовными и нематериальными энергиями, и если бы не наша работа, работа монахов, миры постоянно сталкивались бы, противоречия множились бы, люди из одного мира оказывались бы в другом, возник бы хаос… Нас мало, к сожалению. Редко кто поднимается на третью ступень посвящения, чтобы прийти к нам. Только те, кто предпочитает умереть. Как ты. – Вы знали… – пробормотал Аббад. – Ты бы не дошел до Монастыря, если бы мы не знали цели твоего к нам прихода, – сказал Сатмар. Аббад вспомнил, как чуть не сорвался со скалы, поднимаясь в гору. – Вы знали, – повторил он. – Мы следили за тобой с твоего первого посвящения, – объяснил Сатмар. – Ты – один из нас. – Я – один из вас, – сказал Аббад. Тали, подумал он. Он не стал спрашивать о том, что знал теперь сам. – Давай займемся комплексом вселенных Альдорры, – деловито сказал Сатмар. – И довольно сотрясать воздух словами. Мысли и идеи менее энергозатратны. Тали, подумал Аббад. Натаниэль и Дженни. Как я буду без вас? Друзья, – подумал он, – я готов. *** – У меня такое ощущение, – сказал Натаниэль, повернувшись к Дженни и поцеловав ее в закрытые глаза, – будто я только что родился заново. Такой свет внутри… Я не могу тебе объяснить… – И не надо, милый, – прошептала Дженни, прижимаясь к Натаниэлю. – Не надо ничего объяснять. Мы вместе, да? – Вместе, – подумал Натаниэль, а может, произнес вслух, это не имело значения, он знал, что Дженни его слышит и понимает. – Конечно, – подумала Дженни. Солнце взошло. К’Джоуль Достопочтенный Виртуальная хроника чертовщины и плутовства ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, где мы являемся свидетелями подготовки ко второму этапу грандиозной космической схватки и узнаем о том, при каких обстоятельствах Асмодей Бесонюк стал чертом. Генерал-интендант Маммон, нервно причмокивая губами и сопя в две розовые поросячьи ноздри, развил кипучую деятельность, как только узнал о выходе эскадры мятежников из боя в связи с досадной контузией Люциферова и перерывом на обед. – Ах, ты, какая великая, ну просто грандиозная беда приключилась на нашу чертову голову! – причитал он, судорожно пряча ценные финансовые бумаги в несгораемый портфель с музыкальным заводом. – Надо что-то срочно делать, что-то срочно делать... А позвать-ка сюда всех моих тыловых крыс! «Крысы» тут же прибежали, горестно запричитали, громко заохали, получили начальственный нагоняй и, подгоняемые этим нагоняем, бросились врассыпную по неотложным дьявольским делам. Изрядно потрепанная в бою эскадра немедленно начала быстренько снабжаться всем очень необходимым, включая кое-что не совсем нужное, слегка залежалое и даже изрядно перележалое, но еще годное к употреблению и злоупотреблению должностными лицами, правда, с некоторым риском для чертовой жизни и карьеры, но, как говорится, кто не рискует, очертя голову, тот слабак, хиляк и нытик. В темных недрах Сатанинских гор десятки тысяч рабов своих неуемных страстей и других категорий страстных до работы трудящихся бюджетников, включая задерганных семейным бытом пролетариев ментальной деятельности и переутомленных надомных работниц древнейшего эротического ремесла, вкалывали изо всех сил. Мысли пищали, койки скрипели... Бюджетные рабы военно-промышленного комплекса бурно обсуждали на профсоюзных собраниях выполнение производственных планов во внеурочное время и время сверхурочное. Фермеры, колхозники и пенсионеры-дачники соревновались друг с другом по скоростному выращиванию сыроежных поганок, повышающих солдатский дух и улучшающих пищеварение новобранцев. Не менее бешеная работа велась и на космических платформах, к которым были пришвартованы тяжелые корабли эскадры с оборванными броневыми плитами и впопыхах заделанными пробоинами. Бригады ударников Черттруда нервно курили папиросы «Черномор-канал», критически оценивая предстоящую работенку, и жаловались телевизионным репортерам на безалаберных снабженцев. Проклиная все на этом и том свете и не желая излишне потеть во имя и без оного, рядовой мятежного воинства Асмодей Бесонюк, больше известный всем под кличкой Бес, сидел в каптерке и дул пиво из большой глиняной кружки. Бес был бесшабашным малым с лукавыми глазами на круглой роже. В его жилах текла дьявольская смесь из южной и северной крови. Отец этого чертяки был южанином и, к тому же, любителем шастать по миру, каковой не ограничивался узким горизонтом обывательского мирка. Однажды проказница судьба занесла папашку Беса на северо-восток Райского континента, где процветало племя рыжеволосых и голубоглазых любителей пива с солеными огурцами. Здесь он окончательно осел, хотя имел скромное намерение всего лишь присесть перед дальней дорогой и выпить на посошок стопарик горлодеровки. Вот так всегда бывает с теми неутомимыми пешеходами, кто не прислушивается к своему внутреннему голосу и не советуется с ним по текущим проблемам. А прислушайся он к своему второму Я, то услышал бы: «Ты, обормот, хочешь выпить на дорогу не стопарик, а выдуть цельную поллитровку. Тогда мне придется выступать в роли автопилота, но без знания предполагаемого маршрута нашего дальнейшего путешествия, который ты, скотина этакая, держишь в тайне от меня, все может пойти кувырком. Я тебя предупреждаю!» И все действительно пошло кувырком и наперекосяк. Приняв на атлетическую грудь поллитровку забористой горлодеровки, наш легкомысленный искатель приключений на свою голову утром обнаружил, что лежит в обнимку с дородной хозяйкой трактира «Игривый Жупел», женщиной больших страстей и упрямого нрава. Он, конечно, решил первым делом опохмелиться, что было встречено его подругой без особого восторга, но с пониманием. Вторым делом было дело, вообще-то говоря, пустяковое: каждый уважающий себя странник, в душе отпетый холостяк, оптимист и циник, когда его пилигримским устремлениям угрожает вожделеющие особы женского пола, обязательно должен вовремя сматывать удочки. Но тут-то и вышла маленькая промашка. Холостяк был взят в такой дикий и хорошо просчитанный оборот, что и глазом не успел моргнуть, как оказался в загсе, сопровождаемый почетным эскортом из нескольких мордоворотистых свидетелей его прелюбодеяний. – Почтим мою память вставанием! – грустно изрек тост жених и после траурного минутного молчания влепил смачный чмок своей женушке. От этого интересного во всех отношениях брака на божий свет появился суматошный Асмодей, унаследовавший от матушки веснушки, способность вешать лапшу на уши и неприлично громко смеяться, пукать и чихать, а от непутевого батюшки – рот до ушей, желание валять дурака, играть дурака и в дурака, между прочим, тоже, как и в другие азартные игры, и непременно шляться по самым злачным местам. – Я бы очень желал знать, что такое особенное делали мои нетерпеливые родители в то время, когда зачинали меня на скрипучей прабабушкиной кровати под хриплые звуки дедушкиного граммофона, – разглагольствовал Бес, сидя в каптерке у своего приятеля Пузатого Пацюка во время грандиозной космической схватки. – Ей-богу, это основной вопрос всей моей житейской философии! Я подозреваю, что они обсуждали животрепещущие аспекты неизбежного бракоразводного процесса. Уверен на все сто десять процентов с чертовым хвостиком, что я родился по явному и скрытому недоразумению. Мамаша не успела вовремя сделать очередной аборт, и мне пришлось стать живым укором родительской беззаботности, беспечности и ротозейству. Акт зачатия всегда таинственен и чертовски загадочен. Это знают все, начиная с дошкольников и кончая пенсионерами. Но еще более загадочен акт появления на божий свет. Что касается Асмодея, то он, как и один его приятель литератор, человек решительно веселого нрава, еще за пятнадцать минут до своего рождения не был окончательно и бесповоротно уверен, что его выпустят на волю подышать свежим домашним воздухом с легким кухонным привкусом. Некоторые дьявольски искушенные в академических сплетнях литературоведы и скрупулезные до отвращения хронисты доподлинно знают, что в тот достопамятный и приснопамятный день пожарники угорело звонили в колокола, полицейские машины захлебывались воем своих паникерских сирен и было всеобщее народное ликование, совпавшее с ликованием по поводу победы команды гладиаторов из клуба ЦСКА над гладиаторами из клуба «Рудокоп». – И при моем рождении наблюдалась примерно аналогичная впечатляющая картина, – сбрехал Пузатый Пацюк, плотоядно облизываясь и отрезая себе здоровенный шмат сала. – Правда, злые языки связывали всенародное ликование с каким-то большим колхозным праздником, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то календарный праздник. В данном случае я больше верю тем, кто относится к официальным праздникам как к явлению хотя и приятному, но будничному. «Ах, так! – подумал Бес. – Значит, и ты, Пузатый, хочешь бесцеремонно примазаться к моей нетленной славе наиопытнейшего враля и ужасного для казенных сатириков насмешника. Ну тогда получай!» – В возрасте шести альдебаранских полумесяцев, – начал безбожно врать Асмодей, напряженно вспоминая небрежно прочитанные детективные книжки, – я безуспешно попытался мысленно сожрать обольстительно сладкую соседскую домработницу, предварительно хорошенько откормив ее семечками и лесными орехами. Но потом мне в голову пришла гениальная мысль вкусить ее прелести под каким-нибудь пикантным соусом, предварительно начинив барышню засахаренными лягушками и обложив сладеньким мармеладом. – Насчет засахаренных лягушечек это хорошо придумано, – заметил Пузатый Пацюк, мечтательно сглатывая слюну. – Но я бы все-таки настоятельно рекомендовал вместо варенья и мармелада злющего хренка. Дюже полюбляю я какого-нибудь порося с хренком. – Можно было и с хреном, – великодушно согласился Бес. – Но я больше предпочитаю кондитерскую горчицу с добавками кофейной гущи. – А что было дальше? – Дальше, дальше... А, припомнил! В три года я превосходил распутством всю альдебаранскую молодежь Райского континента. В этом нежном возрасте я состоял в любовной связи с женой одного высокопоставленного сановника, которая по своей душевной наивности ничего не подозревала о собственном грехопадении и посему тосковала о романтической и пылкой любви, сидя в своем тереме у телевизора. Кое-кто имеет робкую смелость шепотом утверждать, что в возрасте шестнадцати лет Асмодей якобы поступил в цирковое училище, где начал увлекаться футболом, преферансом и литературным плагиатом. Однако, ретивые бакалавры и чопорные магистры биографоведения публично заявляют, что по окончании училища Асмодей, якобы влекомый своими порочными наклонностями, поступил на службу в один из альдебаранских шоу-балаганов, питая совершенно нескромное намерение выставлять в голом виде монархическую сущность инопланетных королей. Им резонно, хотя и бездоказательно возражают сторонники конституционной монархии, оспаривающие подобные демагогические заявления на том основании, что, в сущности, любые посягательства на священные эссенции неминуемо чреваты существенными эстетическими изъянами, а посему ни один балаганный худсовет не допустит столь низкосортного политического стриптиза. Что там еще говорят? Говорят разное и абсолютно несусветное. Например, поговаривают, что Асмодей страшно любил прибегать к изощренным мистификациям и фальсификациям голых истин, облачая их в шутовские лохмотья. Вся его чертовски запутанная жизнь – это сплошная мистификация и карнавальный маскарад с переодеваниями и переобуваниями. О нем распространяются самые нелепые сплетни, рассказывают самые умопомрачительные анекдоты, в которых трудно отделить ненаучно фантастическое от сомнительно реального. Согласен целиком и полностью. Остановимся на годах ученичества нашего черта. Директор гимназии, в которой маялся вольнолюбивый Асмодей, был костлявым, тщательно выутюженным и вы-бритым субъектом с оловянными глазами-пуговицами. Ходили очень даже проверенные кое-кем и кое-где слухи, будто бы он себя самолично зачислил в аристократы либерального духа. Вполне возможно, что этот субъект не был таковым целиком и полностью, но потный душок источал всякий раз, когда пыжился и натужился запустить по ветру какую-нибудь гаденькую либеральную идейку. Этот тип изъяснялся на особом новоальдебаранском языке с большим политическим акцентом, чем приводил в глубокий трепет либеральных преподавателей словесности и других не менее изящных искусств. Больше всего на свете безраздельный владыка гимназии и прилегающей к ней колониальной территории, огороженной неприступным забором с тайными дырками в нем, любил солдатскую муштру, воодушевляющую монархическую мысль, торжественную гробовую тишину в школьных коридорах и неукоснительную дисциплину превосходно работающей швейной машинки Зингеровича. Всюду, где он ни появлялся как бы невзначай, будь то класс с обязательным портретом очередного политического вождя над черной доской, будь то учительская с аляповатым скульптурным бюстом аналогичного вождя на стальном сейфе или школьный клозет, разрисованный врагами просвещения отвратительными политическими карикутурами и порнографическими символами, мгновенно стихали робкие антимонархические разговоры и начинали подобострастно обсуждаться животрепещущие проблемы исключительно уважительного отношения к начальству. Так вот, сей страж абсолютно тоталитарного порядка, полицейски окрашенного, терпеть не мог присутствия внутри, рядом или поблизости от вверенного ему заведения «чертовой кости» и только ждал удобного случая, чтобы очистить свой казарменный храм от подобного унизительного срама. Асмодей никогда и ни по каким линиям родства не был даже мещанином во дворянстве. Натуральная «чертова кость» в глотке у столбового дворянства, да и только! Характерец у него выдался еще тот. Не случайно к нему очень рано прилипла кличка Беса. Этот скуластый, сожженный солнцем чертенок с облупившимся носом был грозой хорошо воспитанных мальчиков и девочек, чьи родители при одном только упоминании о Бесе приходили в жутко нервическое состояние, готовое перерасти в неописуемую и постыдную панику. Подражая взрослой шпане, Асмодей засовывал руки в карманы брюк и пытался говорить с презрительной хрипотцой, поминутно сплевывая при этом сквозь зубы на штиблеты прохожих. Вы думаете Асмодей погорел и был вытурен из гимназии за свой воинственный нрав? Глубоко ошибаетесь. Всему причиной были поэтические склонности его души, не менее зычно воинственные, чем боевые призывы к рукопашному бою. Я не уверен, что своими школярскими виршами Асмодей мог бы заткнуть за пояс какого-нибудь матерого поэтища. Впрочем, чем черт не шутит. Однажды в клешнеобразные руки директора гимназии попала трусливо выкраденная несовершеннолетними прихлебателями тетрадка чудовищных стихотворных опытов Асмодея, в которой синим по белому было написано химическим карандашом, что директор – натуральная какашка и политический пердун. О поэтической форме выражения этих беспардонно уличающих слов я умолчу в силу ее не совсем полной отшлифованности. Из выразительного директорского монолога начинающий поэт без всякой пользы для себя и своих творческих потуг узнал, что является величайшим и гнуснейшим клеветником, а также задирой и дебоширом, каких белый свет не видывал. В конце своей пламенной речи, уснащенной жаргоном люмпенов умственного труда, директор попытался завладеть ухом зловредника, но вдруг сложился как циркуль от короткого удара в самое дыхало и удивленно начал хватать ртом воздух. – Вон! – только и смог прохрипеть он вслед метнувшемуся к двери Бесу. Любопытно отметить, что с Асмодеем один из его будущих биографов познакомился на почве торговли одомашненными карликовыми стиракозаврами с планеты Меловая Скорлупа. У этих милых растительноядных зверюшек задняя часть черепа с большущим клювом была украшена костяным воротником, по краям которого торчали впечатляющие острые шипы. И все бы ничего, но эти, глубоко извиняюсь, карликовые ублюдки имели гнусную привычку с отвратительным кряканьем гоняться за кошками и щипать целомудренных девиц за лодыжки и ляжки. Однажды нашему биографу пришла в голову шальная мысль организовать за здорово живешь солидное научное заведение под академическим названием «Научноисследовательский институт по искоренению порочных наклонностей у одомашненных стиракозавров» (НИИИПНОС). Он немедленно и старательно написал углем на заборе объявление, в котором обещал всем желающим коллекционерам пивных пробок и зубочисток авторитетную консультацию по любым острым проблемам и зудящим вопросам стиракозавроведения. На это объявление незамедлительно клюнул любознательный Асмодей. Явившись по указанному на заборе адресу, он важно подал руку директору НИИИПНОСа и бодро спросил: – А вы слышали, что сегодня ровно в семь часов утра на перекрестке проспекта Хрещатый Яр и улицы Продувной Бестии опять пьяный стреколетчик вылил ушат помоев на профессиональную нищенку и был таков? Потом Асмодей извлек из кармана короткую трубочку, неспеша набил ее табаком, раскурил и объявил, что в трактире Бим-Бом служит кельнерша по кличке Обалделая Пепина, и осведомился, не учился ли господин директор вместе с ней основам сексуальных извращений. – А вы знаете толк в стиракозаврах? – смущенно сморкаясь, ответил вопросом на вопрос директор. – А как же! Я сам торговал разными динозаврами, зауроподами и даже не раз привлекался к суду по этому совершенно вшивому поводу. Да, Асмодей питал какую-то загадочную любовь к судопроизводству и уголовному кодексу. Особенно ему любы были общественные трибуналы, в которых он аргументировано доказывал, что спит и видит, как героически сложит свою буйную головушку за торжество общественного мнения над мнением антиобщественным. Тем не менее, крайне недоверчивая общественность пыталась настойчиво убедить его в том, что этого крайне мало для полного торжества светлой империалистической идеи и настойчиво рекомендовала Асмодею пожертвовать последние кальсоны вместе со сбер-книжкой в пользу близкой победы над умниками, погрязшими в философских ересях и не желающими признавать хорошенько отцензурированные результаты социологических опросов верноподданных обывателей. Как-то раз в сгущающихся сумерках своей развеселой юности Асмодей ненароком заглянул в читальный бар «Народное Просвещение, Ликование и Упоение», где застал теплую компанию, состоящую из продавца аптечных вампирчиков пана Дурдинанда, дамского парикмахера с обольстительной для женского глаза внешностью пана Олофонса и карточного шулера по кличке Косой Валет. Из разговора с приятелями он узнал, что в читальню зачастил агент тайной полиции Ксаверий Склизняков, исключительно неталантливый инопланетный провокатор, специально выписанный властями с планеты Сучий Филер для внедрения в круги инакомыслящих антиобщественников. – Вот он, – кивнул в сторону агента Косой Валет и грязно выругался. – Сейчас мы повеселимся, – подмигнул приятелям Асмодей. Тем временем ничего не подозревающий Ксаверий сидел в совершенно темном углу бара и, нацепив инфракрасные очки, делал вид, что самозабвенно читает старинный философский трактат о небытии всего сущего в одной отдельно взятой кем-то напрокат галактике. Кстати, это шпик имел весьма своеобразный вид, хорошо запоминающийся злопамятными врагами абсолютизма. На той планетенке, откуда он прилетел полный служебного энтузиазма, в результате очень длительной исторической эволюции и революционных мутаций население обзавелось доброй сотней червячных ушей, заменяющих рудиментарный волосяной покров на голове, которая у этих мутантов была оснащена одним длиннющим фиолетовым носом и дюжиной визуальных инструментов, напоминающих лупоглазые гляделки пожилых гражданок, постоянно восседающих на скамейках возле многоквартирных домов. Заприметив новых посетителей и узнав в одном из них господина Пшика, державшего на Кукишевке писчебумажный магазин по продаже непромокающих презервативов с патриотическими портретами крупных государственных деятелей, шпик загорелся неукротимой надеждой на провокацию, повеселел и порозовел как попка закаканого младенца. Господин Лев Иммануилович Пшик, тонкий ценитель всякого эстетического ширпотреба и глубоко верноподданная личность, очень чтил закон, подзаконные акты и регулярно сбывал в утильсырье портреты членов Политсовета при Его Императорском Величестве, считая, что тем самым вносит свою посильную лепту в развитие пропагандистской индустрии Великого Альдебарана. И вы знаете, он был прав, так как затоваривание складских помещений высоко символическими художественными изображениями придворных фаворитов чревато было приостановкой работы живописцев, фотографов, ретушеров и, естественно, типографских станков. Прозорливый Лев Иммануилович поставлял бы фото- и кинопортреты сановных лиц за границы необъятной альдебаранской империи, но сие торговое мероприятие требовало гигантских капиталовложений и определения этих самых заграничных пределов, то есть определения возможных поставок культполитценностей в потусторонние империи миры. К подобному он еще не был готов, хотя втуне и мечтал об этом. Весь переполненный такими сладостными торгово-рыночными мечтами, Лев Иммануилович однажды заглянул в читальный бар, чтобы утолить духовную жажду полезным для умственного кругозора чтивом и заодно выдуть кружку пива. – Господь с вами! – испуганно замахал на него руками бармен-библиотекарь, когда услышал о проекте господина Пшика, требующем денежной суммы со многими нулями. – В случае коммерческой неудачи кредиторы могут всех нас сожрать заживо и даже не поперхнутся! Тем временем Ксаверий Склизняков уже подкрался к библиотечной стойке и спрятался за здоровенной пивной бочкой, притворившись начитанным в доску. Однако он так увлекся своим хреновым притворством, что вскоре самым натуральным образом захрапел, и храпел бы очень долго, не споткнись о него хозяин писчебумажного магазина. – В чем дело? – перестав храпеть, встрепенулся шпик. – Премного извиняюсь, но вы расположились на отдых не совсем там, где надо, – вежливо ответил Лев Иммануилович. Шпик ничего не ответил, поскольку, оставаясь в лежачем положении, был всецело занят прослушиванием диктофонной записи библиотечных разговоров. Только после завершения политанализа зафиксированной на пленке информации он принял неустойчивое вертикальное положение и сразу же попытался в атакующем стиле загнать Льва Иммануиловича в пятый угол своим провокационным требованием. – Сознайтесь, господин Пшик, – возбужденно приседая, наседал на владельца писчебумажного магазина Ксаверий, – что переход рубежей империи очень смахивает на бегство из страны победившего абсолютизма. Вместо Пшика ответил Асмодей. – Конечно, – сказал он с издевкой, – не просто смахивает, а так оно и есть, спору нет. Разве простому верноподданному может прийти в башку такая крамольная мысль? Нет, отвечаю я, не может. Надо быть полным болваном, чтобы продавать презервативы с портретами придворных фаворитов представителям потусторонней цивилизации, у которых, может быть, совершенно другие способы размножения. Если бы эти представители обладали таким вместительным гульфиком, который болтается между ваших лягушачьих ног, то другое дело. – Что вы хотите этим сказать? – тут же клюнул на приманку шпик. – Что хочу сказать? А вот что. Если бы потусторонние относительно нашей империи разумники имели детородные органы, которые имеют все здоровые телом и духом альдебаране, то их уже давно бы хватила кондрашка при виде портретов высокопоставленных лиц на презервативах, как бы сующих свой нос не в свои, а в заграничные дела, то есть в совершенно чужие дела. – Странные, однако, намеки, – многозначительно произнес тайный агент. – Никаких намеков, – скорчив сверхсерьезную мину, вежливо ответил Асмодей. – Боже сохрани меня от всяких неприличных намеков! Хотя, безусловно и несомненно, есть беспартийные граждане, говорящие очень скверные вещи о лицах, близких священной особе Императора, да и о самом Государе Императоре тоже. – А вы знаете таких болтунов? – ласковым голосом, полным надежды, спросил шпик. – Знаю, – потупя взор, ответил Асмодей и хлебнул с удовольствием пивка. – Однако ничего вам не скажу. – Почему? – напрягся Склизняков. – Это большая тайна. Ну просто гигантская тайна. – Тайна, говорите? – Ага. – И вы отказываетесь мне ее открыть? – Категорически отказываюсь. – А если я обижусь и буду жаловаться на вас куда надо. – Жалуйтесь. Шпик вскочил и жалостливо прогнусавил: – Я иду жаловаться. – Да иди жаловаться хоть в сраку, – добродушно отозвался Асмодей. – Куда?! – обалдело спросил шпик. – Туда, куда я указал. – Принципиально не согласен! – запротестовал Склизняков. – Господин Кухарски! – окликнул хозяина читальни Асмодей, не обращая никакого внимания на жалкие протесты этого ничтожества. – Чего тебе? – нервно отозвался Кухарски, судорожно протирая полотенцем порнографические журналы и свои вспотевшие щеки. – Как вы относитесь к тому, чтобы выдать мне второй том полного собрания сочинений графа Садомазохистского, а также нацедить кухоль пива и поговорить на скандальные политические темы? – Графа и пива всегда пожалуйста, а политикой я, извиняюсь, вовсе не интересуюсь. Из темной щели рта обиженного Ксаверия раздалось злобное шипение. – Вы что же, господин Кухарски, пропагандируете аполитичность? – просвистел шпик. – Я ничего не пропагандирую, – сердито ответил хозяин читальни, бросая зачитанный до дыр порножурнал в раковину для утилизации макулатуры. – Такому маленькому человеку, как я, не до большой политики. У меня своих сексуальных забот полный гульфик. – А вы, господин шпик, заткните фонтан! – беззлобно бросил Асмодей. Ответа не последовало. – Я знавал одного тайного полицейского агента, – продолжил Асмодей, не дожидаясь комментариев, – который был настолько начитан, что умел читать свои мысли по складам и потом их складывать вместе в одну куцую мыслишку, лапидарно выраженную в доносе на неблагонадежных лиц. Вот и у этого господина не мысли, а одна сплошные обрывки, из которых он жаждет склеить на нас донос. Разве я не прав, а? – М-да, – как-то неопределенно хмыкнул пан Дурдинанд, нервно постукивая по трехлитровой банке с вампирчиками и настороженно зыркая по сторонам. Все остальные тактично промолчали, бросая робкие взгляды в сторону оскорбленного шпика. – Что вы там насчет моих мыслей варнякаете? – не вытерпев издевательства, зловеще поинтересовался у Асмодея Ксаверий. – Я говорю, наша империя несет большие убытки от бездарных шпиков, готовых строчить доносы на собственную тень. – Господин Кухарски, у вас не порночитальня, а политический клуб, где подозрительные субъекты ведут антигосударственную политическую агитацию. Кухарски ничего не ответил, закурил трубку и понес свежую порнуху пускающему слюну парикмахеру. – Вы уходите от моего вопроса, господин Кухарски, – продолжал наседать шпик, провожая голодным взглядом сексуально аппетитное блюдо. – Вы, пан филер, меня ни о чем не спрашиваете, а только бездоказательно обвиняете, – обиженно сказал Кухар-ски, бросая журнал на стол. – Я хочу подчеркнуть, что... Но шпик не дал ему договорить и визгливо заорал: – Как вы смеете дезавуировать меня в присутствии посторонних лиц! Вам это так не пройдет! – Бросьте пошло кривляться и дурака валять, господин неуважаемый шпик! – вмешался Асмодей. – Все посетители этого популярного рассадника культуры хорошо знают, на какой государственной службе вы состоите. – Что-о-о? – вытянулась безликая рожа Склизнякова. – Я не верю своим бдительным ушам и звукозаписывающей аппаратуре! Меня нагло и цинично шантажируют! И все это происходит в присутствии так называемых добропорядочных граждан! Не успел он закрыть свою гнилозубую пасть, как читальня опустела, за исключением двух главных подозреваемых в государственной измене – хозяина заведения и спокойно потягивающего пивко Асмодея. Окинув взглядом победителя опрокинутые стулья и столы, свидетельства позорного бегства трусливых обывателей, шпик водрузил на голову свой затасканный до сального блеска котелок и провозгласил в безапелляционной манере палача: – Именем закона я приказываю вам явиться с повинной в ближайший жандармский околоток и чистосердечно покаяться, дабы вас могли согласно букве закона отправить на каторжные работы по самоперевоспитанию посредством изнурительного чтения высокоидейной литературы. – Держи карман шире! – усмехнулся Асмодей, не обращая внимания на суетливые телодвижения шпика. – Будешь мешать мне наслаждаться пивом, получишь в харю. Этого Ксаверий никак не ожидал. Какое-то время он растерянно мялся и топтался на месте, туго соображая, а потом все-таки решился продолжить атаку и полез в карман за полицейским пособием по борьбе с упорствующими в своих грехах криминальными элементами. Заметив, что непослушный шпик намеревается восстановить контроль над ситуацией, Асмодей отодвинул кружку, встал из-за стола и направился к борцу за торжество имперской политики. Тот начал пятиться, судорожно нашаривая в дырявом кармане свою брошюрку. Кулаки у Асмодея были хотя и не боксерского вида, но вполне крепкими и увесистыми. Один из них, описав не очень кривую дугу, стремительно врезался в нос Ксаверия, превращая его в сморщенный томатный овощ, а другой мелькнул где-то сбоку и оглушительно смял целый пучок испуганно шевелящихся ушей шпика. Склизняков, издав рыдающие звуки, перелетел через стол и жабой распластался под вешалкой. – Браво! – раздалось за спиной Асмодея. Оглянувшись, он увидел в дверях читальни здоровенного детину в клетчатом пиджаке и с толстенной сигарой в зубах. – Браво! – хрипло процедил незнакомец, подходя к стойке. – Этот спортивный триумф местного масштаба надо обязательно отметить. Я угощаю! Покажи-ка нам, хозяин, порномультик и налей всем по рюмке самой крепкой фруктовой настойки. Господин Кухарски, бледный как полотно савана, дрожащими руками начал включать видеомагнитофон и наполнять рюмки. – Не стоит так волноваться, – успокаивающе сказал детина. – Шпика я беру на себя. Доноса не будет. С этими словами он взял из рук господина Кухарского бутылку, приблизился к бездыханному телу и, окропив его фруктовкой, добродушно сказал: – Вставай, сволочь! Ксаверий боязливо приоткрыл один глаз и жалобно застонал, но грубый пинок ногой в лакированном башмаке и не менее грубый приказ заставили его вскочить. Хлюпая разбитым носом, он подобострастно вытаращился на верзилу с бандитской мордой. – Слушай сюда! – прорычал бандюга, окидывая презрительным взглядом тощую фигуру полицейского агента. – Я хорошо запомнил твоё фото. Если в этом заведении будет шухер по твоей вине, заказывай гроб! А теперь вали отсюда и никогда здесь больше не фигурируй! Добавив к сказанному еще несколько крепких, сочных выражений, верзила развернул шпика за плечи и тычком могучего колена в полицейский зад придал его телу необходимое ускорение по направлению к распахнутой двери. Так произошло знакомство Асмодея с Вельзевулом по кличке Чревоугодник. Я не стану перегружать свою фундаментально виртуальную хронику прозаическим описанием деталей вовлечения Асмодея в ряды мятежников. Скажу только, что, будучи анархистом по натуре, Бес не очень стремился пожертвовать своим вольным житьем во имя высших мятежных интересов, но далеко не все в этой и потусторонней жизни складывается так, как нам того хочется. Увы! ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ, о том, как Асмодей получает кличку Хромого Беса, а князь Рафаил Львович предостерегает капитан-лейтенанта Адамова от контактов с мятежниками. Сильная, знаете ли, головная боль вышла у всех чертей из-за контузии Вождя. И угораздило же его в самый неподходящий момент контузиться! Всех врачей на уши поставил своей ужасно несвоевременной травмой! А Мамон, так тот просто из шкуры лез, чтобы очень заботливым выглядеть. Бегает, кричит, командует, фельдшерам и фельдшерицам покоя не дает. Вслух выражает свое соболезнование. Остановит первого попавшегося черта, схватит его за локоток и давай стенать, давай соболезновать. В какой-то текущий отрезок адского времени осенило его написать сердобольную цидульку Янусу Адольфовичу и сопроводить ее двухлитровой банкой целебного варенья с мешком пряников в придачу. Настрочил он быстренько этакое жизнеутверждающее послание на гладенькой гербовой бумаге, побрызгал на нее одеколончиком, мухоморное варенье и горчичные пряники приготовил, а денщика найти никак не может. Черт знает что получается! Прямо свинство какое-то! Хоть сам в петлю космической схватки лезь. Тут ему кто-то говорит, что денщик в каптерке у Пузатого Пацюка сивуху вкушает. Побежал в каптерку Маммон, глядь, так оно и есть. Конечно, денщик уже и лыка не вяжет, забодай его леший! Грустная история получается. Для выполнения архиважного задания пришлось отрядить Беса и Пузатого. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Тут уж ничего не попишешь. Бросив невыразимо сожалеющий взгляд на непочатую флягу первача, друзья дружно запели альдебаранскую народную песню о шумных ночных кошмарах в камышах и отправился в опасный путь на сверхскоростном космическом катере с лазерными пулеметами и плазменными пушками. Янус Адольфович очень обрадовался варенью и пряникам, до которых был чрезвычайно охоч. Сразу же самовар велел ставить. Асмодея и Пузатого Пацюка медалями наградил, за стол посадил, вина налил, а сам за морковный чай принялся, называвшийся в ту пору фруктово-овощным бульоном. Почаевничал и довольный направился в кают-компанию «Зверя Рыкающего» в сопровождении Вельзевула, где его уже с нетерпеньем ждали высшие офицеры эскадры, перекидываясь в картишки. Предстояло определиться с тактикой второго этапа космической битвы. Тактика в этом деле – очень важная штука. Это военное искусство подготовки и ведения боя не каждому штабисту по зубам. Здесь особый мыслительный подход требуется, особая смекалка должна быть, чтобы чего-нибудь не напортачить. Упустишь важный нюансик, и все пойдет насмарку. Янус Адольфович – тактик и стратег прирожденный. У него всегда где-нибудь в загашнике имеются разного рода сюрпризы. Ох, и достанется противнику на этот раз! А до главной битвы, между прочим, времени оставалось в обрез, сущий пустяк оставался. Этот фактор времени, по моему глубокому убеждению, имеет свойство отрицательно влиять на самые мудрые решения. Вождь, поглядывая на ручные часы, быстро прошагал в кают-компанию. Собравшиеся обратили самое серьезное и самое пристальное внимание на то, что главнокомандующий был преисполнен дьявольски неукротимого желания молниеносно сокрушить имперскую эскадру и заняться подготовкой к штурму главной планеты Великого Альдебарана. Это было ясно написано на мужественном лице Януса Адольфовича и даже читалось в его дергающейся от нервного тика щеке, который, то есть тик, напоминал морзянку. – Соратники! – громко и внушительно сказал Вождь, ободряюще сверкая своими разноцветными глазами. – Час безусловной и окончательной победы над подлыми империалистами близок! Надеюсь, с этим моим безошибочным прогнозом никто не будет спорить. Я полагаю, всем хочется по данному поводу, не ляпая лишнего, постричься и, конечно же, тщательно побриться, дабы иметь праздничный вид. Так имейте же его! В общем все будет прекрасно, товарищи офицеры! Далее последовало сорокаминутное изложение глубокомысленных соображений о коварных тактических приемах и самых изощренных средствах истребления кораблей противника. Гениальный план сражения строился на том, чтобы заманить потрепанную в сражении имперскую эскадру в минный мешок, а затем обрушить на нее всю мощь торпедной атаки. После детального разъяснения концептуальной сути тактики предстоящего боя и обстоятельного политического инструктажа Янус Адольфович неторопливо отправился на командирский мостик, дабы лично руководить ответственным военным мероприятием. К огромному сожалению, ему было не ведомо, что на подходе к району грядущего сражения находится вторая имперская эскадра, посланная в условиях строжайшей секретности в догонку первой. Когда Вождь отдавал важный приказ Молоху, Асмодей и Пузатый Пацюк находились в камбузе флагманского линкора и трескали макароны по-космофлотски, а также трепались на разные бытовые темы, весьма далекие от космических баталий. Ностальгически вздыхая, они наперебой вспоминали минувшие мирные деньки и скромные удовольствия той безмятежной поры, когда их участием в мятеже и не пахло. Асмодей, даже будь он сто и один раз посвящен в гениальные замыслы командования, вряд ли бы очень обрадовался исключительной возможности проявить чудеса доблести, храбрости и героизма в решающей схватке с империалистами. В душе это был отъявленный пацифист, хотя и с драчливыми наклонностями, ограничивающимися рамками трактирных потасовок. Знай он о том, что до первых залпов остались считанные минуты, его бы только и видели на борту боевого корабля. Но, увы, нам очень часто не дано знать о том кирпиче, который Судьба таскает за пазухой, норовя исподтишка огреть им какого-нибудь зазевавшегося прохожего. Кок щедро насыпал новоиспеченным медалистам добавки и приготовился поделиться воспоминаниями о восхитительной хозяйке овощной лавки, расположенной поблизости от столичного Рынка Брюхоугодников, как вдруг раздались тревожные звуки колокола громкого боя. Он вздрогнул и застыл с открытым ртом. Имперская эскадра, загодя извещенная штатными телепатами и ясновидцами о скрытном приближении подмоги, перешла в упреждающее наступление. Громады тяжелых кораблей, выстроившись боевым треугольником, устремилась на врага под вдохновляющие звуки марша «Император жил, жив и будет жить вечно в нашей с вами памяти, а также в памяти потомков!» Казалось, фактор внезапности и внушительная подмога должны были способствовать безусловному успеху атаки, но не тут-то было. Внезапно разящее острие боевого треугольника расцвело каскадом ослепительных вспышек. Взрывы! Да, да, взрывы! Ах, какая взрывная неожиданность! Но смотря для кого. С какой стороны смотреть. Под каким углом зрения тупо пялиться на случившееся или восхищенно любоваться происходящим. Что же мы имеем на данный момент? Флагман имперской эскадры находился в самом центре треугольника, когда космический мрак разорвали продольно-поперечные молнии взрывов вражеских подпространственных мин, способных резко изменять кривизну пространства, обезображивая неизменные в своей субстанциальной основе вещи и каменные черты физиономий твердо уверенных в правоте своего дела бойцов, вытягивая их в изумительное состояние. В том, что это были именно страшно засекреченные мины чертей, мины антипространственного предназначения, никто не сомневался после того, как бортовые компьютеры, обработав данные радиолокационных станций, выдали оперативную дезинформацию, явное свидетельство всеобщего искажения свойств материального мира и завихрений в кибернетических мозгах. С флагмана немедленно поступил категорический приказ превратить атаку в контротступление и ложиться на обратный курс к решающей победе в отдаленном будущем. Люциферов торжествовал, ликовал и победно кривлялся перед скромным солдатским зеркалом. Мины сделали свое зловредное дело, повредив ударные корабли обнаглевшего противника посредством устрашающего искривления всей их мощи. Свою роль в их установке сыграли лестригоны диверсионного отряда под командованием Антифата и джинны Иблиса. Теперь можно было переходить к дьявольски беспощадному разгрому окривевшего противника. С помощью радиотелепации уцелевшие мины были взорваны, чтобы не навредить контратакующим чертям всякими голокружениями, и мятежники ринулись на врага, ведя непрерывный огонь и понося их последними словами самого гадкого содержания. В первые же минуты боя атомными торпедами были сожжены два имперских дредноута и серьезно повреждены три с половиной легких крейсера. Никогда еще храбрые воины Императора, прошедшие преотменную парадную выучку, не проявляли такого восхитительного для женщин, изумительного для газетчиков и поразительного для генштабистов героизма, как в этой жесточайшей, сильнейшей и даже мощнейшей вселенской схватке. Главным было выдержать первый, самый-пресамый нахрапистый натиск врага и продержаться до подхода эскадры, спешащей на помощь. И это удалось сделать ценой неимоверных усилий и вдохновенного самопожертвования. Лишившись многих радарных установок и антенн, корабли начали глохнуть и слепнуть. Еще немного и они превратились бы в беспомощные слепоглухонемые мишени для жестокосердного врага, у которого в руках не дрогнет прицел лазерной пушки. Блестящая победа над спесивым воинством Императора казалась настолько очевидной и настолько близкой, что Люциферов уже предвкушал лавры гиганта военно-космической мысли. Увы, эти мечты, туманящие воображение Князя Тьмы, быстро развеялась и улетучились, освобождая мозговое вещество от оков непозволительно светлых иллюзий. Враг был хитер и необычайно коварен. Вождь мятежников весь похолодел, как айсберг в океане, и сжался, как космический черный карлик, когда ему взволнованно доложили, что неожиданно силы врага удвоились. Он с большим прискорбием понял, что прозевал, прохлопал и, мягко говоря, проворонил пришедшую на подмогу имперскую эскадру, которая за несколько минут настырными ударами во фланг привела к гибели больше половины кораблей протестанторов. Один за другим они исчезали в атомных смерчах. Первым пришел в себе капитан флагмана мятежников. Между прочим, так принято по уставу. Очнувшись от оцепенения, он приказал перенести весь огонь линкора на нового противника и одновременно начал разворачивать корабль, чтобы, как можно быстрее, выбраться из западни. Маневр почти удался, почти... Однако в последний момент, когда капитан приготовился отдать команду запустить все двигатели, с кораблем произошло что-то ужасное и, скажем откровенно, непоправимое. Вздрогнув всем своим могучим корпусом, линкор наполнился оглушающим грохотом, отвратительным скрежетом разрываемого металла, огнем, удушливым дымом и предсмертными воплями чертей. Вельзевул, ойкнув, инстинктивно толкнул Люциферова к двери боевой рубки, где за бронированной переборкой находились ангары разведывательных и спасательных катеров. Но дверь заклинило. Проклятье! Оставался единственный путь – через палубный люк. Схватив Януса Адольфовича за рукав кителя, Вельзевул потащил его сквозь клубы дыма... Кашляя, спотыкаясь и чертыхаясь, Люциферов с мокрыми от злости глазами покорно ковылял за адъютантом. Неожиданно он почувствовал сильный толчок в спину и, не успев ничего сообразить, начал падать в какой-то колодец... Предсмертная агония «Зверя Рыкающего» не на шутку раздосадовала жизнелюбивого Асмодея и навела на всякие печальные мысли Пузатого Пацюка, никогда не стремившегося своим единственным пузом затыкать многочисленные вражеские амбразуры, изрыгающие смертельный огонь. Учуяв дым и услышав панические крики, друзья переглянулись и молча бросились к спасательным катерам вслед за коком, который хорошо знал коридорные хитросплетения корабля. Миновав резервный шлюз, черти остановились перевести дыхание, и тут кок радостно вскрикнул. – Чему радуешься, дурень? – буркнул Асмодей, вытирая слезящиеся глаза. – Вентиляционная труба! – словно безумный завопил кок. – Это наше спасение! Труба была довольно узкой. Пришлось стать на четвереньки. Кок, резво лезший впереди, вдруг жалобно крякнул, попятился назад и пребольно лягнул ногой Пузатого Пацюка в ухо. Тот обиженно выругался, почесал за ухом и ткнул кулаком в жирный зад тонкого знатока космической кулинарии. – В чем дело? – прохрипел Асмодей. – Здесь кто-то есть, – пискнул кок. – Мне кажется, мне кажется... – Ну что там тебе еще кажется? – раздраженно перебил его Асмодей. – Посмотри сам... От увиденного Асмодею стало не по себе. Он буквально носом уткнулся в окровавленную физиономию Вождя, безмятежно лежавшего на чьей-то шевелящейся, потеющей и постанывающей туше. – Мертвый, что ли? – сдавленно прошептал Пузатый Пацюк, громко кашля и сморкаясь. – Не знаю, – пробормотал Асмодей, тоже сморкаясь. – Сейчас посмотрим. – Нечего смотреть! – раздался знакомый Асмодею голос Вельзевула, звучавший очень жалобно. – Янус Адольфович жив, но находится в беспамятстве. Стащите его с меня. Я задыхаюсь. Обнюхав и ощупав Вождя, черти после краткого консультативного совещания пришли к неоспоримому выводу, что жизнь действительно теплится в этом изрядно побитом теле. Не сговариваясь, приятели обхватили его с двух сторон и поволокли к люку, отделяющему их от ангара со спасательными катерами. Достигнув люка, они осторожненько примостили рядом с ним окровавленное тело и тревожно уставились на заветную крышку, не зная, что там – царство холодного до смертного озноба вакуума или спасение. – А-а-а! – вдруг страшно закричал Вельзевул и крутанул колесо механического запора. Крышка люка легко отскочила, звонко щелкнув магнитными захватами. Впереди темнело пространство ангара, прорезаемое лучами прожекторов, вспышками фонариков. Там суетились какие-то фигуры, слышались отрывистые команды и звуки запускаемых двигателей. – Эй! – крикнул Вельзевул, заглядывая в люк. – Помогите! – Сюда, братва! – заорал Бес. Луч одного из прожекторов метнулся в сторону люка. Загремели тяжелые магнитные башмаки. – Чего вы там застряли? – нетерпеливо спросил кто-то. – С нами Вождь! – гаркнул Вельзевул. – Он тяжело, но не смертельно ранен. – Вождь... Вождь... Вождь... – разноголосо откликнулось чрево ангара. Мгновение спустя чьи-то сильные руки подхватили бесчувственное тело. Последним в люк полез Асмодей. Нечаянно поскользнувшись, он ухватился за какуюто рукоятку и буквально повис на ней. Рукоятка пошла резко вниз, и крышка люка попыталась вернуться на прежнее место, но наткнулась на левую ногу Беса. Тот истошно завопил от боли и потерял сознание... Бедняга пришел в себя, когда спасательный катер был уже на довольно приличном расстоянии от пылающего и разваливающегося на множество гигантских кусков флагмана. Услышав стоны очнувшегося Асмодея, бородатый унтер-офицер, сидевший в штурманском кресле, бросил через плечо: – Не шевелись, чертяка! У тебя, по всей видимости, сломана нога. Потерпи до полевого госпиталя. Мы скоро там будем. Там тебя основательно починят и хорошенько отремонтируют. Вот при каких драматическо-космических обстоятельствах кличка Беса была несколько расширена, и отныне его стали звать Хромым Бесом. Печальная весть о гибели несокрушимых боевых кораблей мятежников достигла Ада раньше, чем туда прибыли первые катера с расстрелянной и беспощадно уничтоженной эскадры. К тому времени вся многослойная система обороны Тартара панически спешно была приведена в состояние высокой боеготовности. Огромные космические платформы с мощными лазерными гиперболоидами и боевыми ракетными комплексами развернулись в сторону возможных направлений атаки противника. Усиленные эскадрильи скоростных торпедоносцев срочно вышли на позиции отражения атаки имперской армады. Эти весьма своевременные меры принесли свои положительные результаты. Когда вражеские корабли попытались по горячим следам высадить десант инквизиторов на Тартар, их встретил сильный заградительный огонь. Потеряв несколько дредноутов и десантных барж, империалисты отказались от замысла одним махом добить мятежников в их логове. Объединенное командование имперских эскадр, взвесив все за и против, решило не рисковать оставшимися кораблями и вернуться к родным планетам. Героев дальнего космоса столица империи встречала протокольно пышным салютом из старинных крепостных орудий, победным громом военных барабанов и триумфальным ревом труб полковых оркестров. Столица империи ликовала: женщины и дети радостно визжали, старики украдкой смахивали патриотическую слезу, а постовые полицейские, словно заводные куклы, непрерывно брали под козырек. От столицы до самых до окраин Великого Альдебарана верноподданные упивались несокрушимым могуществом империи и безграничной мудростью Папы Душецелительного. Через несколько дней все средства массовой информации дружно и с превеликим энтузиазмом объявили о награждении молодого адмирала Христофора орденом Священного Осла и подвязкой Наихрабрейшего Патриота, самыми почетными наградами империи. Время шло. В газетах и газетенках империи все реже и реже появлялись вести из далекого космоса о мятежниках, блокированных на какой-то забытой всеми планете. Газетные борзописцы переключились на привычные темы: светская хроника, уголовные новости, политические скандалы, воспоминания космических первопроходцев и реклама ширпотреба. О тех минувших днях не забывали только ветераны, жандармы и кое-кто из историков. В числе ветеранов того похода был и князь Рафаил. Он обстоятельно изложил капитанлейтенанту Адамову историю заговора и мятежа, скромно опустив некоторые мелкие эпизоды своего участия в этой славной карательной экспедиции. Когда князь закончил свое секретно-героическое повествование, уже стемнело. В открытое окно потянуло сыростью с лесного озера. Оба, рассказчик и слушатель, сидели молча, прислушиваясь к неясным ночным шорохам и по-своему переживая вселенские события давно прошедших лет. – Я хочу предостеречь тебя, мой друг, – нарушил тишину Рафаил Львович, раскуривая свою любимую эпиковую трубку. – Мятежники не сложили оружие и не собираются ничего подобного делать. Об этом в империи предпочитают помалкивать, чтобы не будоражить мирный сон верноподданных обывателей досужими рассказами о чертях и Люциферове-Сатанинском. Но наши бдительные пограничные стражи, вездесущие спецслужбы и жандармские диверсионные отряды ведут постоянные наблюдения за бунтовщиками. В последнее время эти прохвосты вновь зашевелились. Не исключено, что сюда может нагрянуть их эмиссар, чтобы как-то напакостить империи. Ты должен быть готов к этому гнусному визиту. О нашем разговоре пока ничего не говори супруге. И постоянно помни: от того, как и какими темпами пойдет колонизация Солнечной системы, во многом зависит порядок и мир в нашей благословенной империи. Император возлагает на тебя большие надежды. Гляди, не подведи его. Только князь произнес последние слова, как в кухню вошла заспанная Ева и щелкнула включателем. Под апельсиновым абажуром вспыхнула лампочка, заливая помещение ровным, мягким светом цитрусового отлива. Увидев князя, Ева всплеснула полными ручками и воскликнула: – Боже мой, кого я вижу! – Здравствуй, дорогая! – расцвел в кошачьей улыбке князь. – Что вас забросило в такую даль? – Гулял я недавно по космосу в полном одиночестве, гулял и, знаете ли, наскучило. Всё звезды да звезды, всё мрак да мрак... Дай, думаю, загляну к своим любезным друзьям на огонек. И вот я здесь. – Ой, что-то вы хитрите, князюшка! – проворковала Ева и кокетливо погрозила гостю розовым пальчиком. – Впрочем, ваши дела – это ваши дела. Давайте-ка лучше вечереть. Вскоре в просторной гостиной был накрыт стол. В камине весело затрещали поленья... За столом зашел разговор о проблемах и неотложных задачах по обустройству колонизуемой планеты и всей Солнечной системы. – Поскольку мы находимся в очень сложных экспериментальных условиях хозяйственного самообеспечения, – заговорил капитан-лейтенант, придав своему лицу внушительный вид, – приходится считаться с объективными закономерностями естественноисторического процесса. Аборигены, которых мы застали на Земле и которые, по данным наших антропологов, происходят от волосатых обезьян, в основной своей массе живут совершенно нецивилизованным первобытнообщинным строем. И только некоторая их часть достигла первой ступени цивилизации – рабовладельческого общества. Мы, разумеется, всячески поощряем развитие прогрессивных форм рабовладения и не без оснований полагаем, что оно позволит успешно осуществить задуманный эксперимент и благополучно миновать феодальный период. С этой благой целью наши агенты оказывают сильное идеологическое, политическое, философско-религиозное и, конечно же, финансово-монетаристское воздействие на руководство недавно возникшего монархического государства Атлантиды. – Похвально, похвально, – заметил Рафаил Львович, наливая в чашку горячий компот из старинного самовара. – А что еще вы делаете конструктивное в плане обустройства Земли? – В горном районе Гималаев строим секретную военно-космическую базу под кодовым названием Шамбала. Когда закончится обустройство планеты и мы добьемся всеобщей победы прогрессивного рабовладельческого строя, эта база позволит начать планомерное заселение рабами других планет Солнечной системы с целью добычи полезных ископаемых для обеспечения империи важным стратегическим сырьем. «Молодой, да ранний,» – с завистью подумал Рафаил Львович, одобрительно кивая головой. – Сегодня творческая группа альдебаранских футурологов из Института Аномальной Эволюции и политологов из Высшей Партийной Школы Победившего Империализма занята разработкой принципов антифеодальной самостийности для устройства колониальной жизни будущего буржуазного общества, придущего на смену рабовладельческой цивилизации, – продолжал тем временем увлеченно говорить Адамов. – Разбивка регионов и районов на отдельные буржуазно-этнические резервации позволит избежать негативных для наших империалистических планов интеграционных процессов, которые подрывают устои любой империи. В рамках резерваций и только в этих рамках возможна постановка вопроса о культурной автономии отдельных рас и племен... Капитан-лейтенант еще долго философствовал на тему колониального обустройства Земли, пока не заметил, что князь начал клевать носом. Утром следующего дня сонную тишину дома нарушил зычный бас Рафаила Львовича, нетерпеливо звавшего гостеприимного хозяина на озеро. Прохладная, чистая гладь воды курилась легким туманом. Прибрежный влажный песок холодил босые ноги. Взбадривая себя громкими криками, купальщики плюхнулись в прозрачную синеву озера и поплыли к противоположному берегу. После плотного завтрака князь заперся с капитан-лейтенантом в кабинете, расположенном в железобетонном бункере под домом, и еще раз тщательно проинструктировал его. В конце разговора тщеславный командир колонистов вручил Рафаилу Львовичу годовой отчет для Министерства колониальных владений Великого Альдебарана, и князь стал с ним прощаться. Проводив гостя, супруги вернулись домой и занялись своими делами. Капитанлейтенант связался с главным инженером Шамбалы, а потом устроил селекторное совещание с участием монарха Атлантиды, весьма просвещенного вождя атлантов. Ева же посвятила себя приготовлению пирога с земляничной начинкой, любимого лакомства мужа. А высоко в голубом небе прощально таяла белая полоска космического катера посланца Императора... ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ, из которой читатель узнает прелюбопытные вещи о космолитическом менеджменте, оригинальных способах усмирения бунтовщиков и о руководяще-направляющей роли Папы Душецелительного в империалистическом обустройстве Вселенной, а также Кабинета Кабинетов. Почему во всей по-дурацки бесконечной Вселенной так мало настоящего, актуального множества лидеров? Куда они все подевались? По каким космическим сусекам и на какие такие парсеки они разбежались? В какие космические щели забились? Во что выродились? Почему... ? Отчего... ? На эти крайне свербящие и ужасно зудящие вопросы ведомственные и вневедомственные трудяги космополитического менеджмента многократно, но безуспешно пытались дать хотя бы жалкое подобие вразумительных ответов. Одни из них указывали на высокую текучесть кадров. Другие бормотали что-то невнятное о дефиците честолюбивых индивидуумов. Третьи догматично цитировали различных пророков и тупо ссылались на потусторонние силы, внося тем самым иррациональную сумятицу в головы рядовых налогоплательщиков и отвлекая идеологов абсолютизма от решения абсолютно неотложных управленческих задач. В итоге все больше и больше вселенских руководителей, зная ужасно злобный нрав своих верноподданных и подданных других категорий, начали вести себя до обидного сверхосторожно и жить, так сказать, не высовываясь из своих кабинетных крепостей. Подобные квазилидеры, стремясь трусливо избегать производственной нервотрепки, своим недостойным поведением внушали окружающим полное безверие в грандиозные возможности социального и технического прогресса. Постепенно у этих столоначальников атрофировалось необязательное чувство служебной инициативы. Так куда же все-таки подевались обожествляемые разумными существами подлинные лидеры Вселенной? Я разделяю точку зрения тех глубоко законспирированных библиотечных мыслителей, которые без всякой робости слабым и едва слышным голосом утверждали на методологических семинарах, что вышеуказанные лидеры затерялись на далеких космических орбитах в безнадежной погоне за славой первопроходимцев. Этот позорный эгоизм руководящих кадров вызвал у лаборантов и референтов кликушеские стенания не только о закате, но и о гибели обожествляемых идолов космополитического менеджмента. Вместо того, чтобы вдохновлять двуногих, трехногих, четырехногих и прочих многоногих разумных существ Вселенной на нешуточные пешеходные подвиги по направлению к чему-нибудь нетленному и во имя оного, некоторые малодушные руководители ведомств и министерств подались на уговоры прихлебателей и начали вести праздную жизнь за чужой счет. Наконец в одной крупномасштабной региональной волости Вселенной всем губошлепам и примкнувшим к ним подъялдыкивателям стало до коликов в животе грустно и мучительно скучно. Ясное дело, в таком случае позарез нужен свой в доску атаман из самой что ни на есть народной гущи. Сразу же нашлись охочие до энтой гущи прихлебатели подъялдыкивателей. По старинному рецепту бабушки Анархии Ивановны, такой и сякой праматери порядка из хаоса, заварили они крутую кашу. И тут на угарный дымок от стряпни кашеваров вылез из чащобы партийной дремучести здоровенный мужик с мощным грызуще-жевательным аппаратом, боксерским носом и сипловатым ораторским баском. – Звали? – рявкнул он. – Звали, звали, – раздалось в ответ. – Вот и кашка наша уже доходит, а вместе с ней и мы доходим, но все никак не можем дойти до нужной кондиции. – С моей помощью дойдете до состояния натуральных доходяг, – успокоил их мужик. – Я вас вначале наставлю на путь неблизкий, а потом выставлю перед всеми как моих собственных путеукладчиков, радостно и бесплатно тянущих против неугодного мне течения почетную бурлацкую лямку и свои трудовые жилы, дабы в поте лица своего очиститься от скверны прошлых заблуждений и прочувствовать всю неизъяснимую прелесть нового порядка вещей. Естественно, желающие стать доходягами неимоверно возрадовались и дружно впряглись в лямку. Правда, как это всегда бывает, нашлись отщепенцы из партии Дубин Стоеросовых, которые заартачились тянуть лямку и начали мямлить что-то невразумительное о научно-техническом прогрессе, об автоматизации тяжелого физического труда... Но их никто не стал слушать, ибо кто же будет слушать разную галиматью явных лодырей, не верящих словам и клятвам призванного народом атамана, готового лечь на рельсы, чтобы пустить под откос паровоз с неверующими отщепенцами. Объясняя народную тягу к институту атаманства, философы новой генерации писали в своих трактатах разное, но сходились в одном, а именно: атаман нужен потому, что волевые качества ранее известных по партийной прессе руководителей никуда не годились. Им вторили в других концах и провинциях обитаемой вселенной разумные твари, оказавшиеся в аналогичной ситуации. На свой манер жалобно голосили и альдебаране, указывая пальчиками на то, что реконструктивные проблемы, стоящие перед ними во всей своей нелицеприятной наготе, сделались чрезвычайно и необычайно заживотрепещущими. Вследствие этих галактических стенаний на вселенско-исторической сцене началась сущая свистопляска, пока не появился Папа Душецелительный, абсолютно гениальный Император Великого Альдебарана. Хроникеры вместе с хронистами восторженно писали о нем: «Это не просто всеми любимый руководитель империи, а потрясающая динамо-машина, работающая все эффективнее и эффективнее. Его молниеносная мысль обгоняет на много идей вперед любые социальные проекты и не может не вызывать у верноподданных удушливые приступы религиозного экстаза». До восшествия на престол теократически устроенной империи Великого Альдебарана Папа Душецелительный звался в миру Колумбом Магелановичем Тридесятым. Ему пришлось преодолеть немало трудностей на пути к манящему императорскому трону, унаследованному от Папы Душещипательного, почти полностью облысевшего на ответственной государственной работе. Благодаря настойчивому труду и выдающимся способностям он блестяще закончил богостроительский факультет провинциального колледжа и стал партстроителем незыблемых ценностей абсолютизма. Государственно-педагогические воззрения всеми обожаемого Папы Душецелительного ярко характеризуют его дидактические речи, основательно запротоколированные и дотошно задокументированные. Так, выступая на торжественном обеде по случаю многотысячелетнего юбилея социального института папизма и заострив внимание присутствующих на вопросе о воспитательной деятельности рядовых учителей широких дворянских масс, он скромно заявил, что утрет сопли любому, кто осмелится состязаться с ним на спор в демонстрации высоких морально-политических качеств. В подтверждение этого Папа одним махом выдул прямо из горла бутыляку дворцовой «Абсолютовки» и принялся энергично дирижировать балетными танцами официантов. Папе Душецелительному были близки взгляды религиозных просветителей во главе с ныне уже нездравствующим XIII Великим Инквизитором, конопатым старцем, судя по его мумии, мудрым и бескомпромиссным в преследовании фанатиков инакомыслия, отрицающих поступательный ход альдебаранской истории. Побуждаемый высокими идеалами Религиозного Просвещения, наш Папа посвятил всю свою пламенную жизнь служению верноподданным, их воспитанию и обучению в определенном духе и, конечно же, в определенном разрезе. В этом смысле Папа Душецелительный является подлинным и последовательным Отцом и Учителем всех альдебаран. Взойдя на престол, украшенный эмблемой Священного Осла, Папа Душецелительный быстро избавился от презренной кучки непослушных вельмож и сановников, влачивших жалкое существование в городском парламенте Райбурга. Под салютующие звуки бабахеров он обозвал их безмозглыми язычниками, некультурными дикарями и вульгарными идолопоклонниками, после чего закатил банкет в честь собственного Величества. Имея утонченный вкус к диктаторской власти, он наглядно и убедительно продемонстрировал всем обывателям и кое-кому из паршивых интеллигентов, что хотя его организационная политика и обходится день ото дня все дороже, но это действительно необходимо для укрощения неуемной прыти головотяпов с их смехотворным культом здравого обывательского смысла. Как гласит многократно подтвержденный опытом социологический закон братьев Ширли-Мырли, большинство разумников из числа не шибко умников заслуживает тех руководителей, которых они заслуживают, ибо история если чему-то и учит, то только элитные руководящие кадры, находящиеся на пенсии в обнимку с гробом. Итак, разделавшись с врагами империи и прежде всего со своими собственными врагами, которые одновременно являлись врагами народа, Папа Душецелительный занялся вплотную педагогикой и маркетинговыми исследованиями. Эти исследования показали, что маркетинговая среда слагается из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами аристократии и столбового дворянства, имеющими непосредственное отношение к императорскому дворцу и его уникальным возможностям по льготному обслуживанию придворной клиентуры. Макросреда представлена аморфными классами и сословиями, которые оказывают ничтожно слабое влияние на микросреду. – Реклама – предмет увлекательный и прельстительный для комплексных маркетинговых исследований, – любил приговаривать Папа Душецелительный, наказывая придворных шалопаев в воспитательно-рекламных целях. Только круглые дураки и квадратные олухи не догадываются о том, что сфера дятельности рекламы гораздо шире составления объявлений, которые развешивают на фонарных столбах, в общественных туалетах и печатают в бульварных газетенках. На самом деле реклама включает в себя паранаучное изучение теневого рынка всеми малодоступными средствами и творческое навязывание потребителю неходовых товаров в яркой упаковке. Такая реклама призвана смело, энергично начать и тихо, несуетливо завершить выгодную рекламодателю сделку. В случае с Папой Душецелительным подобной богоугодной сделкой являлась сделка неверующего контингента империи со своей резиновой совестью за вполне умеренную плату. Им ласково внушалась мысль, что приобретение религиозно-пропагандистских материалов в кредит позволит надеяться на безоблачное будущее в том далеком и совершенно потустороннем мире, который готов принять колонизаторские полчища альдебаран. Столь тонкая рекламная политика очень импонировало Императору. Однако он резонно считал, что творчески мыслящие диктаторы никогда не должны беззаботно почивать на лаврах, орденах, барабанах и теплых грелках. В задушевных разговорах со своим старым камердинером, съевшим все зубы на рекламе значков с голографическим изображением Императора, Папа Душецелительный сетовал на конечную неопределенность рекламного процесса и на чем свет стоит чихвостил ленивых деятелей академической науки за их отрыв от практики. Его здорово смущало, что половина всех рекламных денег транжирится впустую, а он никак не может выяснить, какая именно половина выбрасывается на ветер. Даже папский фаворит, опытнейший рекламный текстовик Мопертусейка Шепелявый, краснея, разводил руками, не вынимая их из карманов, чтобы не вводить в смущение придворных дам своими двумя дулями. Размышляя о лучезарном будущем необъятной империи, Папа Душецелительный был первым умозрительным новатором, уяснившим, что грядет неизбежное увеличение рекламы от имени государственных органов. Разумеется, он тут же потребовал, чтобы правительственная реклама неуклонно пропагандировала определенные нормы придворного поведения и дворцового мышления. Немедленно Министерство образования ввело в курс школьного обучения дворянских недорослей толстенный учебник «Элементарная логика рекламодателя», в котором императивно провозглашалось, что государственная реклама является наукой о политически правильном мышлении, а также, наряду с правилами хорошего тона, является наукой о неукоснительности выполнения законов верноподданнического поведения в быту высшего света и на придворной службе. Пророчески предсказав, что в обществе всеобщего империалистического благоденствия и процветания будет неуклонно расширяться пропасть между имущими и неимущими, Папа Душецелительный решил с помощью рекламы ускорить этот объективный процесс в пользу имущих меценатов и филантропов. С тех пор реклама стала регулярно увещевать тяжелых на подъем неимущих ограничить рождаемость и быстренько переселиться на далекие от комфорта планетоиды. Это вызвало недовольство у наиболее слабоумной части населения и привело к возникновению движения протестанторов, отъявленных негодяев, грязных отщепенцев и злостных противников защиты окружающей среды от переизбытка неимущих. Император не стал с ними церемониться и быстренько пересажал наиболее горлопанис-тых протестанторов, отправив кого в тюремные казематы, а кого на лесоповал в заполярные районы планеты Трик-Трак. Для пущей острастки законопослушных обывателей зловонные хибары протестанторов были в упор расстреляны панцирными машинами. Все это ненавязчиво рекламировалось по имперскому телевидению и интеллигентно комментировалось филантропствующими говорунами. Идя по запутанным следам одного чрезвычайно сведущего в летописных делах мужа и основательно роясь в его архивном наследии, я нашел уникальнейшие документы, проливающие дополнительный лучик света на рекламно-просветительскую деятельность Папы Душецелительного. Если относиться к этим хроникально-документальным свидетельствам непредвзято, то обнаруживаются исторически сенсационные вещи. А именно? Как всем доподлинно и очень хорошо известно, Папа Душецелительный поражал видавших виды вельмож своей административной озабоченностью, политической въедливостью и ораторской неукротимостью. Постоянно застегнутый на все бриллиантовые пуговицы и неусыпно имея наготове франтоватую корону с большим козырьком, он представлял собой тип всемогущего императора, у которого одна нога здесь, а другая там, где ей надо или положено быть. Днем Император обычно носился со скоростью сквозняка по взбудораженному им дворцу, зычно созывая придворных на политзанятия и банкеты с обильным возлиянием, а вечерами, умиротворенно потягивая казенку, практиковал задушевные беседы с вахтерами, телохранителями и со своим внутренним голосом для поддержания у себя бодрого духа. Папа Душецелительный никогда не кричал и вообще не повышал своего громоподобного голоса, чем очень пугал министров с портфелями и толстыми рожами, привыкшими издревле к казенным окрикам и начальственной матерщине. Он предпочитал говорить неприятные вещи мягко и проникновенно, а стелить любил жестко и без всяких там вывертов, отчего имел преотменный аппетит и хороший цвет лица. Супруга Императора, Марфа Предпосадница, тоже любила хорошо покушать и припудриться. Благодаря ей во дворце всегда царили согласие, любовь и послушание. В часы умиротворенного досуга Император предпочитал не отлеживаться на выложенной импортным кафелем печи. Напротив, вскарабкавшись на печь, он принимался энергично издавать и переиздавать законы под трогательные звуки механической гармоники, электрофицированной шарманки или под переложенные на песенный лад доклады министров. Вообще, строго между нами говоря, трезвая мечтательность и склонность к сочинительству политических прожектов была в крови у Папы Душецелительного. Однажды, полный неясных и волнительных дум о благах цивилизации, Папа Душецелительный узнал о вспыхнувшем в столице мятеже под предводительством скандально известного авантюриста и бунтаря Люциферова, имевшего когда-то честь быть весьма приближенным к особе Императора. Он тут же подумал, что натуральный исход всякого бунта есть большая и поголовная экзекуция рехнувшейся черни, именуемая Бессудным Днем. И незамедлительно решил начхать на все основы конституционной монархии с благой целью прибегнуть к самым цивилизованным средствам устрашения гадких бунтовщиков. Ранним утром он выступил по всеимперскому каналу телевидения с призывом отрядить карательную экспедицию и с места в карьер дал делу такой ход, что всем сразу стало ясно: это будет не простой военный променад, а нечто невообразимо и до умопомрачения развлекательное в своей назидательности. Утро было ясное, хотя и несколько дымное от пожаров. Солдатские каски, надраенные мелом, блестели и радовали недремлющее императорское око. Вслед за штурмовыми солдатскими полками чеканным шагом топали профосы со складными многотопорными инструментами и намыленными веревками. Хотя главной целью назидательного похода были столичные районы, захваченные презренными бунтовщиками, но дальновидный Император стал хитрить на страх врагу. Он не пошел ни прямо в лоб, ни направо и ни налево во фланги, а принялся маневрировать там и сям. Верноподданные горожане горохом высыпали из домов на чистенькие улицы и громкими одобрительными аплодисментами начали поощрять военно-тактические эволюции войска Императора. Лейб-гвардейцы все маневрировали и маневрировали, распевая лихие карательные марши, пока не устали и не сделали небольшой привал на городских пляжах. Тут всем участвующим в походе раздали по чарке водки, выплатили деньги на махорочные сигареты и приказали продолжать петь все те же укрепляющие боевой дух марши во хвалу Его Абсолютного Величества и во славу его миротворческой карательной политики. На другой день, спозаранку, многочисленные разведбатальоны стали без устали отыскивать «языка». Делалось все это обстоятельно, без лишней спешки. Вначале привели какого-то крючконосого забулдыгу и хотели без допроса повесить его на дверях ближайшей аптеки, но потом один смекалистый унтер-офицер вспомнил, что пленник вовсе не для того требовался карателям, и языкастого крючконоса, хорошенько отдубасив, вывели на чистую воду, в которой и утопили. Затем томящийся от безделья профос, голый по пояс и с капюшоном на голове, неторопливо вздернул другую подозреваемую во всех самых тяжких грехах сволочь на триумфальной арке. Часика этак через три попался еще более сговорчивый «язык», шедший в гастроном за покупками для своих собачек. После непродолжительного, но весьма содержательного допроса с пристрастием к истине его повесили там же за детородный орган. На основе полученной от «языков» бесплатной и очень ценной информации лейбгвардия опять начала хитроумно маневрировать и нещадно палить из осадных пушек, отчего воздух наполнился нестерпимым пороховым смрадом, копотью и солдатской матерщиной. Перепуганный этими шумными маневрами презренный враг занял неприступные позиции в помещении казино «Крепкая Ляжка» и, забаррикадировавшись в нем, принялся совещаться и напропалую бомбардировать имперские войска угрожающими подметными письмами, причиняя им мало ментального вреда, но много неудовольствия. В ответ на такое гнусное поведение бунтовщиков поступил высочайший указ взять заложников и оплевать их с ног до головы на глазах мятежников, если те не возымеют желания срочно капитулировать. Строптивые бунтовщики повели себя крайне возмутительно, не возымев никакого особого желания беспрекословно сдаться на справедливую милость победителей, и тогда дюжина случайных прохожих была прицельно оплевана группой наихрабрейших профосов, засевших в городской канализации. Скорость изнурительных маневров лейб-гвардии нарастала и нарастала. Вскоре у мятежников от этих головокружительных маневров зарябило в глазах и засвербело в самых неожиданных телесных местах. К довершению всего полился затяжной кислотный дождь, угрожая бунтовщикам поголовным облысением, порчей путей отхода и прекращением подвоза провианта. Они не на шутку встревожились, потом изрядно обеспокоились, а под конец стихийного бедствия встрепенулись и бросились, что есть мочи, бежать из столицы нестройными толпами, попутно грабя коммерческие ларьки. – Презренные и подлые трусы! – процедил сквозь зубы Император, узнав о своем военном триумфе, и приказал бить и трубить победный отбой. После кратковременного отбоя с музыкой и плясками у костров лейб-гвардия воодушевленно пошла в обход врага, но наткнулась на ближайшее к городу бездонное болото, о котором никто из командиров не подозревал. Проклятая хлябь затруднила карательное шествие передового оркестра разведчиков и в один присест проглотила всю артиллерию с прислугой и трубадурами. Однако наиболее умелые солдаты кое-как выбрались из трясины, изрядно выпачкав парадные мундиры в грязи, и продолжили отвлекающие маневры в противоположную от врага сторону. Мятежники были окончательно деморализованы и, находясь в полной растерянности, принялись судорожно окапываться, громоздя одну кочку на другую и не имея никакой надежды на спасение от болотных кровососущих насекомых. Бунт явно выдыхался. Взбесившиеся негодяи были раздавлены и подавлены. Через некоторое время Император вернулся к спокойному исполнению служебных обязанностей и, сидя в соответствии с протоколом на балконе, созерцал, как профосы гнали за победоносно марширующими карателями множество пленников и заложников. И поскольку в числе заложников оказались некоторые уважаемые аристократы и высокопоставленные чиновники, уличенные в казнокрадстве, то было приказано обращаться с ними по возможности ласково, проводя порку без утомительного суда и следствия, а прочий плебс решением полевого трибунала был сослан на каторжные стояния в очередях за нищенской похлебкой. В тот же вечер, запершись в кабинете, Папа Душецелительный записал в своем дневнике: «В результате очередной, неимоверно трудной, но славной карательной экспедиции, увенчавшейся неизбежной победой имперского оружия над трусливым сбродом бунтовщиков, империалистическая цивилизация опять повсеместно восторжествовала, и отныне день Пляски Святого Свиста следует объявить общенародным праздником». Очень может статься, что кое-что из рассказанного выше покажется придирчивому читателю, страдающему хроническим пессимизмом и не менее хроническим скепсисом, легкомысленным, но это – как смотреть на вещи. Ведь не секрет, что некоторые правдолюбы смотрят на мир сквозь крохотную замочную скважину и не в состоянии охватить всю прекрасную панораму исторических свершений. Поэтому я имею известную смелость, став на краю бездны моего оптимизма, утверждать: плодотворный и оплодотворяющий исторический синтез виртуального и реального – не вымысел, а упрямый и непреложный факт. Лично мне кажется, что виртуальный летописец всегда находится на почве отнюдь не фантастической. Посему вся виртуальная информация, касающаяся Папы Душецелительного, может быть принята за чистую неразменную монету, то есть за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться несколько странным, что Императора озаботили какие-то там бунтовщики, ратующие за конституционную монархию или за что-нибудь похуже. Но не следует забывать, что, во-первых, поток политической жизни – это поток забот и треволнений, и, во-вторых, всякий администратор должен иногда окунаться в живую народную стихию, дабы поражать воображение обывателей своими хорошо продуманными рекламными акциями. Если далекий от народных чаяний лидер будет манкировать общением с народом посредством видеотрансляций живописных картинок с бранного поля, то бунтовщики возомнят о себе черт знает что и начнут бунтовать ради чистой любви к бунту. И тогда восторжествует полнейшее недоразумение, сводящее на нет все цивилизаторские и просветительские усилия руководителей высокого ранга. В этом отношении Папа Душецелительный – ярчайший образец гениальнейшего политического лидера абсолютистского толка, о чем и спешу уведомить читателя. Древнейшие и современные хроники свидетельствуют, что в стратегии политического планирования Папа Душецелительный был непревзойденным мастером политического зодчества. Материализацией его архитектурных наклонностей явился новый дворец как результат коренной ломки отживших принципов дворцовой архитектуры. Все ранее известные архитектурные формы дворцовых комплексов могли вызвать лишь примитивное хихиканье и не более. Дальновидный Папа Душецелительный смотрел в самый корень своей реконструктивной деятельности, когда предложил перестроить дворец, превратив его в грандиозное рекламное агентство. Выступая перед творческим коллективом именитых прорабов, он проникновенно говорил с высокой трибуны: – Планирование и эффективное претворение в счастливую жизнь успешных рекламнополитических компаний требует совершенно нового дворца, который объединил бы всех придворных в единое деловое предприятие, именуемое дворцово-рекламным агентством. Таким образом, идея рекламного агентства для проекта дворца стала программным олицетворением самой сути реконструктивной деятельности нового Императора. Крупные агентства обслуживают крупных рекламодателей. Это понятно всем. А кто может быть крупнее самого Императора, главного рекламодателя Великого Альдебарана? Никто! Разве мелкие и средние рекламные агентства в состоянии предложить столь же широкий спектр услуг для рекламы культа личности Папы Душецелительного, какой предлагает императорский дворец? Конечно, им это не по силам. Поэтому возникает насущная потребность в создании единой агентской сети во главе с ведущим рекламным центром в виде фешенебельного дворца Императора, который умело руководит этой сетью с помощью агентурных сетей тайной полиции и неутомимых идеологических инквизиторов. Агентские и агентурные сети имеют разные организационные структуры. Чтобы эти структуры работали согласованно, необходимо объединить различных специалистов в дружелюбные ведомства, министерства, учреждения, отделы и подотделы, одновременно более четко разграничив сферы их ответственности перед вышестоящими инстанциями во главе с Кабинетом министров и Кабинетом Кабинетов самого Императора. Следовательно, вопрос о Кабинете Кабинетов имеет фундаментальное значение для кабинетного обустройства всей империи. Главный Архитектор, глубоко вникнув в сокровенную суть рекламы, постановил создать такой рабочий кабинет для Кабинета Кабинетов, который отвечал бы самым строгим, самым взыскательным и самым невероятным требованиям предприимчивого Императора. И такой долгожданный кабинет был создан в самое кратчайшее время силами дружного многотысячного коллектива политзэков. Император остался им доволен и приказал продолжить строительство дворца в том же духе. Дворцовый кабинет Папы Душецелительного получился как бы живым организмом с элементами искусственного интеллекта. Это архитектурное чудо могло сжаться и стать уютным, отапливаемым клозетом или зловонной пивнушкой, но могло, по желанию хозяина, вырасти до размеров крытого стадиона для проведения кабинетно-спортивных состязаний среди фаворитов и претендентов на вакантные министерские портфели. Дворцовые архитекторы и прорабы потрудились на славу и во славу, запроектировав и воплотив в композиционные материалы прихотливые пожелания Императора. Не была забыта и цветовая гамма, которая в зависимости от сезона, погоды, времени суток и настроения присутствующих легко изменялась как в нужных, так и в ненужных тонах. Это позволяло Императору следить если не за тайными помыслами посетителей кабинета, то за эмоциональной окраской их душевных вибраций. Свою скромную, но весомую лепту в оформление кабинета внесли и придворные мебельщики. Созданная ими чудо-мебель могла менять свою конфигурацию, автоматически появляться и убираться. Более того, в чрезвычайном случае крайней необходимости она в состоянии была защитить Его Императорское Величество от тех врагов народа, которые возымели бы желание покуситься на священную особу. Создателям этой мебели удалось избежать банальщины вроде вмонтированных в подлокотники кресел пулеметов или смертельно разящих электрических стульев. Идя с некоторым опережением научно-технического прогресса, они сконструировали свои детища на принципах компьютерных трансформеров с включением в них агрессивных компонентов разнообразного подавления и уничтожения врагов Императора. И наконец, на этой мебели можно было ездить, летать, прыгать и плавать как по воде, так и под водой, а также делать множество других архилюбопытных штучек. Прелестные получились вещицы, знаете ли! Когда умозрительно входишь в Кабинет Кабинетов с каким-нибудь рекомендательным письмом от собрата по литературному цеху, видишь своим и чужим внутренним зрением Императора. Он сидит в непринужденной позе на спине одного типчика, наивно думающего о превосходстве разума над материей и стоящего при этом на четвереньках в позе кресла-качалки. Этот типчик является мебельным элементом системы дворцового искусственного интеллекта. Хозяин кабинета сердечно вас встречает, источая всем своим естеством неописуемую радость, и с нескрываемым интересом поддерживает беседу, скажем, о Неразменном Философском Червонце и его инфляционных возможностях. Неожиданно в Кабинете появляется хорошо вышколенный секретарь. – Что вам нужно? – спрашивает доброжелательно Император, досадуя на неожиданную помеху разговору с интересным собеседником. – Рехнулась собака на сене, Ваше Величество. – В чем причина? – Сказалась слишком интенсивная эксплуатация сеновала придворными сутенерами. Одна из сторожевых дворцовых собак не выдержала накала страстей и рехнулась. Духовная смерть наступила мгновенно. Теперь сено оказалось бесхозным. – Что вы сделали с этой псиной? – Перевели на работу следопыта. – Запасных псин много? – Достаточно, Ваше Величество. – Покажите-ка мне, голубчик, одного из кандидатов. Через несколько минут перед Императором стоял доктор наук спортивного телосложения. – Как вы относитесь к роли собаки на сене? – спросил Папа, весело щурясь. – А в чем конкретно будут заключаться мои должностные обязанности? – Вы будете гавкать на всех прохожих. – Ваше Императорское Величество, а не требуются ли вам политологи? У меня есть достаточный опыт делать прогнозы непредсказуемого. – Батенька, политологами у меня пруд пруди. Сегодня каждая бездарь спит и видит себя политологом, зарабатывающим деньги словоблудием. Нет, политологи мне не требуются. А вот, кстати, еще мне нужна ручка для сливного бачка в туалете. На мой взгляд, по своему политологическому мироощущению вы подходите для этой работы. – А вы не ошибаетесь в своей оценке моей скромной персоны? – Если вы сомневаетесь, можно проконсультироваться с одной из моих компьютерных программ. Папа Душецелительный нажимает на кнопку звонка, и мгновенно в кабинет угодливо вбегает седой мэтр академической науки, занимающий свое достойное место в информационной базе данных наряду с другими живыми компьютерными программами из числа ученых, публицистов, прозаиков, поэтов и сценаристов. – Этот индивидуум подходит по своему духовному складу к выполнению туалетной работы? – спрашивает Император академика-консультанта. Бросив быстрый оценивающий взгляд, тот бойко изрекает: – Вполне. – Вот видите, – говорит монарх-работодатель. – Наука подтверждает справедливость моей оценки. – А какое жалованье вы мне положите? – робко вопрошает нанимающийся. – Как специалист в области большой теоретической политики, я получал двести империалов у себя в НИИ. А как ручка сливного бачка... Я, право же, не представляю... К тому же я интеллигент, знаю инопланетные языки со словарем и весьма ловок в большом настольном теннисе... – Ваша интеллигентность меня не колышет, милейший. Меня преимущественно интересует только некоторая физическая сноровка и отсутствие чувства брезгливости, чем славятся многие политики и обслуживающие их политологи. За свою работу вы будете получать четыреста империалов, плюс премиальные и оплачиваемый семейный отпуск. Ну что? – Согласен! – радостно восклицает бывший политолог. – Хорошо. Идите в отдел кадров и оформляйте документы. Когда дверь за будущей ручкой туалетного бачка за-крывается, Император встает и заботливо говорит своему креслу: – Можешь маленько отдохнуть, дружок. Походив немного по кабинету, Папа Душецелительный начинает жаловаться вслух на свое тяжелое императорское житье. – Нет, я не могу больше так прозябать, – произносит он, останавливаясь перед говорящим зеркалом и тяжело вздыхая. – Я неимоверно устал. Мне все надоело. Моя мебель никуда не годится. Позавчера оглох и ослеп ясновидящий телепат. Вчера подхватил насморк радиоприемник. А тут еще начались неполадки с принтерами, которые распечатывают мою творческую биографию. Это просто возмутительно! – А что думают по этому поводу ваши злопыхатели? – деликатно интересуется зеркало. – Сейчас, зерцало души моей, ты это узнаешь, – вяло машет рукой Папа Душецелительный. – Эй, секретарь, позвать-ка сюда злопыхательного злопыхателя. За дверью раздается топот, и в Кабинет стремглав влетает злопыхатель-оппозиционер, шипя и брызгая слюной. Это – высокий, патлатый мужчина с рыхлой физиономией несостоявшегося научного сотрудника. Он служит у Его Величества в качестве шутовского колпака для легкого мозгового массажа. Император возвращается в свое кресло, успевшее торопливо сожрать бутерброд, смоченный стаканом кефира, и приказывает злопыхателю резать правду-матку о плачевном состоянии имперской экономики. – Я несказанно счастлив, что вы оказались в дураках, – начинает свою обвинительную речь злопыхатель. – Надеюсь, что скоро все полетит к чертям, и вы будете пригвождены судом истории к столбу позора... – Хорошо, хорошо, – кивает головой Император. – Продолжайте в том же духе. – Вы глупы и одиноки. Ваши придворные лакеи и лизоблюды вас ненавидят и презирают. Стоит только кораблю дать маленькую течь, а это произойдет в самом ближайшем будущем, и они покинут вас, чтобы потом вместе со всеми улюлюкать и травить своего бывшего господина. – Неплохо, батенька, очень неплохо, – оживляется Император. – Смелее развивайте эту нетривиальную тему. – Ваша ракетка для настольного тенниса куражится над своим хозяином и втихаря обворовывает всех от имени Его Величества, а вы этому и рады. Ха-ха-ха! Завтра он вам изменит. Головой ручаюсь! Вот вам счастье, уважение, власть над сатрапами!.. Чтобы там ни было, а разумный индивидуум – это все-таки не винтик в государственной машине! Как мне жаль вас! – Вы все сказали? – Нет, далеко не все! – гневно и задиристо выкрикивает злопыхатель, бычась и багровея. – Тогда выскажитесь после обеда. Мне нравится вас слушать. Я, вероятно, прибавлю вам жалованья. Кроме того, увеличу тираж ваших пасквилей против меня. А теперь пшел вон! Ко всему сказанному напоследок добавлю: работу Кабинета Кабинетов империи обеспечивает не только Кабинет министров, но и довольно внушительных размеров завод, расположенный в глубоких подвалах дворца. На заводе трудятся сотни квалифицированных и высокооплачиваемых винтиков, шпунтиков, шурупчиков, гаечек, отверточек и станков с программным управлением, проверенных на сверхлояльность режиму и подвергнутых психофизиологической обработке. Они круглосуточно обслуживают сложные и тонкие механизмы пространственно-временного функционирования ритмично работающего сердца дворца и всей империи. Не будем им мешать и перейдем к следующей главе. Юрий Алкин Исцеление - И как давно, вы говорите, это началось? - Давно уже. В прошлом в сентябре. - Ааа.. понятно. Одиннадцатое? - Да. Сразу после этого. - Ну что ж, поверьте мне, ваш муж – далеко не единственный. - Слышишь, Дейв? Я же тебе говорила. - Слышу, слышу… Да у меня ничего и нет. - Не слушайте его, он сам не свой. То есть, слушайте, конечно, но не обращайте на это внимание. Он нервничает. Ну вы понимаете, что я имею в виду. - Конечно, я понимаю. Мистер Бейли, расскажите мне, пожалуйста, в чем именно выражается ваше беспокойство. - Да вы поймите, у меня все в порядке. Это она настояла, чтобы мы к вам пришли. Но у меня нет никаких проблем. Сплю иногда не очень хорошо. Так ведь с кем не бывает? А так все отлично. - Ну зачем, зачем ты обманываешь? Доктор Макферсон, прошу вас, не слушайте его. Да он раз в неделю ночью с криком вскакивает. У телевизора сидит каждый вечер и только новости смотрит, только новости. Уговоры не слушает, отмалчивается. Или еще хуже – кричит, что я ничего не понимаю! Нет, Дейв, не мешай. Ты не говоришь, так я скажу. Уходит от телевизора, берет газеты. И снова - ничего кроме новостей. Раньше про кино читал, про живопись, театром интересовался. А теперь – только новости. Выходные все у компьютера просиживает. CNN, ABC, Fox, NBC – ничего другого не читает. И если бы он их нормально читал! Нет, Дейв, я скажу! Он их сначала читает, а потом сидит с каменным лицом и в стенку смотрит. А иногда наоборот – ни газет, ни телевизора, и если я включаю, кричит, чтобы я немедленно убрала эту мерзость. И чем дальше – тем хуже. Недавно страховку увеличил в пять раз. Мне ничего не сказал, я сама счет нашла. Спрашиваю: зачем? А он отвечает: я уже недолго протяну, но, может, детям повезет. Если, говорит, сама страховка не обанкротится. Я совсем перепугалась: почему не протянешь? Что же ты такое говоришь? А он: ты, Синди, почаще газеты читай, не будешь такие вопросы задавать. Теперь платим за эту страховку почти как за дом. Ну что, Дейв, что? Ты хочешь еще раз сказать, что у тебя все отлично? Да? Да? Извините, доктор… - Ничего страшного, не волнуйтесь. Вот салфетки. - Вы простите меня… Не могу я так больше. Это уже так долго тянется… И дети… - Пожалуйста, успокойтесь. Вот так… Вот так… Это далеко не самый тяжелый случай. Жаль, что вы ко мне не пришли полгода назад, но и сейчас не поздно. - Доктор, извините нас. Такая сцена… - Ну что вы, мистер Бейли. Это моя работа. Здесь и не такие сцены бывали. Так давайте все-таки поговорим о том, что вас беспокоит. Спокойно, не торопясь. Хорошо? *** - Видишь? А ты не хотел идти. Я же говорила – это можно лечить. Теперь и диагноз есть и таблетки. - Да. И обеспеченный заработок у этого Макферсона. «Нам обязательно надо продолжать эти сессии…» Хорошо, прости, прости. Я знаю, ты права, он прав.. Только не плачь. Не плачь. - Обещай мне… обещай, что будешь принимать лекарство! И к нему будешь со мной ходить. Или сам, но только ходи. - Хорошо, Синди, буду. Ты только успокойся. Вместе к нему пойдем. - И три дня без газет и телевизора, как он сказал. Ну пожалуйста, я прошу тебя, попробуй. - Ладно. Договорились. Три дня. - Начиная с завтра. - Хорошо, завтра. - Или знаешь что? Давай на эти три дня уедем? Поедем в Хаянис, возьмем мальчиков. А? - Синди, у них школа. - Тогда поедем вдвоем. И я попрошу Сюзан переночевать у нас эти пару ночей. - Я не могу уйти с работы без предупреждения. А у Сюзан хватает своих хлопот. - Ты можешь уйти. Ты сам сто раз говорил как у вас с этим хорошо. Возьмешь больничный. Ты же действительно болен! - Только потому этот эскулап прописал мне какие-то таблетки? И вообще как ты сама не выйдешь на работу? - Не беспокойся, с этим проблем не будет. Я обо всем договорюсь. - Может, все-таки подождем до выходных? - Нет, ну пожалуйста, давай не будем ждать. Если ты так не хочешь ехать на три дня, давай поедем на два. - И в пятницу будем работать? - Да. Поработаем один день, а потом будем отдыхать целые выходные. - Но это же просто глупо. Лучше уехать на день позже и отдыхать четыре дня подряд. - Я понимаю. Но я тебя очень, очень прошу. Для меня. Давай поедем, а? - Ну что мне с тобой делать… Дэвид проснулся с неясным и непривычным чувством легкости. Часы показывали половину седьмого. Синтия еще спала. Ничего себе, отоспался в Хаянисе, с веселым удивлением подумал он. Чтобы сам, без будильника, да еще в таком настроении… Давно уже такого не случалось. Очень давно. В Хаянисе, кстати, было на удивление хорошо. Старый дом, в который они приезжали еще до свадьбы, пустые, но очень опрятные улицы, усыпанные золотистыми листьями. Дом удалось снять мгновенно – кто еще поедет на побережье в середине недели, да еще и осенью. Хозяйка даже не пыталась скрыть приятное изумление и рассыпалась по телефону в любезностях, которые были очень похожи на искрение. Погода стояла превосходная – с кристально чистым, свежим, прохладным воздухом и почти без ветра. О купании в это время, конечно, не было и речи: мыс Код, все-таки, а не Майами. Но зато были неспешные прогулки по берегу, щекочущий запах барбекю на веранде и неожиданно приятный фильм в стареньком полупустом кинотеатре. И воспоминания, воспоминания, воспоминания… Впрочем, чего уж там, одними воспоминаниями дело не ограничилось. И ночь была почти, если не сказать совсем, как в те времена, когда они еще студентами приезжали в этот городок. И не было мертвенных столбцов газет и холодного экрана, с которого одно за другим лились равнодушные сообщения о погибших, угрозах, болезнях и снова о погибших. Память незаметно двинулась назад. А ведь так было не всегда. Сначала как лавина упал тот день. Упал – и в клочья разнес уютное, с детства привычное чувство безопасности. Белая неестественно пустая страница новостного сайта. Вместо широких улыбок актеров и статей о биржевых колебаниях – неуклюжие короткие строчки, говорящие о невозможном. О том, что могло случиться лишь в кино. И ничего больше – ни фотографий, ни солидных, успокаивающих комментариев специалистов. Только сухие и страшные слова. Первая мысль: это шутка! Уродливая, нелепая шутка потерявших совесть хакеров. И потом: надо включить телевизор. Щелчок. И медленно появляющаяся картина на экране. Нет… это правда. Горящие, окутанные угольно-черными тучами клубящегося дыма башни-близнецы. Растерянный голос диктора. Людские лица, на которых смешались все оттенки потрясения. Сообщения, регулярно прибывающие с неотвратимостью гигантского маятника. «Горит Пентагон… идет эвакуация… обрушилась южная башня…» Страх, переплетающийся со злостью… Когда осел пепел, когда немного развеялся накрывший и пропитавший весь огромный город дым, когда в прессе замелькали статьи о масштабах и сроках ответного удара, оказалось, что это только начало. Выяснилось, что даже живя в Бостоне и не зная лично никого из тех, чье имя значилось в многостраничных списках погибших, можно быть отравленным гарью того дня. Эти столь созвучные с тревожным номером полиции и скорой помощи цифры 9/11 были везде. Они пламенели на обложках журналов, мерцали с экрана телевизора, смотрели с плакатов. Они впечатались, въелись намертво в слабо сопротивлявшуюся память и теперь отпечатывали свой след на каждой мысли, каждом деле. Это был даже не страх, а тоскливое щемящее беспокойство, которое неспешно день за днем отравляло жизнь. Но тогда его еще не тянуло читать все новости. Глотать их с запойным увлечением наркомана он стал в октябре, когда роковые цифры немного отступили в газетных заголовках на задний план, и на свободу выбралось и немедленно вошло в обиход скользкое холодное слово – антракс. Вот тогда он и начал следить за каждым сообщением, гадая вместе со всей страной, где же и как проявится следующая порция язвы из далекой Сибири. Посланные невидимой рукой ничем не примечательные конверты несли в себе смертельную болезнь тем, кто их раскрывал, и страх тем, кто читал об этом на следующий день. И даже когда язвенная лихорадка сошла на нет, и стало ясно, что кто стоял за «смертью по почте» надолго останется неразгаданной тайной, привычка читать новости осталась. Они стали его повседневной необходимостью, такой же как сон или еда. С болезненным нетерпением он открывал газету и начинал вчитываться в сухие сообщения. Благо, новостей хватало. Взрывы, чудом предотвращенные катастрофы, падающие и разрываемые на части ракетой пассажирские самолеты, невнятные угрозы, рассуждения о неминуемой войне… И постоянные предупреждения о повышенной опасности для населения. Теперь многое воспринималось по-другому. Например, волна крови, захлестнувшая дальнюю маленькую страну на берегу Средиземного моря, с которой его, казалось бы, не связывало ничего. Как они могут так жить? - думал он о людях ходящих по улицам ТельАвива и Иерусалима. Ведь то, что у нас произошло один раз, у них случается через день. Разница только в масштабе, и то, принимая во внимание размеры стран, не так уж она и велика. Но как они могут так жить? Каждый день ездить на работу, играть с детьми, ходить в гости, делать покупки… А потом читать об очередном месиве из рук и ног, которое появилось там где ты или кто-то из твоих близких побывал только сегодня утром. Неужели, к этому можно привыкнуть? Сам он привык лишь к одному: к ежедневной порции новостей. Он понимал, что это увлечение зашло слишком далеко, несколько раз даже пытался избавиться от этой привычки, но все безрезультатно. Как магнитом его тянуло обратно – к словам, складывающимся в вести об изуродованных телах и судьбах. И самое обидное было то, что он подозревал, даже знал, что же именно так влечет его к этим заголовкам. Но это было настолько стыдно, настолько неловко, что он никогда не решался заглянуть глубже в себя. Потому что там, в глубине таилась облегченно-радостная мысль: «Не Синди… не детей… не меня…» И вот теперь, первый раз чуть ли не за год он провел два дня без новостей, без страхов, без ноющего, словно загноившаяся рана, беспокойства. Он взглянул на Синтию, ласково поправил на ней одеяло, поймал себя на мысли о том, что уже забыл, когда видел ее такой безмятежной, и, стараясь не шуметь, направился в ванную. По дороге на работу он смотрел новыми глазами на город – так как не смотрел уже давно. И утренняя городская суета уже не казалась ему бессмысленным копошением муравейника за секунду до того, как на него наступит нога забавляющегося мальчишки. По улицам тек обычный людской поток, и зеркальные стены небоскребов не покрывались в воображении зияющими черными дырами. Вдоль тротуара медленно и важно вышагивала лошадь, везя за собой бутафорский прогулочный экипаж с сияющей молодой парой. Он почтительно отсалютовал им из машины пока стоял на перекрестке, получил в ответ милую улыбку девушки и подумал что жить, оказывается, не так уж плохо. Весело здороваясь с сослуживцами, Дэвид взял почту, взлетел на второй этаж, кивнул подвернувшемуся шефу («да, да, я уже полностью здоров, эти простуды приходят и уходят за два дня») и радостно вошел в кабинет. Утреннее чувство легкости не уходило, наоборот оно даже усилилось. Впереди был день работы, которую он, пожалуй что, даже любил до прошлого сентября, потом вечер с семьей, Синтия, которая за эти дни помолодела лет на десять… Жизнь постепенно обретала нормальные черты. Он быстро прослушал накопившиеся сообщения, сделал несколько звонков и занялся почтой, которой для двух дней накопилось на удивление много. Так, это мусор, это мусор, это отдам Гленну, пусть он с этими нытиками разбирается, снова мусор, этому надо ответить лично, это… хм, а кто это, собственно говоря, такие? Он повертел в пальцах продолговатый белый конверт с названием какой-то организации и аккуратно написанным адресом. «Давиду Бейли». Посмотрим, посмотрим. Нож скользнул по бумаге, оставляя за собой тонкую линию разреза, и из конверта появился плотный белый лист. Давид с удивлением посмотрел на испачканные снежной пыльцой пальцы, ощутил непривычный сладковатый запах, чихнул и автоматически развернул лист. «Умри!» – коротко гласила косая, твердо выведенная надпись. И тогда за горло его схватил ледяной страх. - Мистер… Бейли… - услышал он сдавленный смутно знакомый голос. В дверях стояла секретарша шефа и расширенными глазами смотрела на его руку с белыми венчиками на растопыренных пальцах. Страшно, дико хлопнуло что-то внизу, и секретаршу стремительно оттеснили неведомо откуда взявшиеся фигуры в ярко-желтых блестящих костюмах с прозрачными масками. Прямо перед Дэвидом возникли внимательные, без тени сочувствия, темные глаза за пластиковым щитком, мелькнула круглая эмблема с хищно переплетающимися, словно змеи полумесяцами, и его, крепко взяв за руки, с неодолимой силой куда-то поволокли. «Куда?! Зачем?! Куда вы меня тащите?!» – надрываясь, кричал он, не получая ответа, во время сумасшедшего бега по лестницам и коридорам. А в мозгу билась, пульсировала короткая мысль: «Антракс… антракс». Его выволокли на безлюдный забетонированный двор, швырнули в открытые двери микроавтобуса, и чей-то голос решительно произнес: «Колоть немедленно». Тут же правый рукав был безжалостно задран, и в вену ему вонзилась длинная блестящая игла. «Нет! Не-е-ет!» – отчаянно крикнул он, рванулся и, чувствуя, как сбоку в лицо уперлось что-то мягкое, открыл глаза. Некоторое время он лежал, глядя в темноту и стараясь унять бешеный стук сердца. В правой руке еще явственно стояло ощущение холодного металла. Он часто, неглубоко дышал, ловя воздух пересохшим ртом, и все пытался отогнать стоящую перед глазами картину. Сон… Сон… Нет, такого еще никогда не было. Настолько реальный, настоящий кошмар… Он посмотрел на часы. Середина ночи. Дэвид медленно сел, нащупал ногами тапки, и все еще не восстановив нормальное дыхание, пошел на кухню. Там он долго с наслаждением мыл лицо ледяной водой, потом откупорил запотевшую бутылку пива и жадными глотками выпил половину. Стало легче. Сердце уже не колотилось так отчаянно. Страх отступил куда-то вглубь, потоптался на месте, потом и вовсе исчез. Остались только цепенящие воспоминания, которые тоже постепенно бледнели и растворялись в памяти. Держа в руке холодную влажную бутылку, он прошел в гостиную и упал в кресло. Так больше нельзя… Так недолго и перейти от добровольного посещения психолога к принудительному лечению. А все эти новости, будь они прокляты. Они сделали из меня такую тряпку, довели то этого дурацкого состояния. Как будто нельзя поменьше говорить обо всех бедах. Неужели с утра до вечера надо твердить о том, что не все в мире хорошо? Как легко было жить триста лет назад, когда не было ни телевизора, ни интернета, ни газет. Или газеты уже были? Неважно… Не было бомб. А сейчас стоит открыть газету – смерть, смерть, смерть… Но, может быть, все дело в том как это воспринимаю я. Вот, например, газета. Я могу ее открыть, спокойно прочитать о том, что произошло за тысячу миль от Бостона, немного посочувствовать неизвестным мне людям, мгновенно забыть об этом и перейти к разделу искусства. Конечно, я могу так сделать… В этом нет ничего сложного. Он протянул руку, раскрыл огромный шелестящий лист и сразу же увидел эти кричащие строчки. «Вероятность новых терактов невероятно высока». «Федеральные силы безопасности приведены в состояние повышенной боевой готовности». «Выступая сегодня на пресс-конференции, министр обороны не отрицал возможности террористических ударов по стратегически важным объектам в течение следующих суток». «Представитель ФБР подтвердил, что террористические ячейки на территории США активизировались». И сразу же мир вокруг изменился. Темнота, загнанная до этого в углы комнаты мягким светом торшера, вдруг надвинулась со всех сторон. Тревожно замерцали холодные огни за окном. Пиво, которое минуту назад казалось прохладным и освежающим вдруг отозвалось во рту горьким противным привкусом. Дэвид вскочил, озираясь по сторонам, и остановился, пораженный. Воздух над крышей вспорол резкий стрекочущий звук. По двору, слабо освещенному желтоватым светом фонаря, метались черные тени. Пригибаясь, быстрыми стремительными рывками они растекались по дорожкам и газонам, исчезая в темных закоулках. А в центре двора медленно, покачиваясь из стороны в сторону, и едва не задевая винтом голые деревья, опускался армейский вертолет, заляпанный темно-зелеными пятнами. Из него выпрыгивали все новые и новые тени и вслед за предыдущими разбегались в разные стороны. «Всем оставаться на местах!» – проревел нечеловеческий голос. «Идет операция по захвату террористов. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не оказывайте сопротивления!». Тут же раздались глухие хлопки выстрелов, и стекло покрылось отверстиями с расползающимися от них паутинками трещин. «Все» – отрешенно подумал Дэвид, чувствуя страшные ломающие все внутри толчки в грудь. Он успел увидеть несущийся навстречу серый ковер и провалился в пустоту. - Дейв! Дейв! Что случилось? Опять эти кошмары? Дейв! Милый… Перед глазами висело бледное искаженное тревогой лицо Синтии. - Тебе опять что-то снилось? Он ласково отстранил ее и, недоверчиво оглядываясь, сел. - Снилась ерунда всякая. - Что-то страшное? - Так, глупости. Сначала одно, потом другое… думал, что проснулся – оказалось, сплю. Я сильно кричал? - Нет, я проснулась, когда ты стонал. Не очень громко, но испуганно. - Ничего, ничего, - сказал он, осторожно щупая одеяло. – Все прошло. Который час? - Пол третьего. «Почти как там», - подумал он. - Я немного встану, похожу. - Давай я с тобой. - Нет, не надо. Спи. Я скоро приду. - Я волнуюсь. - Все в порядке, Синди. Серьезно, все в порядке. Засыпай. - Я тебя подожду. - Не нужно. Засыпай. На кухне все было так же. Поблескивали в белом свете сковородки, тихо гудел холодильник. И вода была такой же ледяной, и даже вкус пива совсем не изменился. А вот засевшего в каждой клеточке страха не было. Только лоб покрыла неуместная при такой температуре испарина. Дэвид прошел в комнату, осторожно подошел к окну и выглянул в пустой двор. Никого. Лишь ветви деревьев шевелятся на ночном ветру, да изредка взлетают с земли опавшие листья. Он закрыл глаза, вспоминая покачивающуюся тушу вертолета и режущую боль в груди. Все было таким настоящим. Почти как сейчас. Совсем как сейчас… Он приблизился к креслу. Медленно опустился в него, чувствуя под собой податливое сопротивление подушки – совсем как пять минут назад. Газета на журнальном столике выглядела точно так же. Он осторожно потянулся к ней, вслушиваясь в тишину, но вдруг остановился на полпути. Из-под газеты выглядывал угол белого конверта с подозрительно знакомыми буквами. Дэвид замер, глубоко втягивая в себя воздух. Это не сон.. Это не может быть очередным сном… Это слишком реально. Так же реально как пустые улицы Хаяниса, как ночь в старом доме, как архаичный поддельный экипаж, встреченный сегодня утром по дороге на работу. А конверт… конверт просто лежит тут с вечера. Я забрал его вместе со всей почтой, вместе с вот этой газетой, принес сюда, положил, не читая на стол, зашел к мальчикам, проводил Сюзан и пошел спать. А потом он мне приснился. Все просто и ясно. И газета мне приснилась, только уже в другом сне. А сейчас я не сплю. Я сижу у себя в гостиной, сейчас пол третьего ночи, мне завтра идти на работу, а я сижу и из-за двух паршивых снов боюсь взять кусок бумаги. Да пошло оно все! Он рывком подтянул к себе газету и резким движением распахнул ее, да так что испещренный буквами лист почти разорвался пополам. Дэвид не обратил на это внимания. Закусив губу, он смотрел на кричащие, бьющие по глазам заголовки. Это было еще страшнее, чем в прошлый раз. Таинственные из ниоткуда разящие выстрелы, смерти, невинные жертвы, город, пораженный ужасом, ничего не знающие федеральные органы. Откуда-то издалека донесся голос Синтии: «Дейв, ты в порядке?». И снова все было таким ощутимым, таким настоящим. Он вцепился изо всех сил в подлокотники кресла. Нет, это какое-то безумие. Когда же это закончится?! Проснуться! Проснуться! Просну-у-уться… Дэвид открыл глаза. Спальню заливал теплый утренний свет. Он повернул голову направо. Синтии рядом не было. Только одиноко лежала смятая подушка, да с кухни доносилось позвякивание. Он сел на постели, чувствуя ломоту во всем теле, как после тяжелой работы. Глаза слезились, во рту стоял отвратительный привкус. «Дважды выпитое пиво», - мысленно усмехнулся он. И только тут понял, что в отличие от прошлого пробуждения не гадает, спит он сейчас или нет. Все вокруг было настоящим, солидным, пропитанным той знакомой каждому осязаемостью, которая однозначно позволяет отличить реальность от даже самого правдоподобного сна. Он встал и пошел на кухню, по дороге отмечая десятки мельчайших деталей, которых не было в ночных прогулках по тому же маршруту. - Как ты? – спросил он, целуя Синтию в щеку. - Лучше скажи, как ты, - отозвалась она, мешая кофе. – Ты всю ночь стонал. Страх холодной струйкой пробежал по спине. - Стонал? А я не просыпался? - Нет. Только я, - с улыбкой сказала Синтия. - А на кухню я в пол третьего не уходил? - В пол третьего? Я же говорю: ты спал всю ночь. Только стонал и крутился. Наверное, тебе приснилось. - Конечно, приснилось, - с облегчением ответил он. – Ладно, я пошел. Извини, что я тебе ночью мешал. - Не забудь, тебе перед работой надо заскочить за бумагами на перефинансирование. - Где это? - Ты забыл? Два квартала от твоего здания. - Аа.. да, теперь помню. Машину удалось припарковать не сразу. Мест возле здания не было, становиться на платную стоянку из-за десятиминутного визита не хотелось, и пришлось поколесить по соседним улицам. Наконец кое-как втиснув машину между новеньким сияющим Фордом и помятой Тойотой, Дэвид вышел на мостовую и стал оглядываться по сторонам, соображая в какую сторону ему надо идти. Определив направление, он подивился своей несообразительности (надо же было так долго крутиться для того, чтобы приехать почти на то же место) и шагнул вперед. Пронзительный раздирающий душу трезвон наполнил воздух. Дэвид краем глаза заметил несущийся на него трамвай, метнулся назад, вперед, и едва не упав, отскочил от рельс. Мимо пролетела грохочущая зеленая стена, мелькнула яркая реклама радиостанции, и он остался один наедине с колотящимся сердцем и удивленными взглядами прохожих. Кое-как переставляя ноги, он добрел до тротуара и присел на ступень перед входом. Тень реальной смерти, нависшая над ним, не шла ни в какое сравнение с ужасами ночных приключений. Прижимая руку к груди, он перевел дух. Жив. Жив. Буду жить. Не сейчас, не в этот раз… Еще поживу. И тут ему вдруг с невероятной отчетливостью представилась его жизнь за прошедший год. Эти двенадцать месяцев наполненные тоскливым страхом, беспокойством, ожиданием беды. Что было хорошего в этом году? Разве что короткие, мгновенно гаснущие вспышки облечения «не я, не меня». И все! Ничего больше. Он жил, не зная радости, насквозь пропитанный своими опасениями, вечно подавленный, мрачный, ожидающий лишь подвоха от окружающего мира. И это все, что ожидает его впереди? День за днем, год за годом будет тянуться это тоскливое постылое существование. И он и дальше будет, хмуро ссутулившись, смотреть телевизор, а потом, угрюмо сопя, приниматься за газеты вместо того, чтобы пойти куда-то с сыновьями или почитать хорошую интересную книгу или поговорить с Синтией или, черт возьми, схватить ее в охапку и, преодолевая дурашливое сопротивление, отнести ее в спальню? А по ночам его будут душить перетекающие один в другой кошмары. И так пройдет вся жизнь, которую у него только что едва не забрали. Так стоило ли так радоваться такой развязке? Кому она нужна – такая жизнь. Кому она нужна? Он медленно достал мобильный телефон, чему-то еле заметно улыбнулся, пролистал список телефонов, ища полузабытое название, и набрал номер. Через пять минут, закончив разговор, он позвонил по другому, на этот раз хорошо знакомому номеру. - Синди, - сказал он, задумчиво следя за проезжающими мимо машинами, - сегодня нигде не задерживайся. В семь часов мы идем на мюзикл… Да, я говорю серьезно. Твой любимый «Чикаго», мы его не видели уже сто лет. И я хочу, чтобы ты была очень красивая. Что? Нет, об этом ты больше не беспокойся. Теперь я по-настоящему здоров. А таблетки можешь выкинуть. Он опустил телефон в карман, весело прищелкнул пальцами и направился к зданию. *** - Мам, ну что сказал врач? - А что он может сказать? То же что всегда: состояние стабильное, здоровью угрозы нет, сердце работает хорошо. И никаких оснований предполагать, когда он выйдет из комы. И выйдет ли вообще… Четвертый год уже никаких оснований… Четвертый год… - Мам, перестань. Ну что ты… Ну не плачь…Не плачь… - Ничего, ничего… это сейчас пройдет. Я все никак не могу себе простить. - Но ты же ни в чем не виновата. Что ты могла сделать? Папа сам уснул. - Не знаю. Что-то могла. Могла его не отпускать, могла пойти с ним, когда он вскочил посреди ночи. Какая разница, что он сказал с ним не ходить? Нечего было слушать. Могла заподозрить что-нибудь, когда услышала что он газету рвет, а не вести себя, как дура. - Но ты же не знала, что такое случиться. - Должна была знать. Вообще могла забрать эту мерзкую газету про эти убийства в Вашингтоне, про снайперов этих жутких. Мы ведь когда уезжали в Хаянис… мы ведь не знали об этом ничего. Они именно за эти два дня начали стрелять. Ты не помнишь, конечно, - двое сумасшедших, они расстреливали людей по всем Вашингтону. Их никак не могли поймать, никто вообще не понимал что происходит… Я еще подумала, когда вечером прочла: надо забрать, пусть он еще день-другой побудет без новостей. Зачем ему об этом читать? А потом забыла, Сюзан уходила, заговорились... Забыла… - Мам, ты ни в чем не виновата. Понимаешь? - Виновата. Это я ее наверху оставила. Я уверена, что он это все ночью и увидел – там на всю страницу было написано. А он был тогда такой впечатлительный, и только-только расслабился в этой поездке... Ну и что с того, что он спал, когда я пришла? Он за десять минут до этого с таким криком проснулся… можно было догадаться, что что-то не так. Ах, он не выспался, ах, пусть поспит хотя бы в кресле… Пол третьего ночи, ему уже скоро вставать… Может, если б я его тогда стала будить, он бы еще проснулся. - Не плачь… Не плачь… Может, папа еще проснется. - Может быть, может быть… Только помнишь, что врач тогда сказал? «Миссис Бейли, судя по улыбке вашего мужа, где бы он сейчас ни находился, ему там хорошо…» Алексей Гридин Предельный вопрос бытия Он выиграл. Нет, не так. Они выбрали его. И снова не верно. Он выиграл, потому что они выбрали именно его – так будет гораздо точнее. Я на самом деле достоин? Или мне просто повезло? По сути, какая разница? Сейчас важнее результат. Талбот представил себе гигантскую рулетку, огромное колесо с ободом, испещренным множеством имен. Блестящий металлический шарик с бешеной скоростью мчится по ободу, даруя надежду одним и навеки разочаровывая других, всего за мгновенье разделяя людей на чистых и нечистых, агнцев и козлищ, счастливчиков и проигравших. И вот этот вершитель судеб катится все медленнее, одним номерам с ним уже вовеки не встретиться, у других остается шанс… Он замедляется… Еще и еще… Лениво, вальяжно перекатывается чуть дальше и, наконец, замирает на ячейке с его именем. Старик неожиданно вздрогнул. Только сейчас, несколько минут спустя после разговора с Фредериком Хоббом, руководителем одного из самых претенциозных научных проектов человечества, он, наконец, осознал, что за выигрыш ему выпал. То, о чем раньше смели лишь робко мечтать, наконец-то реализовано Хоббом и сотрудниками его лаборатории. Настоящий билет в будущее. Путевка в жизнь вечную. Гарантированное бессмертие. Он, известный писатель, лауреат премий, по праву гордящийся заслугами, добился наивысшего признания, какого только мог достичь человек его профессии: компетентная комиссия признала его достойным открыть список тех, кому будет дарована возможность не умирать. Хобб советовал ему не торопиться принимать решение, сказал, что они еще поговорят на эту тему позже. Но какие у Талбота могут быть сомнения? Его ответ очевиден. Он стар? Разработанные учеными процедуры омолодят его тело. Критики говорят, что он исписался? Что ж, бессмертие позволит ему обрести новое дыхание. Показать, на что еще способен Фредерик Талбот, если ему дать новый шанс. Конечно, справедливости ради, он будет не первым бессмертным. Были еще люди, согласившиеся стать подопытными кроликами в казавшихся такими сомнительными опытах Хобба. Тем, кто дошел до конца, повезло. Но, если Талбот сумеет правильно разыграть сданные ему карты, то этих везунчиков будут помнить лишь историки науки. Именно он останется в памяти поколений первым, чье право на бессмертие было признано, а не обретено игрой случая. Первый? Признайся, старина, это слово звучит неплохо. Да, однозначно неплохо. Вот только принимавшие решение эксперты не знают главного. Они полагают, что Талбот заслужил это право книгами, которые написал, которые расходились огромными тиражами и зачитывались до дыр. И надеются, наверное, что теперь, став бессмертным, он будет писать дальше. Еще и еще. Все новые тома. Новые герои, несущие читателю его, Талбота, мысли. Очаровывая и заставляя спорить, восхищая и ужасая. Но так не будет. За последние три года он не написал ни строчки. И не потому, что стар, и критики, по правде говоря, давно уже готовятся его хоронить. Пока критики роют могилу и планируют насыпать могильный холмик, врачи все еще обещали писателю несколько лет жизни. Так что дело не в старости. Старик грустно усмехнулся. Его тихий смех напоминал хриплое воронье карканье. Дело в импотенции. Творческой импотенции, которая так же страшна, как и обычная. Что может быть хуже, чем знать, что время, когда ты на что-то был способен, прошло? Что раньше ты мог все, а теперь ничего не выходит, хоть головой о стенку бейся? Писатель, выигравший бессмертие, вдруг осознал, что до сих пор держит трубку в руке, так и не положив ее после разговора с Хоббом. А ведь тот сказал, что информация уже пошла по новостным лентам. Точно! Талбот не положил трубку, поэтому до сих пор никто еще не поздравил его, не сказал: старина, я так рад за тебя, не буркнул: повезло же, черт раздери. Пусть сейчас он не может разродиться новой книгой, да даже одним паршивым рассказиком! Но прошлых-то заслуг с лихвой должно хватать. Стоило Талботу вернуть трубку на место, как телефон разразился назойливой трелью. Неужели началось? - Я вас слушаю. А, это ты, Ленни? Ну что ж, привет-привет Ленни, младший брат, сухо усмехнулся где-то в своей квартире на другом краю Земли, а хитроумные устройства постарались донести этот смешок до Талбота в целости и сохранности. - Ну что ж, старший. Поздравляю. Что теперь будешь делать? - Ну…, - растерялся Талбот. – Не знаю пока. Там ведь еще какие-то процедуры, меня еще врачи замучают. Ленни вновь сухо усмехнулся. - Смотри, Фред, не дай им уморить себя раньше времени. - Ленни… У тебя такой усталый голос. Что-то случилось? – осторожно спросил Талбот. - Что? Да нет, не бери в голову. Талбот знал, что Ленни, даже говоря по телефону, увлеченно жестикулирует, как будто его собеседник может увидеть, как он размахивает руками. Вот и сейчас писатель представил, как, сказав «не бери в голову», младший брат неосознанно махнул свободной рукой. - Нет, - настаивал Талбот, - а все-таки? - Просто, старший, не знаю, как теперь с тобой разговаривать. Талбот растерялся. - Ленни, ты о чем это? - Я? Да о твоем грядущем бессмертии. Ты сам представь: мы все уже немолоды, и вдруг один из нас получает такой шанс. Ты переживешь нас и продолжишь жить, когда все мы отправимся на тот свет. И этого никак не изменить: Хобб и компания отказываются продавать бессмертие за деньги. Только тем, кого выберет эта их…, - Лени нарочито закашлялся, и Талбот понял, что брат хотел ввернуть крепкое словечко, да вовремя спохватился, вспомнив, что Фредерик этого не любит, - эта их комиссия. - Так ты… Ты мне завидуешь? – удивленно спросил старик телефонную трубку, говорившую с ним голосом родного брата. - Завидую? – переспросила трубка. – Наверное, нет. Пока что – нет. Завидовать я начну тогда, когда все от слов перейдет к делам. Когда ты отправишься в лабораторию Хобба на эти твои процедуры. Когда тебя разберут на маленькие кирпичики и сложат заново, сделав другим человеком: молодым и здоровым. А мы останемся все теми же дряхлыми развалинами, Фредди, и начнем, один за одним, уходить. - Но… - растерялся старик. – Ленни, что я могу сделать? Ты сам сказал: Хобб не продает бессмертия. Ты знаешь, денег у меня хватает, я бы не стал жадничать, но речь об этом даже не идет. - Вот именно, - Ленни снова принялся кашлять. – Извини. Зря я позвонил, старший. Сначала вообще хотел тебе гадостей наговорить. Все сидел с трубкой в руке и думал: почему? Ну почему тебе повезло, а я и многие другие должны помереть? И вроде бы мозгами-то сознаю: ты не сам это придумал, какие-то эксперты все решили. А злость все равно давит, Фред. Знал бы ты, как обидно. А обиднее всего тому, кто оказался вторым. Представляешь, старший? На один шаг от мечты. На один крохотный шажок – и все, и ничего не поделаешь. - Надеюсь, ему в следующий раз повезет. Ленни, что мне, по-твоему, делать? Отказываться от предложения Хобба? Это как-то глупо, тебе не кажется? - Нет-нет, - торопливо заговорил Ленни, и Талбот вновь представил, как тот беспокойно шевелит пальцами, - конечно же, не отказываться. Это я глупости говорю, Фред, не надо меня слушать. Извини еще раз, не хотел я, чтобы этот разговор… так… Прости. Надеюсь, ты еще какой-нибудь шедевр напишешь… Щелчок. Трубка замолчала. Перестала притворяться, что она – Ленни Талбот, семидесяти шести лет от роду, когда-то преуспевающий коммерсант, а нынче – доживающий свои годы рантье. Талбота расстроил разговор. Ему хотелось услышать первыми совсем другие слова. Да. Он ожидал, что будут завистники, будут те, кто скажет: на самом деле этот человек не заслужил бессмертия. Но то, что первым окажется родной брат? Нет, на такое он точно не рассчитывал. Да и последние его слова… Конечно, Ленни не знал о проблемах, которые испытывал его брат. Но почему-то в слове «шедевр», в которое Ленни, конечно же, не вкладывал ни толики уничижительного смысла, Талбот углядел какое-то тщательно замаскированное издевательство. Мол, остаться тебе творческим импотентом на веки вечные. До чего отвратительны мои мысли. Ведь брат, на самом деле, совершенно не в курсе того, что я не могу больше писать книги. Он тут ни при чем. Вновь зазвонил телефон. Талбот поднес трубку к уху. - Я вас слушаю. Да, это я. Что? Интервью? Нет, не будет никаких интервью. Что значит – почему? Потому что я не хочу давать интервью. Нет, я не хочу давать интервью не только вам, но и любым другим журналистам. Все-все, разговор закончен. Исключено. Боже, ну почему я должен повторять дважды? Да-да, и никакой гонорар вам не поможет. До свиданья. До разговора с Ленни он готов был с радостью отвечать на вопросы журналистов, красоваться на экранах, демонстрировать публике свою персону в компьютерных сетях. Но… Что-то изменилось. Пропала уверенность в своем праве быть бессмертным? От этих журналистов никуда не скрыться. Знаете, что общего у них с тараканами? Правильно, из всех щелей лезут. От этой мысли Талботу неожиданно стало смешно. Он представил себе крохотного журналиста: одетый во все черное, по-тараканьему усатый, он сноровисто выбирался на свет из щели под плинтусом. Это, несомненно, стоит запомнить на будущее. Благо, теперь у него будущего – хоть отбавляй. Вот только с другими не поделишься. Странно: ему обещают бесконечно длинную жизнь. Но эту бесконечность, почему-то, не нарежешь ломтями и не раздашь всем страждущим. А страждущих-то, похоже, немало. Телефон требовательно напомнил о своем существовании. Старик задумчиво посмотрел на него, приподнял трубку и положил нарочито криво, так, чтобы любому звонившему ответом был лишь частый писк сигнала «занято». Наступило время обеда. Миссис Вернон ловко расставила по столу тарелки, чашку с кофе, блюдца с печеньем. - Спасибо, миссис Вернон, - сказал Талбот, как привык говорить из года в год вот уже два десятка лет. Обычно после этих слов экономка говорила: «Приятного аппетита, мистер Талбот» и неторопливо удалялась. Но сегодня что-то изменилось. Женщина осталась на месте. Руки – небывалое дело – она спрятала в карманы белого фартука. Что случилось? Такое чувство, словно она хочет о чем-то попросить, но никак не решается. - Мистер Талбот… Он удивился еще больше. Потому что голос женщины дрожал, в нем звенела едва различимая слеза. - Что вам, дорогая? – участливо спросил он. - Я не знаю… Мне так стыдно… Но иначе никак, поймите, больше нет вариантов. Я бы никогда, если бы вот так не вышло… Кулаки ее смяли подкладку фартука. Они едва просвечивали сквозь белую ткань, и Талботу показалось на миг, что это не кулаки – два пухлых хомяка копошатся в карманах. Почему мне в голову лезет всякая гадость? - Да вы присядьте, дорогая, право слово. Он тяжело поднялся из-за стола, приобнял миссис Вернон и помог ей опуститься в кресло. - А теперь еще раз и самого начала. Я же не кусаюсь. Кому как не вам знать, что у меня своих зубов уже давно и в помине не осталось. Талбот улыбнулся, надеясь, что ласковый голос и дружелюбная улыбка помогут экономке прийти в себя. - Все дело в том, мистер Талбот, что у моего внука, ну, у Чарли – помните, я рассказывала про него? – рак. - Боже… И что врачи? - А что врачи? – миссис Вернон всхлипнула. – Говорят – неизлечимо. С помощью всяких лекарств можно еще время потянуть, да результат один: без лекарств – через полгода, с лекарствами – через год. - Я не знал… Миссис Вернон, но, может быть, вам как-то помочь? Может быть, деньги… - Нет-нет, мистер Талбот, деньги не помогут. Нам это перво-наперво сказали: мол, не суетитесь, лечения никакими деньгами не купишь. В фарфоровой супнице остывал суп. Но писателю было уже не до обеда. - Поэтому я подумала, - сказала миссис Вернон и снова всхлипнула, - может быть, вы могли бы как-нибудь… - Что? - Ну… Отказаться в пользу Чарли… - Отказаться?! Милая моя… Миссис Вернон… Вы не понимаете… - Да, конечно, я зря этот разговор затеяла, - экономка выхватила из кармана кружевной платок и, промокая на ходу слезы, вывернулась из-под руки писателя и бросилась прочь из столовой. Старик попытался было схватить ее за плечо, но его немощному телу не удалось среагировать достаточно быстро. Пока он пытался найти какие-нибудь слова, которые могли бы остановить миссис Вернон, экономка, напоследок пискнув сквозь слезы: «Простите, мистер Талбот!», поспешила по лестнице вниз, к выходу из дома. Старческий аппетит угас сам собой. Талбот, пустым взглядом посмотрев на аппетитно выглядевшую еду, медленно-медленно, шаркая ногами, пошел в кабинет и снова включил телефон. Тотчас же раздался звонок. Писатель взял трубку. - Да, слушаю. В ответ – молчание. И загадочный потусторонний шорох, вечно сочащийся из телефонного провода наружу через дырчатый раструб. - Это Талбот, - терпеливо повторил он. – Я вас слушаю, говорите. Неведомый собеседник вдруг тонко всхлипнул. - Мистер Талбот, - он говорил через силу, словно заставляя себя выдавливать слова по одному. – Знаете… Я попросить хочу… Я тоже хочу… Ну, это… Бессмертным стать… Будущий бессмертный некоторое время слушал, а затем аккуратно и неторопливо положил трубку и точно так же неторопливо и аккуратно разлучил вилку телефонного аппарата с розеткой. Интересно, а что бы сказала Элизабет, если бы была жива? Любопытно, подумал Талбот, может быть не последней причиной, побудившей экспертов избрать меня, было именно то, что жена моя давно умерла, а детей у нас не было. И незаконнорожденных мне, вроде бы, наплодить не случилось. Хорошо, что ему не придется делать этого бесчеловечного выбора: уходить в бессмертие в то время, когда его жена будет доживать последние дни. Нет уж, рассердился сам на себя старик, будь Элизабет с ним до сих пор, не было бы никакого выбора. Они клялись быть вместе в горести или радости, так что и путь они должны были бы делить на двоих: или вдвоем в могилу, или вдвоем в бессмертие. Хотя… Не предает ли он памяти жены? Она умерла, а он будет жить и никогда не присоединится к ней в загробной жизни. Если таковая есть, конечно. Когда-то Талбот, так и не удосужившийся за все прожитые годы, креститься, сказал крещеной еще в детстве Элизабет, что боится того, что бог, не помешавший им сочетаться браком на земле, после смерти разлучит их. Ей достанется место в раю, а он отправится в ад. Элизабет не ответила ничего, только улыбнулась мудрой и чуть усталой улыбкой. Как бы то ни было, единственными детьми, которые станут сопровождать его на пути сквозь уготованные ему столетия, будут его книги. Ему не удалось достичь того бессмертия, которое доступно любому: он не смог продлить себя в своих потомках. Ими стали его книги. Когда выяснилось, что они с Элизабет не могут иметь детей, для Талбота писательство приобрело особый, непонятный многим прочим, смысл. Он увидел в романах, повестях, рассказах настоящих своих сыновей и дочерей, и хотя бы так мог наслаждаться счастьем, которого была лишена Элизабет. Следующим, кто заговорил с ним о бессмертии, стал священник. Когда пришел священник, Талбот ничуть не удивился. Скорее, он был бы очень изумлен, если бы слуга Господа не явился к нему. Но теперь все было в порядке. - Меня зовут Вильям Картер, - пастырь протянул руку. – Я бы хотел поговорить с вами. Талбот машинально пожал ладонь священника, мимоходом почувствовав, что пальцы у того толстые и мелко-мелко подрагивают. Почему? Он настолько взволнован предстоящим разговором? Или просто боится меня? - Я представляю … - тем временем проговорил Картер. Талбот кивнул и пригласил священника в кабинет, где предложил ему кресло. Тот сел, поблагодарив. - О чем вы хотели бы поговорить со мной, мистер Картер? – осведомился Талбот, присаживаясь в кресло напротив. – Вам чай? Кофе? Может быть, бренди? Признаться, я не уверен, что могу чем-либо помочь вам. Не назвал бы себя верующим человеком, если вы понимаете, о чем я. Тонкая улыбка перечеркнула лицо Картера. - Вряд ли вы можете чем-либо помочь мне, - сказал он. – Наверное, все обстоит с точностью до наоборот: я здесь, чтобы помочь вам. - Мне? Чем же, интересно знать? - Я пришел к вам, - голос священника неожиданно стал сильным, насыщенным интонациями, торжественным (наверное, именно так он читал по воскресеньям проповеди своей пастве), - просить отказаться от сделанного вам предложения. Откажитесь, мистер Талбот, умоляю вас! Будьте благоразумны, не совершите ошибки, к которой вас толкают. Да, признаю: эти люди делают все из лучших побуждений. Но не зря ведь говорят, что благими побуждениями вымощена дорога в ад. Не потеряйте настоящий шанс на жизнь вечную, не променяйте бессмертие грешного тела на вечное блаженство бессмертной души. Вы что, все сговорились?! - Да вы в своем ли уме? – ахнул Талбот. – Почему вы взялись указывать, что мне делать?! Писателя едва не затрясло от негодования. Он может выслушивать советы от близких людей. Он может понять, почему миссис Вернон обратилась к нему. Да, пусть ее просьба была откровенным абсурдом, и она сама это прекрасно понимала. Младший брат имел право завидовать ему. Потому что… Потому что… Да черт возьми, потому что он был младшим братом. Но этот тип… - Мистер Талбот, - с мольбой в голосе проговорил священник, - все равно ваше бессмертие – не настоящее. Его пальцы, короткие, жирные, сплелись в клубок, напомнив неожиданно Талботу перепутавшихся между собой червей. Писателю вдруг стало противно. С чего этот тип с сиплым голосом взялся его поучать? Церковь, которую он представляет, обещает всем желающим жизнь вечную – но до сих пор ни один из претендентов не вернулся назад. А что бы стало лучшим аргументом в пользу жизни после смерти, если бы бог решился вдруг разом посрамить всех атеистов? - Истинное бессмертие, - продолжал тем временем Картер, - лишь на небесах. Только душа может жить вечно. И только в том случае, если она это заслужила. Благими поступками, господин Талбот, благими поступками и праведной жизнью, а не чем-нибудь еще. Мои книги – не «что-нибудь еще». Мои книги – это мои дети, мистер Картер. Но вам никогда этого не понять. Талбот нахмурился. - Уходите. Не сказал. Велел. - Что? – переспросил священник. Видимо, подумал, что ослышался. - Уходите, - повторил Талбот. – Пойдите прочь. Могу даже сказать «убирайтесь», если вы хотите услышать что-нибудь в этом роде. - Но, может быть, Вы еще задумаетесь… - Дверь у вас за спиной, господин Картер. Если он скажет еще хоть слово, клянусь, я наброшусь на него с кулаками. Священник пятился к двери, продолжая бормотать что-то невнятное, но Талбот уже не слушал его. Он устало опустился в кресло и отвернулся, не желая больше видеть этого человека. Когда неожиданный гость ушел, писатель набрал номер ближайшего полицейского участка. Блюстители порядка уже были в курсе и восприняли его просьбу как само собой разумеющееся. Вскоре дом был окружен живой цепью, и полицейские кордоны пропускали кого-либо к дому Талбота лишь после согласия хозяина. Несмотря на то, что шеф полиции окружил дом своими людьми, еще один непрошеный гость добрался до Талбота. Было уже поздно, и писатель размышлял, не лечь ли ему спать. Он шел по дому, обдумывая эту идею, когда вдруг услышал хлопок балконной двери из одной из гостевых комнат. Первое, что пришло в голову Талботу: это кто-то из полицейских обходит дом, проверяя, не проник ли кто внутрь. Следующая мысль отличалась от предыдущей: как же он сам смог подняться на второй этаж таким образом, что Талбот его не заметил. Старик шагнул к двери, взялся за ручку, но открывать помедлил. В комнате явно кто-то был. Этот кто-то крался, не включая света, от окна (через которое, несомненно, он в комнату и попал) к выходу. Вот он чертыхнулся, наткнувшись в темноте на кресло, и тотчас же вновь еле слышно выругался, зацепившись за кровать. Больше не имеет смысла делать вид, что я его не слышу. Чего мне бояться? Вряд ли этот человек – убийца, меня, вроде, еще незачем убивать. А во всех прочих случаях я всегда смогу позвать на помощь. По крайней мере, мне кажется, что я смогу. - Не трудитесь прятаться, – сухо сказал Талбот, распахивая дверь. – Я знаю, что вы здесь. Войдя в комнату, писатель щелкнул выключателем. Перед ним стоял высокий молодой человек в зеленом спортивном костюме. С узкого бледного лица смотрели черные глаза, под глазами набрякли мешки, свидетельствовавшие о том, что незваный визитер давно уже не высыпается. - Чем обязан? Гость шагнул вперед, протягивая руку. Талбот машинально пожал ее. Ладонь пробравшегося через окно человека оказалась ледяной. - Нам нужно поговорить, - сказал человек в зеленом костюме. - Вы неоригинальны. Я надеялся уже, что вы, коли проникли ко мне столь необычным путем, удивите меня каким-нибудь необычным началом разговора. Это очко не в вашу пользу. Так что говорите быстрее – и выметайтесь. Лучше так же, как пришли. Через окно. И учтите, я в любой момент могу вызвать полицию. Надеюсь, речь пойдет не о больных родственниках, которых требуется спасти, и не о судьбе моей бессмертной души? - Все сказали, мистер Талбот? – визитер словно насмехался над ним. – Позвольте, я сяду. Устал, знаете ли, пока до вас добрался. Да и вы присаживайтесь, не стойте. В ногах, как говорится, правды нет. Возмущенный нахальством незнакомца, Талбот все же присел напротив него. - Меня зовут Престон, мистер Талбот. - Очень приятно. И чем же вы занимаетесь, мистер Престон? - Я журналист. Не спешите вспоминать мое имя. Я работаю для изданий, которые вы вряд ли читаете. Впрочем, даже там я зачастую публикуюсь под псевдонимами. Репутация, знаете ли… - Престон пожал узкими костлявыми плечами. - И о чем же мы будем говорить? - Ну, однозначно не о больных родственниках. Последний мой родственник, насколько мне известно, почил в бозе пару лет назад. И я не собираюсь спасать вашу душу, мистер Талбот. Я вообще в душу не верю. Я, скорее, хочу спасти ваше тело. - Вот как? Ни больше, ни меньше? – Талбот саркастически улыбнулся. – И как же вы собираетесь сделать это, мистер Талбот? Надеюсь, все же, ничего банального: никакого выхватывания оружия и сакраментальных вопросов типа: отдай денег и спасешь свою жизнь? - Ну что вы, мистер Талбот, - теперь саркастическая улыбка заплясала на губах Престона. – Ради этого мне не стоило бы в столь поздний час преодолевать полицейский кордон вокруг вашего дома. Я бы нашел жертву попроще. Дело совсем в другом. Видите ли, я занимался журналистским расследованием. Одна газетка – надеюсь, вы простите мне то, что название ее не прозвучит в этой комнате – заказала мне статью. Фактически, картбланш. Что-нибудь эдакое на тему современного состояния науки. Престон неопределенно покрутил в воздухе пальцами. - Ну, знаете, никаких жареных фактов и откровенного бреда, однако все должно быть интересно. Захватывающе, я бы даже сказал. И, что немаловажно, понятно среднему читателю. - Это очень любопытно, мистер Престон. Но я-то тут причем. - Терпение, терпение, мистер Талбот, - еще одна быстрая улыбка скользнула по губам журналиста. – Для своей статьи я выбрал тогда мало кому известные исследования Хобба и его лаборатории. Они ведь не афишировали своих разработок, не спешили подавать заявление на нобелевку, обосновывали гранты совсем другими потребностями, чем на самом деле. Но я, копнув чуть глубже, понял, что материала здесь – не на одну статью. Он порывисто подался вперед, в его глазах вспыхнул огонек. Талбот хорошо знал, что такой огонек загорается тогда, когда человек говорит о чем-то, что его фанатично увлекает. Сам по себе он ничего не значит, он одинаково может освещать лицо гения или безумца. - Хобб лжет, - резко выдохнул Престон. - Да? – вежливо удивился Талбот, понимая, что именно такой реакции от него ждут. – В чем же? - Во всем, мистер Талбот, во всем. Нет никакого бессмертия. - А что же есть? - Есть величайшая афера в истории человечества. И вы рискуете стать первой жертвой. Хотя… Почему первой? Первыми жертвами были те несчастные, на ком Хобб и компания ставили свои эксперименты. Которым якобы повезло получить бессмертие на халяву. Которые вроде как рискнули всем – и выиграли самый крупный куш, какой только может выиграть человек. - Что с ними стало? - Честно говоря, - развел руками журналист, - не знаю. Не это важно. Важно, на самом деле, то, что люди, которые согласились за деньги участвовать в опытах Хобба, и те, кто, по словам Хобба, прошел все серии экспериментов, сыграл в рулетку и отхватил главный приз – это совершенно разные лица. - Очень интересно, мистер Престон, - кивнул Талбот. – И вы, разумеется, можете это доказать? Ловкий малый. Из того, что он рассказывает, можно состряпать недурной роман. Ужасающую историю о том, как сумасшедший ученый фальсифицирует результаты исследований, а затем убивает всех, кто знал правду. - К сожалению, не все так просто, - признался Престон. – Я полностью уверен насчет одного человека. С оставшимися двумя сложнее, но там тоже есть кое-какие серьезные зацепки. Понимаете, мистер Талбот, я привык работать с информацией. Анализировать совпадения, неувязки, нестыковки. Черпать знание не только из информации, но и из ее отсутствия. Интерпретировать молчание так, что оно начинает громко кричать на разные голоса. Если хотите, - он ухмыльнулся, - такие как мы – настоящие палачи. У нас даже самый стойкий и выносливый не выдерживает и начинает колоться. Так что, вполне возможно, вы не поверите моим выкладкам. Полиция – наверняка не поверит. Но, как бы оно ни было, вы еще припомните мои слова, когда согласитесь на дьявольское предложение Хобба, а потом обнаружите, что все это – чистейшей воды надувательство. Когда вас заставят подробно написать историю своей жизни – якобы, для того, чтобы быть уверенным, что если в результате процедур ваша память пострадает, это будет поправимо. А на самом-то деле вас убьют, мистер Талбот. В лучшем случае – вышвырнут без гроша в каких-нибудь трущобах. Вместо вас будет двойник, назубок выучивший вашу биографию. - Постойте-ка, - прервал его Талбот. – Вы какие-то ужасы рассказываете, право слово. Если все обстоит так, как вы говорите… Если нет никакого бессмертия, то обман раскроется, когда двойник умрет. Что тогда делать Хоббу? Журналист торжествующе рассмеялся. Затем резко ткнул в сторону писателя указательным пальцем. - Бинго, мистер Талбот! Вам даже в голову не пришло задуматься о том, что это мало будет волновать Хобба: он уже стар и наверняка к тому времени скончается. Его одно волнует: уйти в могилу, будучи увенчанным лаврами величайшего ученого мира, решившего известную проблему человечества. Победившего смерть, если не для себя, то для остальных. Эдакий благодетель. Что там случится дальше – это уже, видимо, Хоббу не интересно. Вы вот еще над чем подумайте: почему он сам не прошел процедуру омоложения? Сказав это, Престон откинулся назад и развалился в кресле, закинув ногу на ногу. Носок начищенной туфли с четкостью метронома покачивался в воздухе. Когда он шел вниз, из-под края зеленой брючины мелькал белый носок. Журналист явно ждал, пока Талбот скажет что-нибудь. Интересно, он сумасшедший, везде видящий заговоры? Или, все же, гениальный аналитик, который изучил крупицы разрозненной информации и открыл тщательно упрятанную от всех правду? - Скажите, мистер Престон, - спросил Талбот, - вам сложно было проникнуть в мой дом через окно? - Ну… - удивленно откликнулся человек, желающий, по его словам, спасти Талбота от страшной ошибки, - нелегко, однако ничего невозможного. - Тогда вас, наверное, не затруднит еще раз проделать этот путь. Только теперь уже в обратном направлении. Рукой Талбот указал на окно, оставшееся приоткрытым. Прохладный ночной ветерок отбросил в сторону штору, показывая беспросветную темень. - Вы все-таки меня выгоняете? - А вы на что рассчитывали? Что я накормлю вас ужином и уложу спать? - Хорошо-хорошо, - Престон встал из кресла. – Но вы же подумаете над моими словами, мистер Талбот? Клянусь, я не обманываю. Это не розыгрыш. Смерть – не тема для шутки, так я думаю. - Идите, Престон, - Талбот еще раз махнул рукой. – Я благодарен вам за заботу, но лучше, если вы меня покинете. Не забывайте, я всегда могу позвать полицию. - Кажется, вы мне не верите, - расстроено сказал Престон по пути к окну. Его слова казались совершенно искренними. - Я этого не говорил, - возразил Талбот. - До свиданья, мистер Талбот. Надеюсь, выбирая, вы не допустите ошибки. Подумайте хорошенько над тем, что я вам сказал. Подумать? Я весь день об этом думаю. И, сдается мне, буду думать еще всю ночь. Похоже, благодаря вашему визиту, мистер Престон, мне уже не уснуть. - До свиданья. Талбот вяло дернул ладонью в прощальном жесте. Выключил свет и покинул комнату. Столько людей хотят отговорить его. Он может понять тех, кто хотел бы, чтобы Талбот отрекся от бессмертия в их пользу. Но что делать с теми, которые уверены, что разработки Хобба – это не награда, а угроза? Как бы не был лично неприятен ему священник Картер, какими бы странными не казались слова ночного гостя, представившегося журналистом Престоном – они ведь ничего не хотели для себя лично. Тогда почему? Все это нужно хорошенько обдумать? Может, действительно в бессмертии скрывается какая-то тайна, которой не должен коснуться человек? И Хобб, сознательно или нет, завлекает Талбота в ловушку? Выйдя в холл, он подошел к телефону. Кряхтя по-старчески, нагнулся, вновь воссоединил розетку и вилку и набрал номер своего водителя. - Питер? Вы спали? Извините, что разбудил. Да, вы нужны мне именно сейчас. Нет, со мной все в порядке. Вернее… Конечно, не в порядке. Автомобиль, едва слышно урча двигателем, мчал его сквозь ночь. Мой автомобиль, подумал Талбот, моя крепость на колесах. Уютный мобильный мирок, иногда помогающий спастись от давления того, что меня окружает, е хуже, чем надежнейший из домов. Но этой ночью я не имею права прятаться. Ночной город плескался вокруг разноцветным морем. Вот остался позади сумрачный деловой центр, уснувший в ожидании нового рабочего дня. Промелькнули кварталы развлечений, шумные, нагловато-броские, предлагающие включиться в сумасшедшую гонку: лишь бы успеть отхватить по максимуму. Нет, если ему и суждено найти ответ, то не здесь. Лучше свернуть вот сюда, на тихие улочки, ведущие к выезду из города. Глядя в окно и видя, как меркнут оставшиеся за спиной гирлянды ночных огней, Талбот почувствовал нестерпимое желание стать хотя бы на миг частью этого незнакомого ему района. - Остановите машину, - велел он. – Я выйду. Мне нужно прогуляться. Свежий воздух, звездное небо над головой…Может быть, так мне будет проще принять решение? - Вы уверены, мистер Талбот? – спросил водитель. – А если… Он помотал головой. - Очень маловероятно, Питер. Кто я здесь, на этих улицах? Еще один прохожий. Не то спешащий домой служащий, не то вышедший на прогулку прожигатель жизни. Нет, сейчас никто не узнает во мне того самого Талбота. Он с тяжелым вздохом вылез из машины. Вот и еще одна гирька на весы принятия решения – старость подкралась незаметно, точно опытный вор, и постепенно крадет у него все: здоровье, приятный внешний вид, способность трезво рассуждать. Ну да ладно. Талбот медленно побрел вдоль по улице. Здесь, почти на окраине, воздух был чище и небольшие кафе, ресторанчики, магазинчики, теснившиеся по обеим сторонам от дороги, не могли своим неоновым светом помешать увидеть звезды. Нужно было уехать в лес? Построить хижину, стать отшельником, учиться смотреть вглубь себя в надежде найти единственно верный ответ на вопрос, которым задавалось человечество с того момента, как осознало свою смертность. Точно… И умереть, так и не приняв никакого решения. Нет, бегство – не выход. Бегство никогда не может быть выходом, потому что если то, от чего ты бежишь, решилось всерьез взяться за тебя – скрыться будет попросту невозможно. Оно просочится сквозь всяческие преграды, заморочит голову любому сторожу, как бы умен и искушен он не был, обойдет все ловушки. Нет, я не буду бежать. К утру я выберу между «да» и «нет», как и подобает человеку. Потому что человек – не просто двуногое и лишенное перьев существо, как пошутил когда-то Сократ. Человек – это тот, кто способен лицом к лицу встретиться с выбором и совершить его, не боясь ни внутренних страхов, ни неодобрения других людей. Талбот вдруг почувствовал необычный прилив сил. Он распрямился, с удовольствием похрустел затекшими во время езды в автомобиле мышцами. А ведь хорошо, черт возьми! Он улыбнулся, так легко и светло, как не улыбался уже многие годы. Хотя бы за это стоит поблагодарить тех людей, что приняли решение в мою пользу. Они позволили мне вновь почувствовать себя чем-то значащим, стоящим, способным что-то изменить. Снова ощутить себя человеком, а не пешкой, песчинкой, мыслящим тростником… Люди не могли подсказать ему правильного ответа. Писатель понял, в чем тут дело: он не имел права переносить тяжесть решения на чужие плечи. Все правильно: они избрали Талбота для того, чтобы он сам нашел для них ответ. У них, кто бы ни прятался за этим безликим «они» - нашедшие секрет бессмертия ученые, принявшие решение о присуждении ему вечной жизни эксперты или человечество в целом – не было никакого рецепта. И все они надеялись, что Талбот подскажет, как поступать. Они не могли ничем помочь избранному кандидату в бессмертные. Талбот поднял голову и посмотрел вверх, в бесконечное чистое небо. Как нарочно, ветер разогнал облака, и бесчисленные звезды, рассыпавшиеся по черному хрусталю небосвода, переливались в вышине. Луна улыбалась ленивой ухмылкой того, кто знает ответ, но не скажет. Не скажет никогда. Потому что ты здесь, а она – там, в недосягаемой дали. Подул холодный ветер. Талбот поежился. Нет, небо тоже не поможет. Если бы небо могло помочь людям, оно вмешалось бы уже давно. Не через говорящих загадками пророков и тех, кто объявлял себя наследниками божества. Нет, оно должно было бы, как подобает настоящему отцу, взять нас за руку и вести за собой. Не только наказывая за проступки, но и хваля за достижения. Не только избранных, но всех, какими бы не были, потому что действительно любящие родители любят всех своих детей и желают блага каждому из них. Не отбирая у людей права совершать ошибки, но всякий раз четко и ясно показывая и объясняя, что так делать нельзя. Навстречу по улице шел мальчишка лет двенадцати. Невысокий, в растрепанных синих джинсах и обвисшей красной спортивной куртке. Шапки на нем не было, и волосы мальчишки, давненько не общавшиеся с расческой, смешно топорщились в разные стороны. Мальчик шел пригнувшись, втянув голову в плечи, чтобы куцый воротник куртки прикрывал хотя бы немножко озябшие уши. Его взгляд блуждал где-то внизу, словно выискивая что-то на грязном асфальте, и поэтому мальчик едва не столкнулся с Талботом. - Извините, - буркнул он, намереваясь спешить дальше. - Да ничего, - рассеянно ответил писатель. – Хотя, впрочем… Может быть, ты мне поможешь? - Ну, чего еще? - парнишка остановился и хмуро посмотрел на Талбота из-под растрепанных волос. В его взгляде отчетливо читалось: не видишь, я тороплюсь? Спрашивай живее и иди своей дорогой? - Я, кстати, не местный, - добавил мальчик. – Так что если вы, мистер, хотите спросить про то, как вам лучше куда дойти, я вряд ли чего ценного отвечу. - Да нет же, нет, - торопливо перебил его Талбот. – Я совсем другое хотел узнать. Вот если бы тебе предложили выбирать – стать бессмертным или не становиться, что бы ты ответил? Мальчишка глянул на стоявшего перед ним человека как на сумасшедшего. - С вами все в порядке, мистер? – осторожно спросил он, сделав пару шагов назад. – Кажется мне, вы кому-то не тому такие вопросы задаете. Бессмертие! Ишь чего придумали! Я в новостях слышал, какому-то мужику счастье такое привалило: бессмертным стать. Найдите его и допрашивайте, а я, пожалуй, домой пойду. Он мгновенно развернулся и пошел, почти побежал, в темноту одного из многочисленных проулков, словно щупальца от тела спрута, разбегавшихся по сторонам от улицы, по которой шел Талбот. Устами младенцев глаголет истина, горько усмехнулся Талбот. Но как быть тогда, когда младенцы отказываются отвечать? Не хотят или не могут поделиться своей истиной? Что делать? Не кричать же ему вслед: это я, я, тот самый мужик, которому, если верить твоим новостям, мальчик, привалило счастье. Ведь, чего доброго, точно решит, что я сбрендил. Талбот нашарил в кармане телефон, закоченевшими пальцами потыкал в кнопки. Хвала небесам, водитель отозвался сразу же. - Питер, - сказал Талбот. – Заберите меня отсюда. Едем домой. Полицейские продолжали честно выполнять свой долг. Автомобиль Талбота остановили. Седой грузный офицер, похожий на пожилого медведя, неторопливо, вразвалку подошел к машине, аккуратно посветил фонариком и, узнав пассажира, махнул рукой, позволяя проезжать. Я тоже похож на медведя, горько подумал Талбот. Засиделся в своей берлоге, сначала заматерел, затем постарел. Отвык быстро принимать решения в надежде на то, что мой статус позволяет мне не думать, а просто делать. И вот, когда я получил то, что считаю честно заработанным, я не знаю, как мне с этим поступить. Стою посреди леса, верчу головой направо-налево, ищу подсказки, которой нет. Хотя… Ответ всегда был во мне, и я прекрасно это знал. Только боялся признаться. Ссутулившись, сунув руки в карманы пальто, Талбот медленно поднялся по ступеням к двери. Накрыл ладонью дверную ручку, задумчиво погладил благородную бронзу. Хорошо быть бронзой – ей не нужно думать о вечности. И все же я знаю ответ. Он открыл дверь, стряхнул с себя пальто, повесил его на вешалку. Да, он знает ответ, и ответ этот прост. Кто-то должен быть первым. Иначе слова останутся лишь словами. Можно сколь угодно долго рассуждать, но так и не постичь сути. Можно гадать до бесконечности, превратятся ли обретшие бессмертие люди в лишившихся цели вечных старцев, вечно брюзжащих о том, что раньше все было лучше, и не способных не то что добиться результата – даже наметить цель собственной жизни; или напротив, человек долгоживущий станет навеки счастлив. Все это не более чем наивные попытки, сравнимые с предсказаниями астрологов и хиромантов. Что могут сказать человечеству о бессмертии те подопытные, которым посчастливилось обрести вечную жизнь? Случайные люди, пошедшие на эксперимент лишь ради денег, как могут они ответить на один из важнейших вопросов бытия? Он примет предложение. Сделает первый шаг в неизвестность. Люди, которые выбрали его, ошиблись лишь в одном. Бессмертие – не награда. По крайней мере, для него. Для Талбота пропуск в вечность – это долг. Крест, который ему предстоит нести всю оставшуюся жизнь. Теперь он обязан поведать прочим о том, чем же на самом деле может обернуться для них возможность не умирать. Если там, в бессмертии, он обнаружит благо – что ж, он расскажет людям о нем. Если же жизнь вечная окажется адом – он откроет всем глаза на этот ад. В конце концов, он был писателем… Да черт побери, почему – был? Вот оно, лекарство, которое он искал. Спасение от творческой импотенции, которой страдает Талбот. Он есть писатель. Он согласится стать первым человеком на Земле, которому выпало жить долго-долго, и напишет об этом – честно, правдиво, искренне, без единого слова лжи. Таким будет его ответ Ленни, священнику Картеру, журналисту Престону, миссис Вернон, так и оставшемуся безымянным мальчишке на улице. Годы молчания сменятся, наконец, годами работы. Талбот пошевелил пальцами и вспомнил… Как это прекрасно: скрип шариковой ручки по листу бумаги, кричащая белизна которого ничего не может поделать с безжалостно покрывающими его строчками; торопливый стук клавишей печатной машинки и резкий щелчок каретки, так похожий на пистолетный выстрел; бег символов по экрану компьютера. Если повезет, то это будет моя лучшая книга. Талбот глубоко вздохнул. Затем протянул руку и взял трубку телефона. Набрал номер. - Да? – откликнулся чей-то заспанный голос. - Это Талбот, - сказал он. И добавил торопливо, пока еще сам не передумал: – Я согласен. Алла Эльстер Пан Вера Павловна захлопнула фанерную дверь, сунула ключ в карман и побежала вниз по лестнице. «Давай, подвигай попой!» - потребовал вдогонку магнитофон из соседней комнаты. Впрочем, кибуцная общага удивительно быстро отступает в темноту и покидает Вер-Павловнину реальность. Босиком по траве, мимо банановой рощи, мимо заслонивших луну священных фикусов, вокруг которых кружат упитанные летучие собаки. Осторожно – мимо колючей живой изгороди с ароматными белыми цветами. Дальше, за изгородью, ползет на ближайший холм дорога. По обочинам дороги растут финиковые пальмы. Высвободившись из фикусов, луна тут же застревает в финиках. На дороге, в пальмовой тени, Веру Павловну ждет Пан. Он тощий, голый, нескладный, и видно, что нечеловечески сильный. Из курчавой бурой шевелюры выглядывают витые рожки. Глаза не то чтобы светятся, но даже в темноте видно какие они ярко-сиреневые. - Ты зря босиком, - бурчит Пан, - змей полно. Ну да ладно, со мной не укусят. Гулять пойдешь? Вера Павловна кивает. Лицо Пана озаряется улыбкой мальчишки, которого попросили показать любимый заводной поезд. Пан встает, берет Веру Павловну за руку. Ладонь у него жесткая, как кора. Одна нога – человеческая, босая и давно не мытая. Другая заканчивается раздвоенным копытом. Пан заметно хромает, и все же идут они удивительно быстро. Маленькое озеро пахнет тиной и рыбой. В тростнике спят фламинго и пеликаны. На большом разлапистом дереве дрыхнет стая черных бакланов. Пояс Ориона зацепился за верхнюю, самую чистую ветку. Напуганная шагами черепаха плюхается в воду и будит толстых сомов. Пан и Вера Павловна обходят вокруг озера и карабкаются на холм. Комья теплой, нагревшейся за день глины осыпаются у них под ногами. На вершине холма цветет мандрагора. Вокруг фиолетовых, как глаза пана, цветов носятся светляки. Кто-то злобно фыркает в ближайших кустах. Пан шарит в траве и протягивает Вере Павловне длинную черно-белую иглу: «Дикобраз потерял». Спустившись с противоположного склона, они, увязая в песке, бредут по песчаной пустоши к Средиземному морю. Пан торопится. Ему хочется показать Вере Павловне как можно больше. Пан, Сатир, Фавн – существо гораздо более древнее, чем все имена. Хромой, с выпирающими ребрами, неизвестно как оставшийся на земле, из которой все ему подобные были давно изгнаны Единственным. Совсем захиревший оттого, что в него так давно никто не верил… Они останавливаются на пустом пляже у кромки воды. По песку скользят крабы. Вера Павловна смотрит на голое, покрытое курчавой шерстью тело и невольно вспоминает сюжет «Сатир и нимфа»… Но Пану не до того. Ему бы поговорить. Он заходит в воду и приносит горсть морских звезд, светящуюся креветку и крошечного осьминога. Потом, отпустив морскую братию, они сидят на песке, и Пан рассказывает о повадках летучих рыб, а потом вдруг признается, что мечтает построить плот, переплыть океан и добраться до Амазонки. Там, в джунглях, среди диких племен, такие, как он, еще уважаемы, сильны и молоды. В кибуц Вера Павловна возвращается на рассвете. Пан машет рукой и тает в негустом тумане. Усталая Вера Павловна бредет в общежитие. На поспать перед работой у нее остается час. Хорошо хоть урока иврита сегодня нет. Наступивший день пропитан солнцем, как губка водой. Солнце жарит доску с расписанием работ для ульпанистов, столовую кибуцного заводика, солнечные зайчики играют на горе из грязной посуды. Недоспавшая Вера Павловна не сразу замечает, как возле нее вырастает Респектабельный Ухажер. Он аккуратно ставит в мойку тарелку, окружает Веру Павловну как-то разу со всех сторон, поблескивает хорошо выбритыми щеками и брелком для автомобильных ключей. Мурлычет о своей инженерной работе, о том, как приятно посидеть где-нибудь вечерком… И проникаясь понятностью и несомненностью его слов, Вера Павловна говорит, что сегодня вечером совершенно свободна. Она успевает поспать после работы, уложить кудряшки и выкопать из шкафа туфли на каблуках. Подумав о Пане, она сердито говорит неизвестно кому: «Я не могу каждую ночь ловить козявок!», стучится к живущим в комнате слева аргентинцам и зачем-то выпрашивает на денек атлас дорог Южной Америки. Серебристый «Фиат» ждет Веру Павловну между общежитием и столовой. Рыбный ресторанчик на берегу моря. Пухлая ручка скользит по плечу Веры Павловны. В туалетной кабинке она некоторое время просто стоит, прислонившись к стене, мнет в руках сумочку и ждет, пока ее перестанет подташнивать. До остановки Вера Павловна добегает минутой раньше последнего автобуса. У кибуцных ворот дремлет в своей будке охранник. Сразу за будкой, не обращая внимания на свет, сидит Пан. Заметив Веру Павловну, он встает и направляется ей навстречу, хромая сильней обычного. Недоуменно рассматривает ее туфли. - Я ждал, ждал, - говорит Пан, - договаривались идти смотреть на летучих мышей. - Да, - отвечает Вера Павловна и идет вперед. Ставшая стокилограммовой сумочка волочится по пыли. Вере Павловне вдруг кажется, что она самая никому не нужная Вера Павловна на Земле… - Я просто волновался, - говорит Пан, - все думал: вдруг с тобой что-то случилось… Вера Павловна поворачивается к нему и подбирает злополучную сумку. - Ну что ты, нет, – говорит она. - Я… к родственникам. Письмо передать… срочно. Сегодня позвонили. Ты извини! - Ага! Конечно! Бывает! Знаешь, я подумал – может вместе на Амазонку? В дороге лучше вдвоем… - Здорово! - улыбается Вера Павловна - А у меня такая вещь есть! Идем ко мне покажу. Соседка как раз уехала… Перед общежитием никого нет. Ульпанисты спят или смотрят телевизор, и никто не видит странного гостя. Полная луна светит в окна. Ее свет смешивается со светом лампочки в маленькой комнате, где заблудившаяся в сказках идиотка и захирелый божок, растянувшись на полу с картой, обсуждают дорогу на Амазонку. Кирилл Луковкин Один день Он проснулся с восходом Солнца. Он открыл глаза и увидел голубую бездну неба. Он услышал собственный пронзительный крик, свое учащенное дыхание. Он ощутил внутреннюю пульсацию жизни, стремительный кровоток сосудов, удары сердца, сокращения мышц. И голод. Не переставая кричать, он заметил, как что-то блеснуло в солнечном свете, и в рот проникла теплая питательная смесь, потекла по пищеводу в желудок, вызывая чувство удовлетворения. Захотелось спокойствия. Тело охватила сладкая нега. Он пролежал так некоторое время, кричать уже не хотелось, хотелось булькать. Внутри что-то неуловимо менялось, увеличивалось, вытягивалось. Он стал рассматривать окружающие предметы, вертя головой. Заметил сферическую штуку темного цвета слева от себя. Она висела в воздухе и все время крутилась, подмигивая, и издавая различные звуки. Это его позабавило. Он засмеялся, радость переполняла все его существо, заставляя непроизвольно размахивать конечностями. Он вдруг удивленно уставился на собственные руки, на пухлые пятерни, и так и эдак поворачивая их перед глазами. Внизу, он точно знал это, есть еще пара таких же отростков. Эти выводы несколько утомили его и желудок вновь потребовал пищи. Снова извивающаяся змея проникла в рот, снова смесь утолила голод. Не успел он подумать о новой потребности, о жгучем желании, как все необходимое уже было сделано. Тело начало неметь, мир вымотал его. Очередной провал. После отдыха его охватил нестерпимый зуд. Энергия перехлестывала через край, срочно нужно было высвободить ее. Он засучил ногами и заверещал. Голос поменялся, стал мощнее. Надоело лежать. Он взбрыкнул ногами раз, другой, третий, но земля крепко прижимала его к поверхности. Тут он сообразил, что надо перенести центр тяжести вперед. Рывок требовал тщательной подготовки, пришлось напрячься… он сел, едва не шлепнулся обратно, но удержался. Он возвысился над вселенной, он покорил первую вершину! Торжество вызвало новый всплеск положительных эмоций. Пока вестибулярный аппарат учился удерживать равновесие, он стал рассматривать принадлежащий себе мир. Хозяин. Мир переливался всеми цветами радуги, мир смеялся, мир был живым. Все двигалось, ничто не могло задержаться на одном месте дольше секунды. Внизу была твердь. Наверху простирались небеса. Ослепительно светило солнце, оно было источником тепла, оно давало жизнь. Он находился в некоем замкнутом пространстве, огражденном от природы белыми пластинами. Всю территорию этого пространства занимали различные предметы неизвестного назначения. Они настолько отличались друг от друга, что их нельзя было даже сравнивать, каждая вещь казалась уникальной и каждая служила какой-то своей таинственной цели. Однако не все из обстановки вызывало чувство неизвестного: серебристая змея, неподвижно повисшая сейчас на креплениях, призвана кормить его. Он проникся к ней благоговением. Он решил, что стоит закрепить успех. Он перевернулся на четвереньки и пополз. Неважно куда, главное – двигаться, чувствовать собственную силу. Площадка, на которой он находился, была круглой, стены ее, хотя и прозрачные, возвышались тонкими тросами на пока недосягаемую для него высоту. Он остановился и сел, чтобы оглянуться. Вид ложа, с которого он удрал, заставил его вздрогнуть. Неужели он смог покрыть такое гигантское расстояние?! Вдруг его охватила тоска одиночества. Один, совершенно один, утомленный, изможденный, не в состоянии вернуться обратно. Он заплакал, слезы потекли ручьем, глаза накрыла пелена. Мир сделался врагом, потому что безразлично смотрел на его горе. Он ненавидел этот мир, такой жестокий, холодный и внезапно посеревший. Он захлебывался от рыданий. Он услышал странные звуки: ритмичные удары о землю. Перед ним возникло громадное существо. Страдание отошло на второй план, его место заняло удивление. Существо было во всем похоже на него – такие же пары конечностей, голова. Существо опустилось на колени, сгорбилось, стало меньше, рука потянулась к нему. Он внимательно смотрел на эту приближающуюся руку, пальцы коснулись волос, пальцы излучали тепло. Прикосновение вызвало приятную дрожь. Он успокоился. Существо подняло его, под ногами больше не чувствовалось пружинящее покрытие. Казалось, он взлетит вверх. Тепло заставило его вспомнить об отдыхе и еде. Он снова был в безопасности и он был не один. Существо положило его в колыбель и растаяло. Но не исчезло, оно находилось где-то рядом. Это хорошо. В периоды отдыха организм увеличивался. Он уже не сомневался в этом и поэтому спокойно рассматривал изменившиеся руки и ноги. «У-у!!», - выкрикнул он. Голос тоже изменился. Он обрадовался этому. Принялся ожесточенно ползать по вольеру. Голод. Змея тут как тут, готова исполнить ритуал. На глаза бросилась одна странность – его тело покрывала ткань неизвестного происхождения. Раньше ее не было, думал он, пока другой автомат помогал отправлять естественные потребности. Значит, она для чего-то нужна. Он оглянулся в поисках большого человека, но нигде его не нашел. Возникла мысль, что человек появляется только тогда, когда ему требуется забота. Он сразу же отогнал ее, его внимание привлекли разноцветные штуковины, которые принялся выплевывать темный шар. Радость. Он теребил эти бренчащие предметы, каждый предмет звучал по-разному, но всегда особенно. Потом надоело возиться с побрякушками, захотелось исследовать мир. Мир снова стал привлекательным, мир вызывал интерес. Однако сколько он не искал выход из вольера, сколько не ползал по кругу, выхода он не нашел. Это его расстроило, глаза намокли. И появился большой человек! «У-аа!!», - провозгласил он торжествующе, ведь человек не даст ему скучать. Человек сел рядом с ним, поднял ближайшую погремушку и протянул ему. Он взял предмет и, не долго думая, отшвырнул прочь, это вызвало такой всплеск радости, что он даже взвизгнул. Человек проделал эту операцию несколько раз, но все его попытки потерпели поражение. Тогда человек поднялся, вынул откуда-то тонкую продолговатую трубочку, поднес к губам, и трубочка запела. Он заныл: отдай. Он потянул руки. Человек взял предмет двумя пальцами и на вытянутой руке протянул ему. Свистулька находилась прямо над ним, но он не мог достать ее, сколько ни тянулся. Он начал думать. Он вспомнил, что обладает двумя парами ног. В первый раз не получилось. Он упорно повторил попытку и встал. Пошатываясь, он ухватил человека за ногу, чтобы удержать равновесие, другой рукой – заветную трубочку. Человек присел на корточки и погладил его по голове. Он почувствовал удовольствие. Видимо, он сделал нечто важное. Сейчас ему требуется отдых. Демонстративный зевок. Человек все понял. Потом он тренировал голосовые связки, распевая без умолку на все лады. Трубка значительно помогала ему в этом. Трубка была особенной вещью. Человек время от времени показывал ему какие-то картинки, квадратики разных цветов, что-то говорил с разными интонациями. Он понял, что есть разные звуки – хорошие и плохие. Один раз он услышал очень громкий звук, такой громкий, что сердце задрожало внутри и он не смог даже заплакать. Так он впервые в своей жизни испытал страх. Человек его успокоил, и все уладилось, так что он пока не придавал значения природе этого загадочного явления. Он учился ходить, сначала неуверенно, затем он начал бегать. Однажды он упал – это было первое из многочисленных падений, - и испытал нестерпимое жжение в области колена. Он узнал, что такое боль. Солнце весело светило в небе, только чуть поднялось вверх. «А?», - спросил он, как-то указав на солнце, у человека. - Солнце, - ответил человек. – СОЛН-ЦЕ. Он проникся к человеку самой искренней любовью, на которую был способен. Человек всегда знал, чего он хочет, и заботился о нем. Но человек обладал над ним властью. Иногда в ответ на просьбу он мотал головой и хмурился. Знак, что лучше не ныть, потому что он может и шлепнуть. Такие проявления вандализма поднимали в нем волну возмущения и отчаяния: ведь он ничего не может поделать, человек во сто крат сильнее его, и человек всегда прав, во всем. Ничего, когда-нибудь это изменится, думал он, когда- нибудь я стану таким же большим, как и он. Потом человек дал ему имя – Алан. Потом человек дал имя себе – Кронус. И заставил повторить имена. Конечно, у Алана не получилось с первого раза, но надо привыкать. Алан стал понемногу произносить слова: небо, солнце, рука, нога, земля. Он узнал, что он тоже оказывается человек. Вообще-то он и раньше знал это. Алан быстро познавал мир. Мир уже не казался ему таким загадочным, по крайней мере, Алан понял, что всегда может узнать больше. Однажды Кронус взял его за руку и подвел к краю вольера. Металлические прутья исчезли, и они вышли наружу. Алан смотрел во все глаза, стараясь не упустить ни одной детали, а человек показывал на что-нибудь рукой и пояснял. Первое время Алан не отходил от Кронуса ни на шаг. Они шли по длинной твердой ленте, Кронус показывал на нее пальцем и говорил: «Дорога». Они смотрели на зеленые прутики, в огромном количестве торчащие из земли и Кронус говорил: «Трава». Алан обернулся и увидел, как выглядит снаружи место, где он жил – белоснежное нагромождение пластин. - Да, это наш дом, - сказал Кронус. - А это? – спросил Алан. - Это горы. - А это? – спрашивал он. - Это деревья. И так до бесконечности. Мир – непростая штука. Алан смог в этом убедиться лично. Они гуляли снаружи каждый раз после кратковременного отдыха и приема пищи. Алан привыкал к природе, пробовал все на ощупь, на вкус, нюхал. Иногда это приводило к плачевным результатам. Но он постепенно набирался опыта, его восприятие ширилось, его организм рос и увеличивался в размерах. Он вполне сносно научился разговаривать. Змея уже не кормила его, он сам себя кормил, хотя и не понимал, откуда берется пища. - А откуда берется пища? – спросил он Кронуса. - Пища берется из мира, очищается, готовится и смешивается специальными машинами. - Машинами? Что такое машины? - Об этом ты узнаешь позже, - сказал Кронус. Алан испытывал недовольство, когда не мог по какой-либо причине узнать ответ на интересующий его вопрос. Тогда он дулся на Кронуса. Но тот был невозмутим. Дом менялся. Изменения происходили всякий раз, когда Алан закрывал глаза, чтобы отдохнуть. Появились стол, стул, сам он уже давно не отдыхал в колыбели, ее сменила широченная кровать. У него прорезались зубы, волосы стали темнее и гуще. Он смог разглядывать свое лицо в зеркале, строить рожи и скакать перед ним, пока не надоест или не найдется новое занятие. Алан стал таким громадным, что уже доставал головой до груди Кронуса. Он обратил его внимание на это. Кронус улыбнулся: - Скоро ты сравнишься со мной. Ты взвешивался? - Еще нет! – и Алан побежал в другую комнату, запрыгнул на весы, взглянул на счетчик (к тому времени он уже умел различать буквенные и числовые символы), Двадцать один! - Замечательно, - произнес Кронус, входя вслед за ним. - Так-так, - протянул Алан, водя глазами по комнате, - Ну и что тут появилось еще? Ага! – завопил он. – Ну-ка, объясни мне, что это еще за вещь? - Где? – Кронус завертел с притворным любопытством головой. - Вон там, на стене! - Это часы, - Кронус сел в кресло, закинув ногу на ногу. Алан щелкнул языком, подошел поближе, запрокинув голову. - Я вижу здесь цифры. - Правильно. Они нужны, чтобы обозначать промежуток времени. - Время? Что такое время? - Это величина, которая обозначает изменение мира в пространстве. - Не понимаю. - Сейчас поймешь, - Кронус подошел к Алану. – Вот смотри. До отдыха ты весил всего 18 килограмм. После – двадцать один. За тот промежуток прошло примерно пять минут, и стрелка, обозначающая движение времени, сместилась вверх на пять делений от девятки к десятке. Стрелка, которая постоянно движется, обозначает секунды. Та, которая сместилась – минуты. - А короткая? - Она обозначает часы. - А почему всего двенадцать цифр? - Такова временная система человечества. Ты, наверное, заметил, что солнце поднялось выше. Так вот, как только солнце пересечет небо и зайдет на той стороне земли, закончится день. Сутки состоят из двадцати четырех часов. Один час состоит из шестидесяти минут, одна минута – из шестидесяти секунд. Таким образом измеряется время. Время идет постоянно, ничто в мире не в силах его остановить. Оно делает мир таким, каков он есть. Если разделить двадцать четыре на два получится двенадцать. Циферблат часов соединяет в себе как бы две половины дня – первую и вторую. Первая половина дня называется утром, солнце в это время там, где ты его сейчас видишь. Вторая половина дня – вечер. Солнце будет находиться на противоположной стороне неба. Видишь? Стрелки движутся к двенадцати. Это означает, что утро близко к завершению. Думаю, тебе стоит следить за временем, чтобы уметь измерять движение мира. Вот, возьми. С этими словами Кронус протянул Алану серебристую бляшку. - Это такие же часы, но поменьше. Прикрепи их к рукаву и носи с собой. Так Алан и сделал. Едва прибор закрепился на голубой манжете его рубашки, маленький экран загорелся бледным желтым цветом и возник точно такой же циферблат, как и у часов на стене. Так Алан узнал о существовании времени. Пожалуй, это открытие по важности могло сравниться лишь с его рождением. Ему почему-то не хотелось играть. - Можно мне пойти погулять? - Да. Но не больше десяти минут, - предупредил наставник. Неужели этот день закончится? Нет, никак не верится, что свету и теплу придет конец. Алан вышел из дома и направился в сторону реки. Сел на берегу и стал смотреть, как течет вода. Вместе с водой текло время. С течением времени менялся мир; по небу ползли облака, деревья глухо шумели, не переставая расти, мелкие животные прыгали в траве в поисках пищи, солнце невообразимо медленно ползло к зениту, река текла на запад. Это уже не та река, к которой он пришел, это другая река, а через минуту река, которую он сейчас видит, исчезнет навсегда, уступив место новой. Сколько этих рек в будущем? Тысяча? Миллион? Когда здесь протечет самая ПОСЛЕДНЯЯ капля? Если он войдет в одну реку один раз, то уже не сможет повторить свой подвиг. Река изменится. Он поднял камешек – этим движением он изменил мир, он бросил камень в воду. Всплеск. И снова мир изменился, камень больше не лежит на прежнем месте, на речном дне появился еще один камень, хотя раньше его там не было. Алан пришел к выводу, что мир не просто меняется сам, его можно ИЗМЕНИТЬ по собственному желанию. Он посмотрел на часы – отведенное время заканчивалось. И побежал домой, наблюдая за собственной тенью. - У тебя развито чувство ответственности. Явился точно в срок, - отметил Кронус, встречая его. – Хочу сказать тебе еще одну важную вещь. - Что может быть важнее временного потока? – удивился Алан. - Люди. Тебя ждет встреча с новыми людьми. Новые люди! Сколько их будет, неизвестно, какие они будут, тоже неизвестно. Новость потрясла Алана. - Когда? Через полчаса. К тому времени ты полностью созреешь. Тебе необходимо подготовиться. Экран на стене в этом поможет. Не буду мешать, - сказал Кронус и удалился. Алан с подозрительным видом уставился на черный прямоугольник, занимавший большую часть стены. Внезапно экран посветлел, и на нем появились изображения двигающихся существ. Алан присмотрелся – ну конечно, это люди! Он придвинулся ближе. Люди что-то делали, одни появлялись, другие исчезали. Одни сидели, другие стояли. Кто-то смеялся, кто-то говорил. Они были похожи на наставника, некоторые по росту и телосложению напоминали Алана. Но присутствовали там и другого, странного вида люди – как будто высохшие, увядшие, охваченные страшной болезнью, отнимающей силы. Были люди более тонкие и красивые, по-другому передвигающиеся, с длинными прядями волос. Пять минут смотрел Алан не отрываясь фильм про людей; за пять минут перед ним разворачивались трагедии, совершались поступки, произносились речи. Затем экран померк. Кронус стоял за спиной, молчаливый, всегда готовый прийти на помощь. - Кронус, я… - Нет. Ты должен узнать сам. Ты достаточно смышлен, чтобы добывать знания самостоятельно. В полдень. - В полдень, - эхом отозвался Алан. - А теперь отдых, – распорядился Кронус. – В кровать. Это ему не нравилось, его терзало смутное предчувствие беды, чего-то плохого. Он открыл глаза. Первое, что он сделал, посмотрел на часы. Без десяти двенадцать. Он выбежал наружу, прикрывая рукой лицо, он нашел солнце. Солнце нависло прямо над ним, оно находилось в зените. Стало жарче, он вспотел, ощущая, как темнеет кожа, впитывая солнечное излучение. Он вернулся в дом. Одежда стала тесной, кое-где разошлась по швам. Мышцы увеличились, кости уплотнились. Он встретился взглядом с бесстрастным взглядом Кронуса. - Похоже, ты отдохнул? – осведомился тот, - Советую провести необходимые процедуры, как следует подкрепиться и прилично одеться. Потому что мы вылетаем в Центр обучения. Машина во дворе ждет. Да, и не забудь побриться. Алан прошел в санузел. Из зеркала на него с диким видом пялился совершенно чужой человек – какой-то обросший бородатый детина. Он пощупал скулы, согнул и разогнул руки. Ногти отросли по пять сантиметров. Из ушей торчали комки серы. Отвратительное зрелище. После тщательных очистительных процедур не без помощи специальных автоматов он стал выглядеть значительно лучше. - Отлично выглядишь! – похвалил Кронус, - Я покопался в твоем гардеробе, и нашел, что эта темно-зеленая глянцевая накидка неплохо будет сочетаться с цветом твоих глаз. Алан подошел к наставнику вплотную, Кронус больше не казался ему таким великаном, как в далеком детстве утра. Взяв одежду, он проворчал: - Может, оставишь меня одного? - Я жду в геликоптере. Кронус ушел. Алану внезапно захотелось что-нибудь разнести до основания, тело дрожало от возбуждения, тело искало себе применения. Энергия переполняла его, бурлила, как и раньше, но энергия эта была уже другого рода, это была смесь ежесекундных желаний, вскипающие эмоции. Вспомнились те красивые люди с изящной походкой, внутри что-то ошпарило, кровь быстрее побежала по жилам. Он заставил себя переодеться. Вышел во внутренний дворик, там, неуклюже распластавшись на земле, с жутким ревем вращала лопасти машина, из чрева которой ему улыбался и махал пятерней Кронус. На секунду она вызвала в нем приступ необъяснимого страха, но он быстро с собой справился и залез внутрь. Едва дверца захлопнулась, они стремительно оторвались от земли и понеслись прочь от дома, от реки и деревьев по направлению к горам. Алан долго смотрел на тающее сзади белоснежное строение, пока оно не превратилось в маленькую белую точку. - Я никогда сюда не вернусь? Кронус кивнул. Алан стал смотреть вперед. Где-то под ними равнину жарило солнце. Перед глазами мелькали горные вершины, им не было конца, они сливались в сплошное пестрое месиво. Он решил следить за наручными часами. Цвет экрана из желтого превратился в голубой. Секунды щелкали медленней обычного. Почему? Кронус ответил, что это биологический эффект замедления времени: все идет по-прежнему, просто сознание Алана преломляет данные часов, сигналы доходят с опозданием до головного мозга и от этого кажется, что время течет не так быстро. Если не смотреть на часы, время летит незаметно, не успеешь оглянуться, проходит пять минут, за ними десять, потом оказывается, что позади уже час. Но если следить за каждой секундой, ожидание рубежа станет невыносимо долгим. Всю оставшуюся половину пути молчали. Горные массивы кончились, под бортом машины тянулась махровая сельва. Над верхушками деревьев обеспокоено проносились стаи птиц. Лес поредел, началась саванна. - Снижаемся, - предупредил Кронус. Алан успел заметить лишь промелькнувшее за холмом впереди скопление домиков, и вот они стоят посреди высокой выжженной травы. - Идем, – позвал Кронус, - Финальный отрезок пути. Они взобрались на холм. Снизу раскинулось людское поселение, около дюжины приземистых хижин, окруживших большой голубой купол амфитеатра. Они вошли внутрь. Арена ждала их, посреди арены стояли люди. Сотня, две сотни, а может, и больше. Алан не знал, на кого смотреть, все они вызывали одинаковое чувство любопытства: мир стал манящим, мир приготовил ему сюрприз. Красивые люди с длинными волосами. - Женщины, - подсказал Кронус. – противоположный твоему пол. - Почему? – этот вопрос звучал по-детски нелепо при его нынешнем состоянии. - Все живое размножается. Эти люди родились одновременно с тобой, они твои сверстники. Каждый из них имеет своего наставника, как и ты. Наставники находятся в верхней галерее, и я отправляюсь туда же. Иди к своим. На секунду Алан ощутил себя абсолютно беспомощным, он в растерянности смотрел на парней и девушек, толпившихся там. Он пошел к ним. - Похоже, еще один! – сказал кто-то из парней. – Сюда! - Еще один, - произнес женский голос, вызвавший у него внутреннюю дрожь. - Какие глаза. Ребята окружили его. Створки ворот снова открылись – еще новичок, стоит, озирается. Приходило ежесекундное пополнение. - Я Дин, - белобрысый худой паренек протянул ему руку. Алан представился и тоже протянул руку. Видимо, это такой ритуал. - Где ты рос? – спросил Дин. Алан в нерешительности запрокинул голову, ища среди теней в галерее знакомую, и неуверенно сказал: - У реки, которую мой наставник именует Рейном. Возле гор, которые он называет Альпами. - Все ясно, - засмеялся Дин, - А я на берегу Атлантического океана. - Что такое океан? – застенчиво спросила курносая девушка в красном. - Океан – это огромное пространство, заполненное водой, - наставительно сказал Дин. – Воды столько, что она пролегает аж до самого горизонта! - Быть такого не может! – удивилась она. - У тебя не может, а у меня есть. Как твое имя? - Шер. - И откуда ты? - Огромный водопад…. Я не помню. Дин прыснул – она не помнит, посмотрите на нее. Алану это почему-то не понравилось. - Я тоже часто забываю названия вещей, - вмешался он. Дин выпятил нижнюю губу. - Почему ты отличаешься от нас с Аланом? - Я не знаю, - тихо сказала Шер. - Мой наставник объяснил мне, что она относится к числу женщин, - сказал Алан. - Да, я знаю, - кивнул Дин. – Но я никак не могу понять, откуда пошло такое разделение. К ним присоединился еще один парень. Он был гораздо крепче и плотнее Алана по телосложению, однако ниже ростом. Он имел грубые очертания лица. И еще одна девушка, рыжая, очень подвижная. Парня звали Куртом, а ее – Сандрой. Они переключили тему разговора на пережитые в детстве впечатления. Выяснилось, что они пережили в той или иной степени то же, что и Алан. Кто-то из пятерых непрестанно поглядывал на свои наручные часы. Алан почувствовал удовлетворение, общаясь с ними. Особенно приятно ему было разглядывать Шер, он не мог объяснить, почему. Среди толпы Алан заметил одиноко стоящего в стороне парня с крайне угрюмым видом. Лоб и щеку ему пересекал глубокий шрам. Скрестив руки, парень лениво разглядывал публику. - Десять минут! – объявил высокий голос сверху. – Выбирайте себе дом и селитесь в нем. Отдыхайте. Ешьте. Приводите себя в порядок. Через двадцать минут вы должны пройти обучение. Ваши наставники увидят вас только после этой процедуры. Четыре арки открылись, юноши и девушки потянулись к выходам. - У меня есть идея! – воскликнула Сандра. – Предлагаю жить вместе, в одном доме. Алан, Дин, Курт и Шер восприняли это положительно. Осталось только найти жилище. Им стала хижина, над крыльцом которой висела цифра «9». Вошли внутрь. - Что-то подсказывает мне, что мужчины и женщины должны отдыхать и следить за собой раздельно, - задумчиво произнес Курт. - Похоже, ты прав, – ответил Алан, - Я тоже об этом подумал. Алан сел на стул и понял, что устал, что хочет есть. - Я хочу есть, - заявила Шер. - Я тоже, - пробурчал Дин. Они пообедали и легли в свои кровати; парни на одной стороне хижины, отделенной тонкой перегородкой, девушки – на другой. Прежде чем закрыть глаза, Алан представил себе, как Солнце там наверху медленно ползет к закату. Провал. Темнота. И свет. Он снова бодрствовал. Рядом вовсю тараторила Сандра, гудел Курт, шутил свои шутки Дин. И в который раз его организм перестроился, стал еще более зрелым. Часы, где часы? Двадцать пять минут. Надо привести себя в порядок. Он метнулся в санузел, слишком поздно поняв, что допустил страшный просчет: он привык пользоваться автоматами один, он забыл, что делит дом с другими людьми. Шер стояла перед зеркалом без одежды, автомат заботливо остригал отросшие волосы. Не в силах отвести глаза, он попятился прочь, мохнатое когтистое чудовище, он осознавал неотвратимость грядущего, в котором будет присутствовать она. Они отправились к амфитеатру, но вместо него обнаружили совершенно иное здание, высокое, остроконечное, башня из слоновой кости. Их заставили по очереди зайти в маленькую черную комнату, постоять там несколько секунд и идти дальше. Вместе с остальными они зашли в просторный зал, с ребятами держаться не имело смысла, они никогда не потеряются, и вот, они сели в специально отведенные кресла и приготовились. Перед ними на трибуну вышел человек, одетый также, как и Кронус. Может быть, это и был Кронус. - Приготовьтесь к получению знаний, - сказал он, - Наденьте черные зрительные устройства на глаза. Теперь расслабьтесь. Не бойтесь. Сейчас время не имеет для вас значения, вы станете вне времени. И мир исчез в черном ничто. Алан даже не успел закончить вдох, как в мозг ударила волна информации такой скорости, что его затошнило. Картины сменяли друг друга, сначала это были картины, потом это были запахи, звуки, ощущения, прожитые жизни, пережитые события. Не успевая осмысляться, информация надежно откладывалась в ячейках памяти, чтобы стать потом воспоминанием о воспоминании. Килобайты, мегабайты, гигабайты информации, миллионы гигабайт. Точные и гуманитарные науки, философия. История галактического триумфа. Тысячи освоенных планет, тысячи лет человеческой истории, гигантская империя разума. И крах. Человек исчез с лица Вселенной. Не осталось ничего, кроме закованных в вечную мерзлоту мумий, по счастливой случайности не тронутых разложением. Миллионы лет прошли, прежде чем другая раса разумных существ смогла найти жалкие останки, сумела разработать технологию восстановления генома. Материя, из которой сделан человек, крайне хрупка. Выращенные методом клонирования особи живут всего день. С невероятной скоростью взрослеют, переживают период зрелости, старятся и умирают. И все это за один день, один оборот родной для людей планеты вокруг звезды-карлика. 24 часа. Одна жизнь за один день. Мир воскрес перед Аланом. Он понял, что на закате умрет. В зале не было слышно ни единого звука. Прошло десять минут, все разошлись, и Алан стоял и смотрел на Кронуса. - Давай-ка пройдемся, - предложил наставник. Алан молча пошел к знакомому холму. Остановился он только на вершине. В раскаленном воздухе гудели цикады. Кронус стоял рядом. - Я не знаю, чем тебе сейчас помочь, - Кронус попробовал взять его за плечо. - Не трогай меня!! – истошно заорал он. – Ты не человек, Кронус. Ты тупая машина. Из разряда тех, что кормили меня кашей на рассвете. Тебе безразлично мое состояние. Уходи. Кронус долго молчал. - Я вынянчил десять тысяч поколений. День за днем. Абсолютно все они говорили мне то же самое, что и ты сейчас. Ненависть – естественная человеческая реакция, вызванная собственным бессилием перед неотвратимостью. Это пройдет. Через час ты будешь озабочен другими проблемами, ты не сможешь пойти против природы. Ты человек, Алан, и тебе присуще все человеческое. Не буду тебя раздражать. Кронус ушел по направлению на север от лагеря. Его силуэт вибрировал в знойном мареве. Алан сел на землю и заплакал: вот она, беда. Он не хотел никуда идти, он просидел бы на этой черствой земле вечность. Время сожрет его, вместе с его сородичами. - Ты убиваешься зря, - прозвучал у него над ухом резкий, насмешливый голос, - Твой робот-нянька прав. Всегда и во всем. Как и мой, но я уничтожил его, он слишком много болтал. Алан вскочил – перед ним стоял тот самый парень со шрамом. - Кто ты? - Меня зовут Яков. Но мне не нравится это имя. Я предпочел бы другое - Мафусаил. - Какое тебе дело до моих переживаний? Можно подумать, ты чем-то от меня отличаешься. - В сущности, конечно, ничем. Мне интересно, так ли ты на самом деле умен, каким кажешься. Ближайшие часа два это покажут. Парень вызвал у него неприязнь. - Минуты идут, мы взрослеем, и от каждого из нас зависит, с какими результатами мы придем к финишу. Каждый из прибывших сюда ощущает это. Каждый понимает, что можно целый день просидеть на голых камнях и сдохнуть, так ничего не пережив, не получив удовольствия. Я уверен, что наши кукловоды постараются обеспечить нам сладкую жизнь, чтобы умирать было не так горько; в городе откроются Залы развлечений, Залы соревнований, Залы зрелищ, экскурсии и тому подобное, люди потянутся туда, люди с остервенением набросятся на этот наркотик, - Яков вздохнул. - Вся соль в том, что это бессмысленно, они ничего не достигнут, насладившись вдоволь оргиями, они с радостью примут смерть, смерть станет для них избавлением от мук совести. Так что у тебя все впереди, Алан, иди к своей девушке, получай удовольствие вместе с ней, пока можешь. И Яков двинулся прочь. - Стой! – хрипло окрикнул его Алан. - Никогда! Я буду двигаться вперед, пока не умру. Яков все больше удалялся, Алан стоял, не зная, что и делать. - Где мне тебя найти? - Хижина номер «15»! Он вернулся к друзьям. Все они приняли истину по-разному, но в их действиях явно читалось торопливое стремление жить. Это перестало походить на сообщество веселых подростков. Шер смотрела на него уже по-другому, с желанием. Улучив минуту, когда они остались одни, она взяла его за руку. - Это жестоко и несправедливо. - Такова жизнь. - Лучше бы мы вообще не появлялись на свет. - Да. - Алан, я прекрасно понимаю твои чувства. Я думаю, ты тоже понимаешь мои. - Не сомневайся. Оба посмотрели на часы. Тринадцать. Разгар дня. Зенит жизни. - Давай улетим куда-нибудь подальше, - предложил он, - Чтобы никто не мог нас увидеть. - Никому до нас нет дела. Каждый заботится о себе. Они сели в геликоптер, захватив необходимое. Алан проложил курс в район субтропических лесов. Они провели вместе ровно час. Десять биологических лет. Это был самый продолжительный период счастья в жизни Алана. - Пора возвращаться, - сказал он, смотря на циферблат, - Четырнадцать часов. Машина принесла их обратно, к поселку, к хижине, к друзьям. Курт, Дин, Сандра изменились до неузнаваемости, это были зрелые мужчины и женщина. Курт еще больше раздался в плечах, Дин стал долговязым флегматиком, Сандра тоже остепенилась, движения ее приобрели аристократизм. - Скучали без нас? – осведомился Алан. - Разумеется, нет, - отрезал Дин, - Как впрочем, и вы. Все рассмеялись. Процесс шел своим чередом: необратимый процесс, который нельзя остановить. Они сидели за столом и принимали пищу. - Предлагаю совершить путешествие к последним городам, - сказал Курт. - А я хочу в обсерваторию, - это высказалась Сандра. - Я бы предпочла Зал искусства, - произнесла Шер. - Сколько людей, столько и мнений, - решил Алан. – Что ж, пусть каждый выбирает сам, но лично я отправляюсь с Куртом. - Отлично! Вылетаем! – Курт довольно стукнул по столу кулаком. - Ладно, уговорили, я с вами, - проворчал Дин. Женщины уставились друг на дружку. Секунды внутренней борьбы. - Мы отправимся на орбиту. Огромная, пустынная, мертвая равнина, полностью лишенная растительности, раскинулась перед ними, бесконечное плато, убегавшее на тысячи километров во все четыре стороны света. Казалось, оно покрывало всю планету. Трое мужчин в защитных комбинезонах стояли возле остывающего коптера, в паре километров от них в пыли скорчился город. Алан отметил, что на земле вновь появились тени. Тени будут удлиняться. Город разлагался здесь миллион лет. Планета старательно уничтожала его дождями, ветрами, жарой и холодом. Временем. Но город боролся с забвением: руины непреклонно возвышались над пустыней. Нет, долго он не выдержит, еще немного, и рассыплется в пыль. Курт вытащил из грузового отсека небольшой эллипсоид, нажал какую-то кнопку и положил его на песок. Предмет с жужжанием взмыл в воздух и завис где-то на уровне глаз. Бодрый металлический голос заговорил: - Здравствуйте, люди, я Гид, я знаю все об этом памятнике древней истории. Я буду сопровождать вас в путешествии и не заговорю, пока вы не попросите. - Пойдем, - махнул рукой Курт. Гид вел их к городу. - Как назывался этот город? – спросил Алан. - По имеющимся в летописях сведениям он назывался Гонконг. Он стоял на берегу океана. Океан давно высох, движения пластов стерли неровности рельефа. - Сколько в нем жило людей? - Приблизительно десять миллионов. - Какова роль городов? – поинтересовался Дин. - Города аккумулировали материальные ресурсы человечества, были средоточием культуры. Большинство обитателей Земли почти всю свою жизнь проводили в городах. Самые большие назывались мегаполисами. Некоторые города были столицами государств. Все производство концентрировалось в городах. Города являлись форпостами цивилизации в покорении мира, и много позже, с освоением космоса, не утратили своей решающей роли. Они допрашивали Гида с возрастающим интересом. Алан шел по стершимся в порошок улицам, представляя себе, как миллион лет назад здесь кипела жизнь, людские реки текли вдоль автострад, поезда с оглушительным воем проносились по эстакадам. Здесь как нигде сильно ощущался дух человеческого присутствия, даже после стольких лет. Алану пришла мысль, что все сделанное ими бессмысленно. Замки из песка, смываемые прибоем времен. Ты в силах изменить мир, плоды твоих трудов будут наполнены значением, конечно, если найдется свидетель, способный их оценить. Они смотрели на пустую сцену, на ветхие декорации без актеров, при виде которых ком подступал к горлу. Пустоте не нужны шедевры. Пустота к ним безразлична. - Думаю, хватит, - сказал он. – Мы достаточно увидели. И они повернули назад. - Люди погибли, - произнес Дин, - но отчего? - Люди исчезли, - поправил его Курт, - просто исчезли, испарились, словно их и не было. - А разве это не равносильно смерти? – воскликнул Дин. - Этот вопрос можно отнести к разряду философских. Смерть не нарушает гармонии материального мира, тело умершего остается на прежнем месте. Что касается исчезновения…. Ничто не может просто так исчезнуть, ни материя, ни энергия. - Я знаю этот древний закон: если что-то в одной точке пространства исчезает, значит, оно обязательно появляется в другой. Людей нет больше в Галактике, куда они могли деться? - Я не знаю, - развел руками Курт. - Никто не знает, - отрезал Алан, - потому что никто не работал над проблемой вплотную, времени слишком мало, чтобы решать столь отвлеченный вопрос. Никому не захочется ломать голову дольше минуты. Ни у кого не хватит терпения. - Я знаю ответ! – внезапный крик откуда-то сверху. Они вскинули головы. С возвышения, довольно ухмыляясь, на них смотрел Яков. Он каким-то образом ухитрился взобраться на постамент памятника, статуи человека без правой руки и головы. Уцелевший рукой он указывал на пустыню, будто хотел показать им нечто важное. Постамент был квадратный, не меньше пяти метров в высоту. - Это еще кто? – спросил Курт. - Ты его знаешь? – спросил Дин у Алана, потому что Яков сверлил взглядом только его одного. - Знает! Мы с ним знакомы! - крикнул Яков, - Ну как твоя жизнь, Алан? Уже прожил половину? И что же ты делал все это время после обеда? А твои дружки-придурки? Какими ветрами вас сюда занесло? - Неважно, - процедил Алан. – Слезай. - Это кто тут придурок?! – зарычал Курт, - Немедленно приноси извинения, мерзавец! - И не подумаю, слизняки!! - огрызнулся Яков. - Какими баранами были, такими и помрете. Убирайтесь прочь из города, уносите ноги с мертвой земли предков, тупые скоты! Доживайте свой век и помните, что одному из сегодняшней популяции удалось раскрыть величайшую тайну мира! - Ну, сейчас я тебе покажу… - с этими словами Курт двинулся к постаменту, Дин вслед за ним. - Слезай по-хорошему, Яков, - предупредил Алан, - Мы не причиним тебе вреда, правда? - Конечно, только научим, как соплеменников уважать. Яков громко расхохотался в ответ: - Рассчитываете на мой страх, ничтожества? Я вас не боюсь. Не приближайтесь ко мне, иначе упадете в песок мертвыми раньше срока! Это я гарантирую. Он взмахнул блестящим острым предметом. - Курт, остановись! У него оружие! Но Курт, поддерживаемый товарищем, упрямо карабкался на постамент. Горсти щебня катились к ногам Алана, который крикнул: - Яков, никто не должен пострадать, убери нож, Яков. - Ты опять пытаешься остановить меня, - почти ласково проговорил человек со шрамом, - Я не желаю останавливаться. Твои друзья не слушают тебя. Что ж, они заслуживают моего клинка, раз не понимают степень грозящей им опасности. Алан знал, что он прав. Курта ничто не остановит, ослепленный яростью, он вскочил на постамент. В показавшихся за его спиной глазах Дина читалась тревога. - Эй, Курт, мне кажется, не стоит трогать этого психа, - неуверенно сказал он, - У него же нож, он прирежет тебя, как свинью. - Честь дороже жизни, - отрезал Курт и, еще больше пригнувшись, двинулся на противника. Хищник, готовый к прыжку. Алан бросился к месту схватки, но было слишком поздно; слишком медленно тянулся к голени Курта Дин, слишком неосторожно сделал выпад Курт - кулак прогудел в воздухе. Зато Яков действовал четкими рассчитанными движениями. Удар – и лезвие ножа вошло Курту глубоко под ребра. Брызнула темная кровь, Курт взревел от отчаяния, что не смог восстановить справедливость, согнулся и сел. Подоспевший Дин с нечеловеческой силой отшвырнул Якова к краю площадки. Тот словно завис на какой-то момент над пропастью, тщетно пытаясь удержаться. И рухнул на землю, гулко ударившись головой о булыжник при падении. - Нет!!! – кричал Алан. - Нет. Из разбитого темени, из проломленного черепа Якова сочилась, мгновенно впитываясь в сухую почву, все та же кровь. Алан в два счета вскочил на постамент. Над остывающим трупом друга рыдал Дин. Наверное, Курт был единственным среди них, кто понастоящему не боялся смерти. Гид одиноко жужжал где-то в стороне, ожидая вопросов. Яков был все еще жив. Из его груди доносились приглушенные хрипы. - Тварь, - злобно сказал Дин. Они стояли над умирающим, они ждали. - Дин, он человек, как и мы. Дин ничего не ответил, развернулся и пошел к геликоптеру. Гид послушно поплелся за ним. Алан сел на корточки, приготовившись закрыть Якову глаза на случай, если тот умрет с открытыми. - А, это ты…. – прохрипел Яков, очнувшись от забытья. Такое бывает, когда конец близко. Лицо его белело на глазах, зрачки запали, губы позеленели от недостатка крови. - Похоже, мне крышка, - оскалился Яков. - Я рад, что… ты со мной в эту минуту. - Мне жаль, что ты не доживешь до вечера. - А мне нет. Я счастливый человек. Я умираю молодым и не сгнию от старости. – Яков отдышался, - Послушай, я знаю ответ на вопрос. - Откуда? – выдавил Алан. - Все эти часы я провел в напряженном размышлении, пытаясь применить усвоенные знания. Ответ близко, слишком близко и поэтому его никто не замечает. Яков попытался поднять руку, но она безвольно обвисла. Силы покидали его. - Так в чем же дело? - Во времени. Проклятое время. Алан, человек всегда хотел победить время…. - Я не понимаю. Но Яков уже не мог говорить. Через десять секунд он умер. Алан стоял над мертвецом и смотрел на собственную тень. Да, человек ведет битву со временем. Но неизбежно проигрывает. Алан побрел к машине. Через минуту они летели домой. Три часа дня. Алану исполнилось сорок биологических лет. Но внутренне он ощущал себя немощным стариком. После трагедии Дин ударился в развлечения, пытаясь заглушить горечь потери друга. Сандра последовала его примеру. Космос не впечатлил ее: «От смерти не убежишь и на миллион световых лет». Зато Шер поведала Алану все подробности их путешествия, ощущение невесомости, мерцание звезд. В паре километров от поселка находился Музей творчества, где они провели полтора часа, рассматривая произведения, созданные предыдущими поколениями. Скульптуры, картины, проекции, аудиовизуальные работы, музыка, стихи. Большинство из них навевало печаль, дышало закатом, концом, было пропитано страхом их создателей – тех немногих, отказавшихся от развлечений в пользу творчества. Но встречались и другие, требующие пристального внимания, сложные, запутанные, притягивающие взгляд, наполненные неуловимым внутренним смыслом. Такие проекты требовали многих часов кропотливого труда. Закончив осмотр, Шер твердо решила стать художником. Им не хотелось находиться в поселке, хижина, где они жили вместе, напоминала о прошлом. Алан знал, что все наставники собирались в небольшом цилиндрическом строении без окон. Там он разыскал Кронуса. - Мы с Шер хотим поселиться в каком-нибудь уединенном месте подальше отсюда. Кронус улыбнулся, он нисколько не изменился за прошедшие часы. Он внимательно выслушал требования к месту расположения жилища. - Конечно, Алан, я позабочусь об этом. Подожди пару минут. – Кронус ушел, но скоро вернулся. - Вас устроит средняя полоса, домик возле озера с чистой водой и лесом неподалеку? Они ответили, что устроит. - Замечательно. Вот карта, красной точкой указан пункт назначения. Приятного времяпрепровождения. Они собирались, было уйти, но Алан внезапно спросил: - Как я смогу тебя разыскать, если ты мне понадобишься? - Очень просто, по внешней связи. Черный прямоугольник на стене. Дом был срублен из настоящей древесины, никакого намека на искусственный материал. И утварь тоже – деревянные столы, стулья, кровати, кресла. - То, что нужно, - удовлетворенно сказала Шер, осмотрев все как следует. Они сидели за столом, не спеша ели ужин, солнце заглядывало к ним в окна. Оно здорово переместилось на небосводе за эти часы. Потом они гуляли по берегу озера. - Вечер, - сказал Алан, посмотрев на красный циферблат. - Шесть часов. - Я должна успеть создать что-нибудь напоследок. - Ты хочешь сделать это только лишь для того, чтобы другие увидели? Она долго смотрела на него. Потом ткнула в бок. По ее лицу совершенно невозможно было прочитать какие-либо эмоции. Все-таки, женщина странное существо. Никогда не предугадаешь, какова будет ее реакция. - Я не хотел тебя обидеть, прости. - Ты начинаешь седеть, Алан. Твоя кожа дряхлеет, - заметила она, трогая его, - Со мной, наверное, то же самое происходит. - Не надо об этом думать, - он хотел прибавить что-то типа «дорогая», «любимая», но это прозвучало бы фальшиво. - Я улечу на полчаса – хочу облететь планету, увидеть все в последний раз. Я обязательно вернусь. Не скучай без меня. Он подумал, что надо бы ее обнять, но медлил. Он медлил всю свою жизнь, он так и остался неуверенным ребенком. Она все сделала за него, она поняла, что нужно сделать. За такое качество он ее и любил. Алан поднял машину на две тысячи метров. Руки подрагивали, тело сковывала усталость. Планета стелилась под ним, словно ковер. Океаны, равнины, континенты, ледники, снежные хребты гор. Столько сил потрачено, и все впустую. Он все еще мог изменить мир, несмотря на всю свою ничтожность. Он может разбить коптер где-нибудь в вечной мерзлоте, или отправить его в стратосферу. Пора было возвращаться. Казалось, дом напоен тишиной. Даже листья на деревьях не трепетали. Алан понял: что-то случилось. Он ворвался внутрь, он звал Шер. Никто не отвечал. Предчувствие беды, плохое, которое, возможно отравит ему вечер. Он задыхался, адреналин заставил учащенно биться сердце. Он понял, что дома ее нет, он побежал к озеру, по тропе в лес. Его крики тонули в ватной тишине сосен. Опушка. Тело. Шер, слава богу, она жива. Окровавленное лицо, следы побоев. Он отнес ее в дом, положил на кровать, промыл раны. Все это время она оставалась без сознания. Медленно открыла глаза. - Умоляю, еще не поздно, у меня есть сила, скажи, кто? Ее губы шевельнулись, но не издали ни звука. - Ди.…Ди… Он затрясся, но справился с собой. Подонок здесь, он не мог далеко уйти. В сенях на стене висел парализатор на случай нападения диких зверей. Алан успел: выскочив из укрытия, его друг бежал по направлению к коптеру, еще пара шагов и он улетит. Алан настроил оружие на максимальную мощность, прицелился и выстрелил. Дин упал как подкошенный. Алан медленно подошел, встал над ним. - Почему? - Эта сучка всегда мне нравилась, – ухмыльнулся он, - но выбрала неудачника и труса. Алан выпустил заряд прямо в сердце. Дин замер с пеной у рта. Он вернулся к Шер. Медицинские приборы показывали, что у нее внутреннее кровотечение. Она смотрела ему в глаза, она что-то искала в них, а когда нашла, успокоилась. - Картина на веранде, - это были ее последние слова. И улыбка. Он не плакал, просто сидел рядом, у постели. Он поднялся на второй этаж, на веранду, картина стояла там, два на два метра. Картина изображала космос. Лилово-молочное сияние Вселенной. Искры звезд. Ему не хотелось есть, не хотелось спать. Он подошел к черному прямоугольнику, нажал нужную кнопку. Появился Кронус. - Ты мне нужен. - Через пять минут я буду здесь. Кронус прибыл через пять минут, упаковал тела, погрузил их в машину, и отправил ее на автопилоте обратно в лагерь. - Порой некоторые человеческие поступки совершенно невозможно объяснить с позиций здравого смысла, - сказал Кронус. - Пожалуйста, помолчи, - Алан вытащил кресло на веранду, оттуда открывался прекрасный вид на ровную линию горизонта, - просто побудь со мной. Садись, вот стул. Время шло, минута за минутой. Алан сидел в кресле и размышлял. Он не торопился думать, он спокойно пропускал через себя поток мыслей. Мир впадал в спячку. - У меня к тебе вопрос. - Я слушаю. - У меня будут дети? - Конечно. Ваши с Шер. Мы давно не клонируем, это привело бы к вырождению и уродству без того малой популяции. - Это хорошо. Там, в комнате есть картина... Принеси лист бумаги. Получив листок, Алан несколько минут старательно выводил послание. Это показалось ему самым тяжким трудом. - Пока у меня еще есть силы, - Алан чувствовал, что начинает задыхаться, - я хочу, чтобы ты выполнил мою последнюю просьбу…. - Да, Алан. - Передай это моему сыну или кто там появится. Кронус принял сверток. - Будет исполнено. Вдруг Алан вырвал письмо из рук наставника и, без объяснений, порвал его в мелкие клочья. Кронус оставался непроницаем. Солнце увеличилось, небо заалело, руки и лицо Алана стали золотисто-оранжевыми. Солнце уже задевало краем кромку горизонта. Конец дня близился. - Ну вот, - сказал Алан, смотря на часы, - восемь вечера. Он вынул из кармана свою свистульку и отдал ее Кронусу. Завтра Кронус вручит ее другому человеку. - Я улавливаю грусть в интонациях твоего голоса, - мягко и как никогда по-отечески сказал Кронус. - Завтра наступит новый день, родятся новые люди, солнце будет греть и радовать их. Послезавтра произойдет то же самое, и так до самого конца. Взгляни на мимолетность своего бытия по-другому: история человечества играет такую же молниеносную роль в летописи Вселенной. Какой бы короткой ни была твоя жизнь, она данность, которую отнять у тебя не способен никто. - Кроме времени. - Ты можешь прожить тысячу лет, можешь две секунды. Многие живые существа живут в таком последнем темпе – бактерии, насекомые. Уйди с миром. Пыль к пыли, прах к праху. - Ты знаешь погребальную молитву древности? – слабо улыбнулся он. - Я увлекаюсь историей твоего рода. - Мне становится трудно говорить. – Алан с трудом сделал глоток. Закат приобрел кроваво-красный оттенок, солнце еле выглядывало из-за горизонта. Повеяло прохладой. Сгущались сумерки. - Прощай Кронус, - прошептал он. - Прощай Алан. Робот исчез в полумраке. Мысли медленно затухали в его разрушающемся мозгу. Самая последняя и самая ясная заставила его напрячься. Нашелся ответ на вопрос, ответ, слетевший с запекшихся губ Якова. Но она уже ни имела для него значения. Потеряла всякую ценность. Люди хотели победить время. Ну, конечно же. Человечеству пришел конец именно по этой причине. Став бессмертными, люди перестали быть людьми. Переродились. И никогда не узнают, что такое жизнь. Он уснул с последними лучами закатного Солнца. «Он перестал существовать?» «Да. Органы больше не функционируют». «Этот экземпляр выделяется среди прочих». «Да, любопытная была особь. Жаль, что они недолговечны». «Жаль, что мы утратили технологию наших предшественников! Представь себе, когдато срок жизни людей составлял не недели, и даже не месяцы, а годы. Годы! Десятки лет! Сколько времени, сколько возможности для продуктивного наблюдения, какое поле изучения, вот где можно было получить массу новой информации. И знаешь, самое обидное заключается не в том, что уцелело всего-то несколько сотен этих прекрасных представителей цивилизации, не в том, что за такой смехотворный промежуток времени лишь единицы достигают пика развития и способны творить, не в том, что по всей планете мы сумели отыскать три древних поселения, находящихся в крайне ветхом состоянии, а в том, что у нас даже не осталось архивов с ранее полученными данными и все приходится начинать заново!» «Да, безусловно, это трагедия вселенского масштаба. Удивляет, что они вообще появились на свет. И, кстати, этот факт увеличивает ценность популяции. Ведь молекулярная структура ткани человека слишком хрупка и крайне неустойчива. Крайняя редкость среди известных форм разумной жизни. К тому же, поразительно, как смогли столь слабые создания, такие уязвимые, покорить целую Галактику и не оставить после себя практически никаких следов. Что же с ними со всеми случилось? Почему они исчезли? Должна быть причина, объяснение». «Боюсь, что это навсегда останется тайной, разве что… нам удастся узнать…из наблюдений». «Не думаю. Вряд ли выращиваемые особи могут что-то знать о своих праотцах, кроме тех фактов, о которых говорим им мы. В человеческих летописях не упоминается об этом ни слова – еще одно доказательство того, что гибель постигла их внезапно». «Меня всегда занимал другой вопрос, который ты уже упомянул: в чем сила человечества?» «Знаешь, мне кажется, его следует задать самому человеку». «Человеку?» «Да». «Он меньше всего знает ответ. Ни один человек не способен сделать это». «Возможно. Мы никогда не пытались говорить с ними без посредников. Кстати, у меня есть одна теория на этот счет. Конечно, это теория…» «Я слушаю». Заминка. Шорохи. «Людская сила или могущество заключается в людской смертности. Человек устроен так, что рано или поздно он неизбежно умирает, и с этим ничего нельзя поделать. Не все из них способны пересилить страх перед хаосом небытия, а те, кто переступает черту, осознавая свою возможность оставить след в памяти новых поколений, именно эти индивиды работают на развитие рода в целом, уже не заботясь о собственной судьбе. Если тебя не будет через энный промежуток времени, а сейчас ты есть, думают они, значит, ты есть по какой-то причине (хотя этой причины на самом деле нет), и ты наделен правом оправдать свое пребывание в этом мире. Смертность вызывает постоянное желание двигаться вперед». «Твои аргументы звучат вполне убедительно, - непродолжительное молчание, Надеюсь, у нашей особи будут потомки аналогичного склада ума». «Завтрашний день покажет». Гуманоиды запрокинули головы. В ясном ночном небе загорались звезды. Одна за другой. Андрей Ветер Карнавал Маскарад! Время обманчивых лиц и раскрашенной лжи! Море ярких безумных физиономий из картона, море музыки, превратившейся от избытка в поток шума, море голосов, море пёстрой одежды. Брызги фейерверка. Заразительное ржание многочисленных шутников. Ласковые женские руки, прижимающие тебя в танце. Проворные пальцы карманников, виртуозно забегающие в карманы веселящихся. Сколько разных чувств. Сколько шаловливой таинственности! Сколько вседозволенности! Совершенно круглый шар вместо головы — вот что увидел я на чудненькой женской фигурке возле себя. Никаких признаков лица не проглядывалось сквозь странную и даже жутковатую маску. А платье было похоже на сшитые между собой обрывки различных материй, довольно тесно прилегавшие к телу. В отдельных местах кусочки ткани то ли расползлись, то ли специально не были сшиты, чтобы создать эдакий интерес в адрес хозяйки, и в таких местах очаровательно виднелась голая кожа. Я обхватил эту женщину за талию и повлёк её за собой в безумный хоровод пляшущих. Должен заметить, что бурное веселье обыкновенно делает людей похожими на обезьян. Взбрыкивающие ноги, пропеллеры вместо рук, идиотский хохот — всё весьма забавно, когда являешься полноценным участником таких действ. Но теперь я смотрю на эту карнавальную пляску, как на праздник уродов, ибо маски на лицах неподвижны и мертвы, движения нелепы и безобразны, а звуки, изрыгающиеся из ротообразных щелей масок, в нормальной обстановке сошли бы за вопль больного в усмирительной рубашке. Однако я сам орал и восторженно хохотал, слыша безумный мой голос, и безобразно извивался в ковылявшем ритме танца. Партнёрша подпрыгивала напротив меня, шлёпала ладонями по своим взлетавшим ногам и издавала чёрной круглой головой очень самодовольное хихиканье. Я энергично закатал рукава длинной клоунской рубашки и освободил руки для шалостей. Шалости я наметил вполне определённые — максимально увеличить количество разошедшихся лоскутков на платье дамы. Мне это удалось довольно скоро. Но если на хозяйку изорванного платья теперь совершенно открытое голое тело не произвело впечатления, то я впал в состояние явно далёкое от цивилизованного равнодушия. Разноцветные вспышки фейерверков то и дело выхватывали из тьмы движения обнажённых ног и живота. Я видел в полуметре от себя прыгавшие шарики грудей с напрягшимися пупырышками сосков. И тут вдруг что-то обожгло меня, что-то колючее, маленькое. Может быть, это была искорка бенгальского огня в неосторожной чьей-то руке. Я замотал головой, а когда успокоился, то увидел нагую фигуру совершенно спокойной. Чёрный шар пусто пялился на меня. На секунду мне сделалось жутко, исчез даже вульгарный обезьяний порыв в нижней части тела. Я тоже остановился и увидел её протянутую руку. Длинную, тонкую, полную холодной силы притяжения. И я шагнул к той руке, шагнул к женщине без лица, шагнул к дивной открытой фигуре. Я — напомаженный Пьеро, родившийся из брызг карнавала, нелепый человек в белом. Мы пошли через буйную толпу, и никто не смотрел на нас. Молния предупреждения пронзила мой мозг, но я не успел отреагировать. Кто-то, слепой от безумной радости, сильно наткнулся на меня плечом. Удар развернул меня, и в пылавшем огне я разглядел на том месте, где я только что танцевал, мою спутницу, её блестящую круглую голову. Я посмотрел перед собой и растерялся, увидев всё ту же чёрную жемчужину вместо головы. Но и позади меня была она. Я ощутил это совершенно ясно, безошибочно, всем существом. В толпе оставалась не другая в таком же обличье, а та же самая женщина. Но и эта молния угасла в моём возбуждённом сознании, так и не остановив меня. И бледная рука с красивыми и ласковыми движениями пальцев повлекла бедного Пьеро дальше. Толпа безумствовала в водовороте праздника. Чёрная жемчужина проникла в какую-то дверь и поманила меня к себе. Я вошёл и тут же увидел множество расставленных вдоль стен зеркал. В них пенилось огневое ликование маскарада. Отражался в них и я. Попадали в зеркала и лохмотья, едва прикрывавшие нагую фигуру. Фигура приблизилась ко мне и принялась развязывать верёвку на широких клоунских штанах. В зеркалах я заметил, как пышно скользнули вниз белые штанины. На полу разметались и сброшенные лохмотья. Безголовое тело с готовностью развернулось перед моим желанием. Я говорю «безголовое», потому что в темноте растворялась чёрная голова, и казалось, что шевелившаяся на полу женщина не имела её вовсе. Я подполз к ней на коленях и ощутил жаркое прикосновение её раздвинутых ног. — Сними свою дурацкую маску, — взволнованно услышал я собственный голос. — Это не маска. Я уже работал руками над её телом, громко дышал и сопел. Её руки скользнули под мою рубашку и вынырнули возле моего лица из широкого ворота. Длинные пальцы потеребили мои напудренные щёки. Я не удержался и припал губами к её шее... И остановился. Белизна её кожи над ключицами начинала теряться и уже на середине шеи становилась совершенно чёрной. На подбородке кожа приобретала некоторый блеск и натягивалась гладкой поверхностью шара над всей головой. Вернее сказать, над тем местом, где обычно у всех голова. Потому что у женщины головы не было. У неё был блестящий чёрный шар, который оказался вовсе не маской. Я закричал очень громко, но голоса моего не услышал, потому что страх законопатил мне уши до самого мозга. Помню, как я шарахнулся от неё, путаясь в спущенных до пяток штанинах. Ударившись о толстое зеркало лбом, я услышал звон и понял, что слух ко мне вернулся. Однако, открыв глаза, я закричал ещё громче, ибо вместо моего лица на меня таращилась настоящая рожа шимпанзе, размалёванная под Пьеро. Я отчётливо помню дырочки ноздрей, вскинутую верхнюю губу, распахнутые челюсти, зубы… — Что ты кричишь? — в зеркале отразился и чёрный шар. — Что ты меня испугался? Подумаешь, голова у меня особенная. Тебе же не голова нужна, не лицо. А то, что нужно, в полном порядке — тёплое, податливое, тесное. Сам-то ты тоже не красавец. — Это не я! — заорал я в панике, тыча пальцем в зеркало. — Я знаю. Но ты таким сюда пришёл. Мои руки стремительно подцепили штаны, ноги бросились к двери, а горло издало визг, явно принадлежащий не мне. Дверь я распахнул всем телом наружу, хотя при входе она открывалась внутрь. Но уж что удивляться, когда я был не я. Улица встретила меня тишиной и пустотой. Но пустота была унылой и жуткой. Пахло дымом. Ветер шевелил шуршащие обрывки цветастых ленточек и бумажных шляп. Переползали с места на место фантики и надувные шары. Гладкие стены высоких серых домов молчаливо уставились на меня чёрными квадратами окон. Я резко обернулся и, не отрывая глаз от бездонной пустоты двери, откуда я вырвался, попятился. Я двигался медленно, боясь издать лишний звук. Но злобный волшебник той ночи решил надорвать моё сердце ещё одной шуткой: под ногу мне попалась забытая кем-то гитара. Можете себе представить внезапный грохот её тонких деревянных стенок о мой каблук. А звон струн, эхом запрыгавший по стенам домов. В свете догоравших тут и там факелов моя белая фигура в стремительном беге могла показаться случайному прохожему мелькнувшим привидением. Но прохожих не встретилось. Улица крепко уснула или даже умерла. Этого я не узнал никогда, так как ноги несли меня с непередаваемой скоростью долгое время. Я оставил позади город, добежал до заброшенной станции и там рухнул без сил в высокую траву. Здесь только я заметил, как стучало сердце, выскочившее из груди к самому горлу. — Эй, что это там белое такое? — раздался чей-то далёкий голос. — Тряпка, что ли? — ответствовал другой. — А чего валяется без дела? Давай прихватим… Когда шаги стали приближаться через шуршащую траву, я понял, что речь шла обо мне. Белый костюм Пьеро светился под луной. — Так тут человек… — А что он разлёгся тут? — Так он из маскарада, наверное. В городе сегодня праздник. — Упился, что ли? Пьяный он или как? Они долго смотрели мне в размалёванное лицо. А я упорно молчал. — Чудной. В пудре весь, как баба, — сказал один. — А я не обезьяна? — вырвалось вдруг из меня. — Нет, ты — клоун, — серьёзно откликнулся второй. Они подняли меня, отряхнули слегка и повели с собой, расспрашивая о празднике. Читатель, обладающий тонкой и чувствительной натурой, должно быть, поймёт без лишних слов моё скверное состояние после имевших место событий и не осудит за молчаливость, в которую я внезапно провалился. Изредка я лишь бурчал в ответ невнятные слова. А вокруг стелилась ночь цвета синих чернил, и густые волны её раскачивали безвольную уснувшую степь. Над моей головой сгустилась в пространстве белая дырка и превратилась в луну. И я ощутил некоторое подобие спокойствия. Широкие стебли шумно сминались под ногами, одновременно с шуршанием с них ссыпалось нечто, напоминавшее росу, но росу чёрного цвета. Заметив во тьме эти жемчужинки, я понял, что воспалённое воображение моё вовсе не остыло, как мне показалось первоначально. Я даже разглядел в некотором удалении от нас лунный свет, упавший на круглый чёрный шар, под которым угадывались женственные очертания. — Куда мы? — взволнованно обратился я к моим спутникам. — Отдыхать идём. Сегодня было много работы, длинный день. Скоро доберёмся… И мы на самом деле скоро добрались. Меня сильно удивило, что вошли мы в дверь той самой заброшенной станции, которая угрюмо возвышалась над таинственно раскачивавшейся степной травой. Это была та самая станция, до которой я успел добежать и рухнуть без сил возле самого её порога. Но шли мы до неё достаточно долго. Кругами бродили, что ли? Дверь натужно заскрипела и выплеснула на нас полосу жёлтого электрического света. — Гости... — Привет хозяину! — Один из моих спутников отпустил меня и протопал к столику, что стоял посреди помещения, устало повалился на стул и вытянул ноги в огромных грязных башмаках. Другой похлопал меня по плечу, как бы желая подбодрить. И тут же они обо мне позабыли, словно перешли в какое-то другое измерение. Я остановился в растерянности. — Артиста привели? — Хозяин, одетый в пятнистые военные штаны и белую майку без рукавов, довольно постучал себя по мощным рукам. — А ну-ка, артист, сострой мне весёленький номер какой-нибудь. Умеешь веселить добрых людей? Ты, как я погляжу, клоунством промышляешь? Я вяло покрутил головой и сделал пальцами отрицательный жест. В ответ на это из-за дальнего столика выскочил не замеченный мною карлик и просеменил ко мне на кривых ножках. — Ночь-то какая, — прошипел он снизу, однако я не понял, что именно он имел в виду. А он выпучил глазищи и, уцепившись ручонками за подол моей белой рубахи, принялся шевелить толстыми губами. — Дорога окутывает всякого путника в наши дни, как она делала это и сотни лет назад, потому что дорога составляет нашу жизнь. И странности обязывают человека видеть в жизни бесконечный заколдованный круг, артист. В твоих глазах я читаю ужас и недоумение. Это оттого, что ты… Он не договорил и вдруг прикрыл рот ладонями. — Ты что заткнулся, Трепач? — громко спросил хозяин. — Чую приближение… Приближение всегда очень важно… К приближению надо быть готовым, — проворчал карлик и поспешил к своему столу, там он забрался на стул и ухватился за рюмку. — Я стоял и неотрывно смотрел на него, вернее, не на него, а на стену позади этого человечка. Над самой его головой висела картина. Я приблизился к ней тяжёлыми шагами. С холста на меня взирала отрубленная обезьянья голова из лужи булькающей крови, а верхом не ней сидела маленькая фигурка голой женщины, у которой на шее вместо головы был насажен чёрный блестящий шар. Я обвёл глазами помещение станционного кафе, но никто на меня не смотрел. И не слышалось ни звука, хотя трое посетителей и сам хозяин то и дело наливали из бутылок в свои рюмки, опрокидывали их и с силой ставили на стол. Они пили с каким-то остервенением. Задирали голову, вливали вино и снова наполняли рюмки. И всё в ватной тишине. Или мои уши снова перестали слышать от страха? Я сел напротив карлика и услышал собственный голос. — Я не тут… собственно… я хотел сказать… что живу я в совершенно ином мире… — Нет, нет, всё не так, — карлик покачал перед моим напудренным носом указательным пальцем. — Я полагаю, что это сон. Такое бывает, такое случается, — попытался продолжить я мысль. — Очень длинный сон. Очень подробный. Вот сейчас открою глаза и проснусь... — Нет, нет. Всё не так, — карлик брезгливо сложил губы в бантик. — Вся жизнь есть сон, артист, так что не спеши просыпаться. Когда ты проснёшься, ты умрёшь… И в ту же секунду этот кривоногий коротышка с невероятной прыткостью вспрыгнул прямо ногами на стол, беззвучно сшибив бутылку, и бросился на меня вперёд своей большой полулысой головой. Я увидел плеснувший по коже его лба матовый свет и ощутил между глаз удар огромного бильярдного шара. После того мир на мгновение оглушился карнавальным криком толпы и озарился искрами бенгальских огней, а следом за тем тонко запищал и стянулся в глубокую чёрную точку. Я успел услышать, как лязгнул засов безмолвия, и провалился в глухую тьму. Страх, читатель, это такое чувство, думается мне, через которое проходило большинство умов, но далеко не всякий способен определить, какой именно страх касался его души. Многие заверяли меня в своё время, что разбирать подобные состояния глупо, нелепо и чуть ли даже не пошло. Но пускай даже так. Я всё равно считаю, что природа данного чувства такова, что постижение её имеет первостепенную важность. И, на мой взгляд, пусть и не поддержит меня никто в моём мнении, избавление от страха ведёт человека к полному освобождению. А может ли быть что-нибудь важнее освобождения? Перешагнуть через страх — это с равнодушием смотреть в ненавидящие глаза смерти при её внезапном появлении. Отшвырнуть покрывало ужаса и кошмара... Но что такое ужас? Я не могу, не способен, не умею объяснить. Я лишь знаю, что к смерти он не имеет отношения. Я доподлинно помню, что он скрывается за безликим чёрным шаром вместо головы, из которого исходит вовсе не дыхание смерти, но холод неизвестности. Ах, я опять отвлёкся. Но мысли мои, пусть и нескладные, требуют выхода, а я пытаюсь их сдержать, пытаюсь всеми силами успеть рассказать о событиях, имевших место той ночью. Итак, я провалился во тьму. Когда же глаза мои открылись, я увидел надо мной потолок, с которого свисала мохнатая гроздь паутины. До слуха доносилось неопределённое шипение. Я поднял голову и оглядел опустевшее помещение. Столы, стулья, коротенькая стойка, за ней три полки, набитые бутылками с цветными этикетками и маленький включённый телевизор, на экране которого серыми полосками шипели помехи. Я медленно встал. Безлюдное кафе охватило меня всем своим пустым пространством. Оно сжало меня словно руками, нервно задрожало и полезло внутрь, в легкие, в живот. Скрипнувшая дверь заставила меня вздрогнуть. Я увидел, как щель наполнилась устрашающей чёрной пропастью, готовой всосать меня, стоит лишь шагнуть к выходу. И я кинулся к противоположной стене, плотно прижался к ней спиной, затылком и руками. Тело требовало защиты, но от чего? Что угрожало ему? Неужели неведомые силы ополчились на мою провинившуюся в чём-то оболочку? Неужели кровавая расплата уготовлена чьей-то коварной душой для моей трясущейся плоти? Я не мог в такое поверить. Но слишком много довелось мне лицезреть за последние несколько часов, чтобы не уверовать в самое даже невероятное. Да и не требовалось мне верить. Я уже верил. Я превратился в веру, в знание, в ожидание. Я видел лицо ужаса, неминуемого, неизбежного. Оно представляло собой рыхлые складки, лепившиеся друг на друга. И жуткое это лико распахивало огромную пасть так широко, что заглатывало само себя. Но всё сказанное не видимо для глаза, а осязаемо для души. Как же не бояться, ежели чувствуешь? Я повернул голову под чьим-то взглядом и встретился глазами с картиной. Отрубленная голова обезьяны продолжала лежать неподвижно, лишь кровавая лужа изредка хлюпала пузыриками. Но женщина с чёрной головой исчезла. Ушла. Скрылась, чтобы не быть картиной, чтобы жить и преследовать меня. Мои ноги, обратившиеся в чугунные гири, громко застучали по дощатому полу. Глаза, словно кто-то зацепил их и тянул к себе, вперились в дверной проём и влекли меня к нему под опасливый стук каблуков. Одежда Пьеро белым знаком привидения колыхалась на мне. Но сам я отсутствовал, ибо переполнялся безумием, которое вытесняло из меня мой разум и меня самого. Всяческие голоса зашептали мне навстречу. И я открыл дверь. Прохладные губы прижались к моему лицу. Губы уплывающей ночи. Я нащупал, не глядя, дверную ручку и затворил за спиной дверь, оставив кафе глотать свой собственный жёлтый воздух. Станция безмолвно ждала моих действий. Слепое окно билетной кассы сверкало в лунном свете шрамом треснувшего стекла. Над головой слышался скрип сломанной телеантенны. И тут мне пришло на ум, что всё складывалось для меня наилучшим образом. Ведь если я становился безумцем, то никакое безумие не могло меня уже страшить, как огонь не страшится огня. Но будучи в трезвом уме и полном здравии душевном, мне также не стоило опасаться сумасшествия по той простой причине, что нормальному человеку оно не опасно, так как образы, рождаемые безумием и питаемые им, не способны затронуть сознание человека здорового. Остановившись на такой мысли, я как-то расслабился и сделал шаг вперёд. В наступавшем утреннем тумане я увидел среди стеблей травы две холодные металлические полосы — то были убегавшие из-под ног куда-то вдаль рельсы. Проследив их стремительный бег взором, я заметил в сумраке стройную женскую фигуру, уже такую знакомую мне. Гладкая круглая голова её, казалось, оборачивалась на меня, но определить это было невозможно. И ещё я успел разглядеть в её руке топор. Лезвие звякнуло пару раз о рельс, но формы женщины и чёрного шара уже развеялись во мгле. Я остановился в нерешительности. Позади лежал изнуряющий беспокойный сон, хорошо знакомый мне. А что было впереди? Его продолжение или пробуждение? Скверная ночь подходила к концу, но я застыл, замер неуверенно, уже занеся для шага ногу… В тумане проплыла кривоногая тень карлика, и снова звякнул о рельс тяжёлый топор…