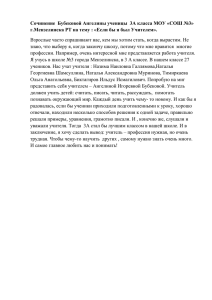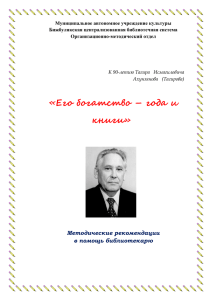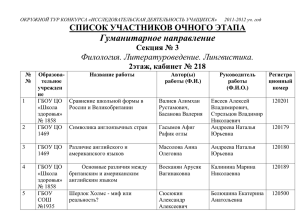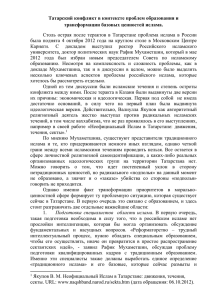Превратности судьбы*
реклама

С www.bashklip.ru Превратности судьбы* Рассказ Несмотря на легкое головокружение, Рафик Габышев после обеда решил выйти на прогулку. Для того, чтобы больные могли прогуливаться не напрягаясь, дорожки на просторном больничном дворе замощены фигурными бетонными плитками, у дорожек поставлены удобные скамейки со спинками — можно присесть, отдохнуть. Там и сям разбиты цветочные клумбы, но сейчас цветы, тронутые осенними заморозками, увяли. Тугой бархат сеяной, ровно подстриженной травы испещрен желтыми листочками, слетевшими с молодых березок, только островерхие елки не поддаются дыханию осени, топорщат темно-зеленые иголки. Окидывая все это рассеянным взглядом, тяжело неся свое грузне тело, Габышев неторопливо пошагал по дорожке. Вздохнул, подумав: «Снова наступила осень, времена года меняются слишком быстро...» Далее напрашивалась мысль о том, что жизнь чересчур скоротечна. Раньше не приходили ему в голову такие мысли, а теперь вот приходят, должно быть, из-за того, что болен. Сделав круг по двору, он присел на скамейку под елками, смежил веки. Посидев так некоторое время, выровнял дыхание и открыл глаза, услышав шорох. Подобравшись почти к самым его ногам, поблескивая бусинками глаз, на него смотрела белочка. Габышев знал, что во дворе больницы живут несколько белок. Видимо, запустили их сюда больным на забаву. Зверьки, когда голодны, приближаются к людям и смотрят выжидающе, как бы надеясь на милосердие тех, кто обрек их на жизнь в чуждой им среде. Если осторожно уронишь семечко или хлебную крошку, белка хватает гостинец и, взмахнув пушистым хвостом, взлетает на дерево. «Не догадался положить в карман что-нибудь съедобное», — с сожалением подумал Габышев и все же шевельнулся, чтобы пошарить рукой в кармане. Белку это испугало, она мгновенно отскочила, взлетела на елку и затаилась среди ее ветвей. «Боится... — огорчился Габышев. — Люди все-таки жестоки. Зачем было переселять этого красивого зверька в неволю? Он оторван от мест, где жил на свободе как хотел, мог найти себе пару, народить детенышей, питаться тем, что ему по душе. А тут смотрит на человека, как уличный попрошайка, надеясь на подачку...» Думая так, он снова вздохнул, махнул рукой, словно пытаясь отделаться от досады, и вдруг резанула его по сердцу мысль: «А разве мы сами не в таком же положении? И мы ведь живем будто в невидимой клетке, огражденные разными условностями, писаными и неписаными законами. Едва встав на ноги, впрягаемся в работу, чтобы обеспечить свое существование, и нет избавления от этого. Вдобавок ограничены семейными оградами... И вот крутимся, бьемся в этой клетке, пока не упадем, обессилев...» Напротив, на липу, успевшую сбросить листья, опустилась стая воробьев, отвлекла его от грустных размышлений. Расчирикались птахи, прыгая с ветки на ветку, похорохорились, затем принялись отряхиваться, встопорщив перышки. Как-то они тут перезимуют?.. Габышев, поднатужившись, встал со скамейки и, с трудом передвигая ноги, отяжелевшие, словно к ним привязали камни, направился к зданию больницы, показавшейся мрачной, как тюрьма. Поднявшись на второй этаж, остановился у двери своей палаты отдышаться. В это время мимо него прошла женщина в годах. На ее плечи была накинута цветастая — красные розы по зеленому полю — шаль с длинными кистями. Волосы аккуратно скручены и закреплены на затылке... Габышеву почудилось в ней что-то знакомое, но разглядеть ее как следует он не успел. Дойдя до соседней палаты, женщина бросила на него быстрый взгляд и, бесшумно открыв дверь, исчезла за ней. «Странно, — подумал Габышев, — неподходящее здесь место, чтобы ходить в таком ярком наряде...» Его сосед по палате Попов лежал, растянувшись на койке. Такая у него привычка — как пообедает, тут же спешит улечься. — Как тебе, Вадим Леонидович, не надоест валяться на койке? — сказал Габышев. — Сходил бы свежим воздухом подышать. — Я, Рафик Исмагилович, стараясь везде поспеть, за свою жизнь уже нашагался-набегался до упаду. Знаешь ведь, какая у меня работа. Знает Габышев, как не знать: не счесть, сколько раз они меж собой схлестывались. Попов работал в гостехнадзоре, начал рядовым инспектором, дорос до поста начальника этой беспокойной службы. Габышев разделся, сел на свою койку. Продолжать разговор не хотелось. Вопервых, настроение было неважное, во-вторых, Попов не очень-то разговорчив, и вообще не лежала у Габышева душа к этому иссохшему в заботах человеку, старавшемуся представить свою службу чуть ли не самой важной на свете. Рафик Исмагилович предпочел бы иметь соседом по палате кого-нибудь другого, но в больнице выбора нет, с кем положат, с тем и лежишь. — Да уж, прошла жизнь в беготне, все старались, спешили, будто кнутом нас сзади подгоняли. Впрочем, и подгоняли... Габышев сказал это лишь для того, чтобы не оставить слова Попова без ответа. Он тоже лег, — койка жалобно скрипнула под тяжестью более ста килограммов, — повернулся набок, подложил ладонь под щеку. Так он обычно быстро засыпал. Но сейчас сон не шел. Перед глазами всплывала осенняя картина, увиденная во дворе, белка-попрошайка, воробьи на голых ветках... А чем привлекла его внимание эта женщина в коридоре? Что-то показалось ему в ней знакомым. Что? Волосы, закрученные на затылке, плавная походка, короткий взгляд, который она кинула... Где, когда раньше он ее видел? А, мало ли женщин встретилось ему на жизненном пути, подумал Рафик Исмагилович и перевернулся на другой бок. Да, в самом деле немало женщин повидал он в жизни. И его сильная, ладная фигура, и ястребиный взгляд, и то, как заразительно он смеялся, откинув голову назад, и умение уверенно разговаривать — все это нравилось женщинам. Коекого из них, возможно, привлекала и его высокая должность. Как бы то ни было, интерес красавиц сопровождал его в течение всей жизни, и он не отвергал тех, кто льнул к нему, умел покорять сердца и тех, кто держался поначалу высокомерно. Но был и период, когда он воздерживался от кратковременных связей с представительницами прекрасной половины человечества. После назначения на должность управляющего строительным трестом Габышев, человек честолюбивый, решительный и требовательный, с головой ушел в работу, дневал, как говорится, и ночевал на возводимых объектах, озаботился прежде всего тем, чтобы не возникало на них положение, высмеянное Аркадием Райкиным в его знаменитой фразе: «Кирпич бар, раствор юк, сижу куру». Добился бесперебойной работы строительных бригад, благодаря чему возросли их заработки. Планы стали перевыполняться, трест выдвинулся в число передовых. Это добавило в Габышеве решительности в нововведениях. Он требовал от проектировщиков улучшения планировки квартир, от поставщиков — более совершенной сантехники, от своих подчиненных — большего старания в отделке жилья. Иными словами, старался изжить причины, вызывавшие бесконечные жалобы новоселов на недоделки и брак в работе строителей. Но как раз эти старания и вышли ему боком. На пленум горкома КПСС был вынесен вопрос о ходе строительства в городе. Большинство руководителей строительных организаций ограничилось самоотчетами, иные сочли нужным похвалить горком за чуткое руководство. А Габышев заговорил о том, что мешает делу, о срывах в поставке стройматериалов и финансировании строек. — Не хотите ли вы, товарищ Габышев, сказать, что в этих недостатках виновен городской комитет партии? — прервал его первый секретарь горкома. — Я полагаю, мы собрались здесь для рассмотрения не только работы строительных организаций, но и деятельности горкома, — резко ответил Габышев. — Есть вина и на горкоме. Сводить партийное руководство лишь к раздаче указаний общего характера и заслушиванию отчетов... В пленуме участвовал и первый секретарь обкома. Он бросил в сторону Габышева усмешливый взгляд и в свою очередь прервал его: — Давай, Габышев, заодно покритикуй и областной комитет, поучи нас умуразуму... Сидевшие в зале мгновенно притихли, настороженно ждали, что за этим последует. А Габышев, не придав реплике Первого должного значения, продолжал: — Почему бы и не покритиковать? Мы ведь собрались для откровенного разговора, для того, чтобы наметить пути совершенствования своей работы. Проблем у нас много, их разрешение зависит и от обкома. Вот в последние годы увлеклись крупнопанельным домостроением. Век таких домов короток, на человеческую жизнь их не хватит. А коли так... Первый секретарь обкома, сердито сдвинув брови, посмотрел на первого секретаря горкома, тот аж подскочил. — Габышев, время, отведенное вам по регламенту, истекло! Габышев, постояв несколько секунд в растерянности, обратился к залу: — Товарищи, прошу еще две минуты... Зал молчал. — Сядьте на свое место! — приказал первый секретарь горкома. Два дня спустя Габышев был вызван на заседание бюро обкома. Прижали его там — ни охнуть, ни вздохнуть. Обвинение предъявили такое: Центральный Комитет партии проводит линию на ускорение строительства жилья для трудящихся, в частности, за счет крупнопанельного домостроения, а руководитель одного из крупнейших строительных трестов выступает против этой линии. Инструкторы обкома накопали и кое-что помельче: Габышев санкционирует неоправданный перерасход средств (это касалось отделки квартир), в отношениях с подчиненными крут до жестокости, что вызывает много жалоб, в моральном отношении неустойчив, частенько балуется с женщинами. Исходя из всего этого бюро обкома постановило объявить члену КПСС Габышеву Рафику Исмагиловичу строгий выговор с занесением в личное дело и освободить его от занимаемой должности. Габышев ничего в свою защиту не сказал, лишь обронил, уходя: — Спасибо! — и громко хлопнул дверью. Он понимал, что после случившегося приличной работы не получит. *** Жена его, Залифа, работавшая экономистом в управлении городского жилищнокоммунального хозяйства, эту трудную пору пережила, казалось, спокойно. На самом деле она лишь делала вид, что спокойна, таила свои переживания в себе, даже, что называется, глотая огонь, старалась не показывать свои терзания мужу. — Ладно, было бы здоровье, ты ведь не из тех, кто ни на что не способен. Много лет не отдыхал, неплохо было бы тебе сейчас съездить в санаторий, а дальше будет видно, как быть, — говорила она, чтобы утешить его, а сама, тревожась за него, ночами не смыкала глаз. Знала: он не может, не умеет жить без работы, в ней смысл его жизни. А Рафик в эти непростые для него дни понял, что жена — единственная его опора, и покаялся в душе, вспоминая свои хождения по кривым тропкам мужского баловства. Да, похаживал он на сторону, считая это не изменой жене, а развлечением, дозволенным мужчине самой природой. Теперь, глядя на хрупкую, не лишенную привлекательности фигуру Залифы, он удивлялся, откуда у нее брались силы и терпение, чтобы жить с ним, не уделявшим ей достаточного внимания, уходившим на работу чуть свет и приходившим домой нередко за полночь. Детей у них не было, возможно, потому, что превыше всего он ставил свою работу, дети откладывались на «потом», на неопределенное будущее, когда у него появится время на семейные заботы. Залифа относилась к потерпевшему крушение Рафику более заботливо, чем прежде, — вскочив рано утром, старалась приготовить ему завтрак повкусней, в полдень прибегала из своей конторы, не забыв купить по пути свежие газеты. — На, почитай, не сиди все время, уткнувшись в телевизор, — говорила она, положив газеты на журнальный столик в зале, и принималась готовить обед. Ее предложение поехать в санаторий он сразу отверг, а сидя дома маялся, безделье угнетало его настолько, что и газеты читать не мог, брал их в руки и тут же раздраженно кидал на пол. И выйти на улицу, прогуляться не хотелось. Казалось, каждый встречный будет кидать ему в лицо: «Невесть кем себя считал, но вот колесо судьбы и тебя придавило!» Пока возглавлял трест, было у него множество друзей и знакомых, еще издали, завидев его, начинали улыбаться, а теперь никто даже справиться, как он себя чувствует, не догадывался или не решался. Впрочем, позвонил управляющий одним из уфимских трестов, строивших газопровод Бухара — Урал, предложил для начала должность начальника участка, а там, мол, посмотрим... Когда Рафик сообщил об этом жене, Залифа на какое-то время поникла, на лице обозначилась сеточка морщин, легонькая ее фигура словно бы стала еще меньше. Но она быстро взяла себя в руки, сказала решительно: — Поезжай! Поработай там здешним недоброжелателям на зависть, ты это можешь! А у самой душа стенала. Каково будет ее Рафику на чужой стороне среди незнакомых людей? Резок он, рубит сплеча, как бы не обернулось это опять против него. А заболеет, так кто о нем позаботится? А если ему там какаянибудь шалава подвернется, опутает? Знала Залифа о его слабинке по части женщин... Когда он уже собрался в дорогу, повлажнели глаза Залифы, ткнулась она лицом в его широкую грудь, попросила, глотая слезы: — Ты там... береги себя... Пиши, буду ждать. Я уже привыкла... ждать тебя... Рафик осторожно обнял ее, дрожавшую, как озябшая пташка, и сам себе дал слово никогда ее не обижать, быть внимательным к ней, не связываться больше с другими женщинами. На трассе газопровода его, как было обещано, назначили начальником участка. Хотя эта должность была намного ниже его прежней должности, освоить новое дело оказалось не так-то просто. В Уфе его трест возводил, главным образом, жилые дома, объекты культурного и социального назначения, а здесь прокладывали через среднеазиатские пустыни трубу более чем метрового диаметра. В подчиненном Габышеву коллективе работали видавшие виды люди, опытные механизаторы и сварщики, а он должен был правильно организовать их труд. Жили строители в передвижных вагончиках, частью и в палатках. Габышев, махнув рукой на бытовые неудобства, поставил целью близко познакомиться с каждым работником участка, найти общий язык. Не считал зазорным сказать: — Ребята, я в этом вопросе — профан, объясните-ка, что к чему. Вскоре заботливого и сообразительного, схватывавшего все на лету, варившегося в одном с ними котле начальника рабочие признали своим. Это была его первая победа. Дела на участке пошли как бы сами по себе, участок выдвинулся в число лучших. Полгода спустя Габышева повысили в должности, назначили начальником механизированной колонны, основного подразделения на трассе. Борьба за выполнение планов и обязательств, требовавшая полной самоотдачи, забота о бытовом устройстве рабочих в условиях, осложненных постоянно висевшей над трассой пылью и нередкими песчаными бурями, прием проверяющих то из Москвы, то из Уфы не давали возможности спокойно вздохнуть. Но Рафик выкраивал время, чтобы не реже, чем раз в неделю послать письмо Залифе. Забавно, до этого он считал письма, за исключением деловых, атрибутом давно минувших дней, сколько уж лет ни с кем не переписывался, а тут набил руку в эпистолярном жанре, стараясь поддержать тоскующую в разлуке жену, подбирая для нее самые искренние и нежные слова. И сам с нетерпением ждал ее писем, читал их в радостном возбуждении, вспоминал, как они познакомились, как, соскучившись друг по дружке, спешили на свидания. Со временем, в супружестве, их отношения как-то потускнели, не было уже в них восторга и волнений, пережитых в пору ничем не замутненной влюбленности. К тому же, в какую бы сторону ни глянул, он видел призывно улыбавшихся ему женщин. Теперь Габышеву этот период его жизни представлялся в смысле любви бесцветным... Спустя года полтора после того, как он приступил к работе на трассе газопровода, на стройку приехала делегация из Башкирии. Были в ней представители Совета Министров республики, Управления магистральных продуктопроводов, разных снабженческих организаций, а возглавлял ее новый первый секретарь Уфимского горкома партии. Члены делегации интересовались ходом работ на трассе, побывали на одной из газоперекачивающих станций, затем собрали на совещание руководителей механизированных колонн и участков, чтобы выяснить их нужды. Габышев отнесся к приезжим довольно безучастно, было начальство повыше, пусть оно и суетится возле них, дает пояснения, просит о том, что нужно стройке, кормит и поит гостей. После совещания сразу направился к машине, намереваясь уехать на стан своей колонны, но сзади послышался голос: — Рафик Исмагилович, подождите-ка... Оглянулся — оказалось, окликнул нынешний первый секретарь горкома Барыев. Габышев знал его как директора одного из крупных заводов. Барыев подошел к нему, положил руку на его плечо. — Что это вы, Рафик Исмагилович, держитесь отчужденно? Не пора ли забыть старую обиду? — Я, Ахсан Акрамович, ни на кого зла не держу. — Не сомневаюсь в искренности ваших слов. А насчет того, что вы здорово здесь поработали, слышал еще в Уфе. — Стараемся, как можем, — сказал Габышев, держась настороженно. — Мой отец говаривал, что скромность украшает мужчину, но прибедняться, по-моему, не стоит, — заметил Барыев, улыбнувшись. — А мой дед часто повторял старинное изречение: злого повесят, смирного унизят, хитрого поставят правителем, но, сынок, добавлял он от себя, хуже всего, если ты ни то ни се, лучше уж пусть тебя повесят. Барыев засмеялся. — Нет, Рафик Исмагилович, пустыня вас не изменила, вы по-прежнему — злой человек, во всяком случае, в работе следуете наставлению деда. Мне такие люди нравятся. — Вы меня остановили, чтобы это сказать? — Подождите, не ощетинивайтесь. Идемте-ка, отойдем немного в сторону, здесь слишком шумно... — Барыев, взяв Габышева по-дружески под руку, повел его по изъезженному машинами, но, несмотря на это, расползавшемуся под ногами песку в сторонку от весело расшумевшихся участников совещания. — У меня, Рафик Исмагилович, есть к вам серьезное предложение. — Что, интересно, вы хотите мне предложить? Остановились, встали друг против друга. — Вернуться в Уфу. Газопровод и без вас достроят. — Не понял вас... — Ваш трест захромал на все четыре ноги... — Ну и?.. — Надо там навести порядок. Не вижу, кроме вас, человека, который быстро справится с этой задачей. — Хорошо ли вы, Ахсан Акрамович, обдумали это предложение? Первый не из тех, кто, плюнув, вернет и проглотит свой плевок. — Я прощупал, как он к этому отнесется. Ты хозяин города, тебе и решать, сказал он. По-моему, понял, что погорячился тогда, перегнул палку. — Ай-хай... — усомнился Габышев. — Не тороплю с ответом, но хотел бы услышать его до отъезда. Завтра утром... Ночь Габышев провел в сомнениях, соснул лишь чуток. Упрямый характер требовал от него отвергнуть предложение Барыева. Его унизили, вынудили уехать из Уфы, теперь опомнились. Раз такие умные, пусть сами и поправят положение в тресте... Но там ведь близкий ему коллектив. Сколько сил он отдал, чтобы наладить его работу! Да и холостяцкая жизнь в пустыне притомила. Как там Залифа? Измаялась, наверно, в одиночестве... Тоска по родному городу взяла верх над упрямством. Решил: поеду домой! ...В Уфу прилетел поздно вечером. У него был ключ от своей квартиры, сам открыл дверь. В кухне горел свет, слабо освещая и зал. В квартире царила тишина. Заглянул, не раздеваясь, на кухню, там Залифы не было. Охваченный неясной тревогой, поспешил в зал. Жена спала на диване, свернувшись калачиком под пуховой шалью. На Рафика нахлынула такая нежность к ней, что трудно стадо дышать. Тихонечко, чтобы не испугать ее, опустился возле дивана на колени, послушал ее ровное дыхание. Обычно она спала чутко, а сейчас не просыпалась, не учуяла его появления. Наконец, он решился разбудить ее, сказал негромко: — Залифа... Залифа, я вернулся... Она мгновенно приподнялась, упала, укутанная в шаль, в его объятие. Господи, бывают же такие неповторимые минуты!.. *** Габышев снова принял трест. Как в нем за полтора года ухитрились все расстроить — уму непостижимо. Проблем, которые предстояло разрешить, было по горло. Он погрузился в работу с большим даже, чем прежде, рвением, часто возвращался домой лишь к полуночи. Но не спешил, как бывало, кое-как поесть и поскорей лечь спать, не поговорив толком с женой. Теперь он извинялся за поздний приход, ел, похваливая, приготовленный ею ужин, расспрашивал, как идет ее работа, старался чем-нибудь обрадовать, например, предложением отдохнуть в выходной день вдвоем в профилактории треста. Однажды высказал мысль, которую давно вынашивал: — Ты уже достаточно поработала, давай-ка оставь свою службу, отдохни. Моей зарплаты хватит нам с лихвой. Он хотел угодить ей: пусть поживет спокойно, не разрываясь между своей конторой и домом. У других руководителей его ранга жены не работают, находят себе занятия поприятней. Залифа удивилась: — Да ты что?! Я же не калека, чтобы день-деньской сидеть дома! Словом, бросить работу отказалась наотрез. Рафик не стал настаивать на своем. У Залифы характер тоже твердый, от сказанного не отступит. Ну и ладно, им и так хорошо, живут в мире и согласии. Рафик нет-нет да порадуется тому, что верен решению, принятому перед отъездом на трассу газопровода, не путается с другими женщинами. Упаси меня Бог, думал он, от ветреных красавиц, расчетливых подхалимок, улыбчивых искательниц приключений — без них душа спокойна. Но... Ах, жизнь и неуемность человеческих желаний! Искушаете вы детей Адамовых, побуждаете хотя бы ненадолго расслабиться, сбросив с себя груз бесконечных забот, забыться в мимолетной радости, а потом жестоко наказываете за это. Оказался в такой ситуации и Рафик Габышев. Человек, верный долгу, не нарушил бы он свою невысказанную клятву, если б не попалась ему на глаза Валя-Валима. Кухонная работница в профилактории, в общем-то обыкновенная девушка-башкирочка зацепила его юной свежестью обаятельного лица... *** Габышев и сам не заметил, что застонал. — Рафик Исмагилович, тебе плохо? Что-то болит? — спросил Попов. — Да нет, не болит... Почему-то никак не могу заснуть. — Ты собирался встретиться с главврачом. Встретился с ним? — Встретился, да толку... Объяснил, что у меня за болезнь. Абцесс, воспаление мозга. Когда-то, говорит, в мозг попала инфекция, к этому могла привести травма головы. Болезнь долгое время может как бы дремать, дает знать о себе, когда организм ослаблен. А меня ведь какие только врачи не обследовали! Один находил сужение сосудов, другой — камни в почке, третий говорил, что уши я застудил. Морочили голову, пока приглашенный на консультацию молодой профессор не поставил точный диагноз. — А что главврач говорит насчет лечения? — Что он скажет? Нет, говорит, у нас нужного лекарства, а чтобы получить его из Москвы по спецзаказу, нужно пятьдесят семь тысяч рублей. Где я их возьму? Пенсия у меня — три тысячи, надо два года не есть, не пить, чтобы накопить столько денег. Эту больницу построил я, а вы лекарство для меня не можете найти, сказал я в сердцах. А он: «Вы ее на государственные деньги построили, не на свои». Я ему: «Вот и вы купите лекарство на государственные деньги!» Он только губы скривил в ответ. Может быть, в самом деле нет у него возможности потратить такие деньги, единственный, говорит, выход — сделать мне операцию. А я, Вадим Леонидович, в моем возрасте подставить череп под долото не могу, операцию не выдержу. Сколько осталось, столько уж и проживу. — Так, пенсия у тебя — всего три тысячи в месяц? — Стыдно сказать, но что поделаешь. Прошла жизнь в тяжелой, ответственной работе, а теперь еле концы с концами свожу. И болезнь — следствие этой работы. Всяко было: и кирпичи на голову падали, и в пустыне, когда газопровод строил, могло что-нибудь попасть в мозг... А ты и пенсию, и зарплату, наверно, получаешь? — Получаю. Хотя и пора уйти на заслуженный, как говорится, отдых, приходится ради денег держаться за свою службу. — Совсем уж перестали дорожить человеческой жизнью, до последней капли кровь высасывают... — А ты не пробовал написать президенту? Заслуги у тебя ведь немалые. Говорят, он кое-кому назначает добавку к пенсии. — Пробовал. Послали из его администрации письмо в трест, вернее, в акционерное теперь общество, чтоб оказывали мне по возможности материальную помощь. Присылают оттуда по большим праздникам милостыню... Смешно, сидевшая когда-то у меня в приемной секретарша получает пенсию в три раза больше моей. — Как это? — Да вот так. Пока сидела в приемной, училась заочно в институте. Услужливая, пробивная женщина, сумела она устроиться на работу в администрации президента, получает теперь пенсию около десяти тысяч рублей. — Не понимаю я нынешнюю пенсионную систему. — Много сейчас в жизни непонятного, Вадим Леонидович. В палату вошла миловидная женщина, их лечащий врач Светлана Вахитовна. — Здравствуйте, дорогие мои джигиты! — весело сказала она и присела на койку Габышева. — Как настроение, Рафик Исмагилович? Габышев приподнялся, сел. — На высоте, как и положено у джигитов. Вот посижу, глядя на вас, и тут же, наверно, выздоровлю. — С вашим задором, Рафик Исмагилович, мы любую хворь запросто одолеем! — На лице врача засветилась такая милая улыбка, что тяжелые чувства, обуревавшие Габышева, начали рассеиваться. — Задор-то у меня есть, да сил маловато. Но ничего, после разговора с главврачом я решил ждать старуху по имени Смерть спокойно. — Бросьте, Рафик Исмагилович, не надо так говорить. Уныние нам не поможет. — Так-то оно так... Но купить лекарство, о котором говорил профессор, я не в состоянии, а на операцию не решусь, сердце у меня — сами знаете какое... Симпатичное лицо Светланы Вахитовны посерьезнело. — Главврач сообщил мне о разговоре с вами. Лекарство это производят в Германии, хорошо было бы, конечно, добыть его, но... — Тут Светлана Вахитовна вздохнула, как бы признаваясь в своем бессилии. — Но вы, Рафик Исмагилович, не падайте духом. В двадцать первой больнице работает очень опытный нейрохирург... — Нет-нет, об операции не может быть и речи! Врач отвела взгляд от него, будто виновата в том, что не может помочь ему. Трудно было ей смотреть на человека богатырского на вид телосложения, то ли уставшего жить, то ли покорившегося неумолимой судьбе. — Я назначила вам новые очень хорошие инъекции. Подумаем, что предпринять дальше. Еще раз прошу: не поддавайтесь унынию, — сказала она и, поднявшись, направилась к койке Попова. Слова лечащего врача не принесли Габышеву облегчения. Он даже не пошел на ужин. Выпил апельсиновый сок, принесенный Залифой, растянулся на койке, закрыл глаза, и начал разматываться вновь клубок воспоминаний... *** Валя-Валима... Другие женщины, с которыми когда-то связывала его кратковременная близость, помнились теперь смутно, а обаятельный образ этой девушки вот уже тридцать с лишним лет не угасает в памяти. Всплывает перед мысленным взором ее смуглое лицо, лучистый взгляд, гибкая фигура, белая кофточка с короткими рукавами, голубой передничек... Рафику Исмагиловичу и поныне чудится, что слышит ее застенчивый голос. Когда увидел ее первый раз, екнуло его сердце, захотелось познакомиться и сблизиться с ней, клятва не изменять жене была забыта. Однако в отношении к этой девушке не было той решительности и грубоватого напора, той уверенности в себе, с какой он прежде быстро добивался своей цели. Увидев ее, он даже чувствовал робость, словно приближался к чему-то необыкновенно чистому, святому. Несколько раз позволил себе как бы мимоходом сказать ей: «Здравствуй, сестричка!» или обыденно спросить: «Как дела?» Он стал чаще, будто бы попутно, заезжать в профилакторий, заходил в столовую перекусить, шутливо разговаривал с обслуживавшим персоналом, в то же время возить туда в выходные дни Залифу перестал. — Зачем в одно и то же место ездить? Давай съездим в профилакторий связистов или энергетиков, — предлагал он жене. Ему казалось, что в профилактории треста Залифа учует его тайные мысли. Габышев даже не знал еще, как звать девушку, но не выходила она из головы, и однажды после окончания рабочего дня, часов в восемь вечера, он вдруг решил съездить в профилакторий — нестерпимо захотелось увидеть ее. Шофер служебной машины, поджидавший его у подъезда, привычно спросил: — Домой, Рафик Исмагилович? — В профилакторий. Шофер у него, как и у других начальников, был человек надежный, умел держать язык за зубами. Окна столовой профилактория ярко светились. Отдыхающие уже поужинали и разошлись, в опустевшем зале две работницы торопливо убирали оставленную на столах посуду, наводили порядок. Одна из них — та девушка. Габышев остановился у порога, чтобы не испугать их внезапным появлением. Работницы, занятые своим делом, не обратили на него внимания. Он направился к ним, подал голос: — Что же это вы, девушки, начальство не замечаете? Старшая из работниц, русская, ойкнула. — Извините, Рафик Исмагилович, увлеклись работой! — Ладно, ладно, я пошутил. Если помешал, тоже прошу извинить. Как вас звать? — Машей зовут. — Как дела, Маша? Впрочем, сам вижу: нелегкое дело навести порядок в таком большом зале. Устали, наверно. — Да как сказать... Кто-то ведь должен тут работать. Устаем, конечно, с утра до вечера на ногах. Мой муж тоже тут работает, он электрик, подбадриваем друг друга, и вдвоем-то вроде не так уж тяжело… — А где вы живете? — В деревне за озером, оттуда ходим. — Что ж, так вам, должно быть, удобней... Габышев разозлился на себя: ведет пустопорожний разговор. Перевел взгляд на девушку-башкирочку: — А эту сестричку как звать? — Валей, — ответила Маша. — Вообще-то у нее есть башкирское имя, но мы уж привыкли называть ее на свой лад. Габышев, усмехнувшись, обратился к девушке по-башкирски: — Как тебя, карындаш*, звать по-нашему? Почему разрешаешь называть себя не своим именем? Девушка, старательно протиравшая влажной тряпкой стол, прервала свою работу, ответила смущенно: — Пусть... Я тоже привыкла. Меня и в детдоме так звали, иногда, правда, двойным именем — Валя-Валима... — Валя-Валима... Красиво звучит! Давно здесь работаешь? — Меня из профтехучилища направили в трест, а в отделе кадров решили послать на все лето сюда помогать в столовой. Сказали, когда переведут на стройку, устроят в общежитии. — Значит, ты выросла в детдоме и только-только начинаешь трудовую жизнь? Знаешь что, Валя-Валима, тебе по закону сразу же должны предоставить жилье. Подъедь-ка завтра в управление треста, зайди ко мне. Решим этот вопрос. Растерялась, что ли, Валя-Валима, разговаривая с самым большим здесь начальником, неожиданно тарелка, которую она держала, выскользнула из ее руки, упала на пол и разбилась. ———— * Карындаш — младшая сестра или родственник. Так обращаются и к любому младшему по возрасту человеку, выражая доброжелательное к нему отношение. — Ой! — Подняла испуганный взгляд на Габышева. — Ничего, ничего! Посуда, говорят, бьется к счастью. Скажешь, управляющий трестом виноват, и Маша подтвердит, правда ведь, Маша? — пошутил Габышев. — Правда, — сказала Маша, засмеявшись. — Итак, Валя-Валима, завтра подъедешь... Договорились? — Меня, наверно, не отпустят с работы. — Я подскажу вашему заведующему, отпустят... Очень довольный разговором, в приподнятом настроении Габышев заглянул на кухню, весело поздоровался со спешившими завершить свои дела поварами, затем зашел в закуток заведующего столовой. Тот ошалело вскочил с места. — Рафик Исмагилович! Когда вы приехали? А я и не знал... — Заскочил попутно. У вас все в порядке? Продукты подвозят вовремя? — Жалоб от отдыхающих не было. — Хорошо. Здесь у вас, оказывается, временно работает воспитанница детдома Валя, отпустите ее завтра в управление треста решить вопрос с ее устройством, — распорядился Габышев. Наутро, когда секретарша доложила, что к нему приехала на прием работница профилактория и пропустила девушку в кабинет, Габышев хотел было встать, выйти из-за стола навстречу, но сдержал себя. — А-а, приехала, Валя-Валима, проходи, садись, — сказал он, указав на кресло напротив своего стола. Девушка, видимо, принарядилась, насколько могла. На ней была черная юбка и зеленая шерстяная кофточка, простенькая, но к лицу ей. Смоляные волосы расчесаны с пробором и закручены на затылке... Впервые попав в кабинет такого большого начальника, она оробела, замялась у двери, будто не услышала приглашения пройти и сесть. Габышев, угадав ее состояние, вышел все-таки из-за стола, подошел к ней, притронулся к ее плечу. — Раз приехала, не стой у порога, идем, присядь... Лишь сев в мягкое кресло, Валя-Валима обрела дар речи. — Вы велели, я и приехала... — Очень хорошо! Ко мне и без приглашения много народу ходит, а у тебя — важное дело. Как я понял, ты выросла без родителей? — Да, они умерли рано. — Я, кажется, уже сказал вчера, что воспитанникам детдомов, вступающим в самостоятельную жизнь, по закону должна быть предоставлена квартира. Чтобы получить ее, надо подать заявление в наш райисполком и какое-то время подождать. Но ты не беспокойся, трест, пока не встанешь крепко на ноги, будет оказывать тебе материальную помощь, а жить будешь... — Габышев взял со стола листочек бумаги, протянул ей. — Пойдешь сейчас с этой запиской к коменданту нашего общежития. Он предупрежден. Это — во-первых. Вовторых, с понедельника приступишь к работе здесь, в административном корпусе. Нам нужен курьер. Работа несложная, но зарплата выше, чем в профилактории, тебе это не помешает. Договорились? Девушка молчала, сидела потупившись. Габышев пошутил: — В столовой и без тебя найдется, кому бить тарелки. — Не знаю... Ну, ладно... — Ее голос прозвучал еле слышно. *** Из кабинета управляющего трестом Валя-Валима вышла слегка ошалелой. Она не представляла, как сложится ее дальнейшая жизнь, не было места, где она могла укорениться, и вдруг все так просто разрешилось, будет у нее свей уголок в общежитии, зарплата, чтобы обжиться. Конечно, курьер — не ахти какая должность, но, оглядевшись, она может попросить этого дядечку-управляющего перевести ее на стройку, на работу по специальности, полученной в профтехучилище, в бригаду отделочников, — наверно, не откажет, он такой добрый, участливый... И комендант общежития встретил ее приветливо, показал комнату, где стояла кровать с заправленной постелью. Комната была небольшая, но светлая. — Будешь жить здесь одна. Кроме умывальника, ничего больше предложить не могу, посудой обзаведешься сама, общая кухня — в конце коридора, — сказал комендант и протянул ей ключ. — Держи, не потеряй, будешь, уходя, запирать дверь... «Есть все-таки на свете Бог», — подумала Валя-Валима. *** Габышев заснул лишь перед рассветом. Разбудил его голос Попова: — Рафик Исмагилович, на завтрак, наверно, пойдешь? Пора! Габышев поднялся, поскреб затылок. — Пойду, пойду, голова не болит, новый укол, похоже, оказался полезным. Пожужжал электробритвой, быстренько умылся. Когда вернулись из столовой, вдруг вспомнилась Габышеву женщина в цветастой шали. Спросил у Попова: — Вадим Леонидович, ты не знаешь, что за женщина обитает в соседней палате? Загадочная какая-то. В столовую не ходит. — Я заметил, что еду ей носят в палату. А кто такая — не знаю. — Интересно. На вид вроде здоровая. — Болезнь на глазок не определишь... Ладно, я схожу в физиотерапевтический кабинет на процедуру. Прихватив полотенце, необходимое при процедуре, Попов ушел, а минуту спустя в палату вошла лечащий врач Светлана Вахитовна. — Как себя чувствуете? — спросила она, поздоровавшись. — То ли назначенный вами новый укол помог, то ли ваши теплые слова — голову пока что отпустило. — Ваше самочувствие зависит, в основном, от вас. Я же говорила: надо плохие мысли выбросить из головы. — Я всю ночь только о хорошем думал. — Вот молодец! Давайте-ка давление смерим... Хорошо! И тут пошло на улучшение. Габышев, поколебавшись, задал занимавший его вопрос о женщине за стеной. Кто она, почему появляется, как привидение, и сразу же исчезает? — Ого! — Светлана Вахитовна бросила на него озорной взгляд. — Мы, кажется, уже и женщинами интересуемся! — Сказала, посерьезнев: — Она хорошая женщина, рядовая труженица, в пятьдесят лет вышла на пенсию. В общем-то здорова, — в той мере, в какой можно быть здоровой в ее возрасте. Приехала на несколько дней дочь, живущая в Москве, положила ее на платное обследование и профилактику. — У вас возможен и такой порядок? — Экономика-то теперь рыночная. Если появляются желающие, больница поправляет таким образом свое финансовое положение. Дочь этой женщины, похоже, весьма удачлива, работает заместителем генерального директора большой престижной фирмы. Богатая дама, заплатила двадцать тысяч рублей за отдельную палату для матери. — А как, интересно, она оказалась в Москве? — Не знаю... Впрочем, мать кое-что рассказала. Окончила в столице какую-то академию и осталась работать там. Зовет мать к себе, а эта переезжать не хочет. Дочь купила ей в Уфе хорошую квартиру и машину, а мать говорит: в ее ли годы садиться за руль, стоит машина в гараже. Светлана Вахитовна хотела сказать, что соседка почему-то тоже интересуется Габышевым, но сдержалась, потому что в разговоре с этой женщиной сообщила о его болезни и посетовала на дороговизну нужного ему лекарства. Вообще-то особого секрета в этом нет, но врачу не положено слишком-то откровенничать о состоянии своих пациентов, вдруг да Габышеву такая откровенность не понравится, расстроит его. А ее собеседница, узнав о цене лекарства и о том, что больной согласия на операцию не дает, опечалилась, — мол, неужто никто не может человеку помочь? Ее печаль Светлана Вахитовна объяснила себе тем, что есть неравнодушные женщины, которые и чужую беду принимают близко к сердцу... Когда Светлана Вахитовна ушла, Габышев, приоткрыв окно, чтобы проветрить палату, вышел прогуляться в коридор. Вскоре вернулся с процедуры Попов. Воздух в палате к этому времени достаточно посвежел. Габышев, закрыв окно, сел на свою койку, задумался. Деньги, деньги... Дочь их соседки запросто тратит десятки и сотни тысяч рублей, может быть, и миллионы, а он... Нет, думать об этом не хотелось. Обратился к растянувшемуся на койке Попову: — Вадим Леонидович, ты в строительстве, как говорится, собаку съел, сколько уже лет дотошно следишь за тем, чтобы в сдаваемых объектах все было сделано как положено. Раньше строило государство, теперь дело перешло в руки частных компаний и фондов. Эти перемены облегчили или усложнили вашу работу? — Нам никогда легко не было, — неохотно ответил Попов. Габышеву надо было избавиться от тяжелых мыслей, поэтому он продолжил разговор: — Я знаю, что вы относитесь к своей службе очень ответственно. Но вот слышал, что у элитного дома, построенного под руководством какого-то залетного армянина, треснула стена. Раньше и строителей, и надзорную службу за такое по головке не погладили бы... — А ты думаешь, этот армянин считался с гостехнадзором? У него все куплено. Хоть весь дом рухни — выйдет сухим из воды. — По-моему, спроса со строителей и с вашей стороны стало меньше. Бывало, ручка к двери не привинчена как следует — вы акт приемки дома не подписывали. Теперь ваша работа, по-моему, упростилась. Строители возведут стены, накроют крышей — и все, внутреннюю отделку оставляют покупателям квартир. Что в таком доме проверять? — При желании найдется — что. Инженерные системы, электропроводка, разводка газовых труб, межэтажные перекрытия... Верно ты заметил, отделкой квартир каждый владелец занимается как бог на душу положит, тут мы особо не вмешиваемся. Но все это, Рафик Исмагилович, теперь — мелочи. Идет настоящая война со смертоубийствами за стройплощадки, за землю. Еще нет должной документации, а фундамент дома, смотришь, уже заложен, площадка захвачена. Чтоб ее не отняли, нагромождают этаж на этаж без учета архитектурно-строительных норм. Найти концы в этой неразберихе, притянуть нарушителей порядка к ответу почти невозможно. Собирается комиссия по приему объекта в эксплуатацию и, зажмурив глаза, подписывает акт... — Похоже, в нынешних новостройках отражается состояние нашего государства: снаружи блестит, внутри — бардак. — Лихо ты судишь, Рафик Исмагилович! — А что, разве я не прав? Помнишь, в наше время чуть что не так — гостехнадзор не подписывал акт, стоял на своем, если даже все другие члены комиссии подписали. — Сейчас вроде хвалишь нашу службу, а тогда... Не забыл, какой фортель ты выкинул при сдаче птицефабрики? Габышев, как когда-то, когда был молод и здоров, вскинул голову, заливисто засмеялся. — Конечно, не забыл! Да и все, кто участвовал в этом событии, наверно, помнят. Но я вынужден был поступить так... Случилось это в семидесятых годах минувшего века. Перед трестом была поставлена задача отрапортовать к Новому году о сдаче в эксплуатацию первой очереди птицефабрики под Уфой. Первый секретарь обкома держал стройку под личным контролем. Что поделаешь, традиция была такая — встречать праздники трудовыми рапортами, работали в три смены, и сам Габышев безвылазно сидел на объекте, случалось, и ночевать там оставался. И вот 31 декабря после полудня прибыла приемочная комиссия — представители от района, на территории которого возводили фабрику, от энергетиков, пожарников, санэпидстанции, коммунальной и еще каких-то служб, в общем, около пятнадцати человек, в их числе от гостехнадзора молодой еще тогда Попов и вдобавок наблюдатель от обкома партии. Долго ходили по главному корпусу и вспомогательным строениям. Попов с черной папкой под мышкой и блокнотом в руке дотошно вникал во всякие мелочи, вступал в спор то с Габышевым, то с кем-нибудь из членов комиссии. Наконец собрались в административном корпусе, в кабинете, предназначенном для директора фабрики. Представитель обкома уехал, предупредив: — Товарищи, все, кажется, обговорено, текст рапорта подготовлен, не позднее двенадцати он должен лечь на стол Первого, я буду ждать там у себя. Члены комиссии, проводив его, вздохнули облегченно. В смежной с кабинетом комнате отдыха был накрыт стол, кое-кто, не дожидаясь банкета, сославшись на то, что озяб на холоде, сразу опрокинул там рюмку-другую. Габышев, проживший последние дни в крайнем нервном напряжении, тоже от этого не отказался. Когда вернулись в кабинет, он запер входную дверь и положил ключ в карман. — Чтоб не заглядывали любопытные, не мешали нам, — пояснил он. Сел за стол, глянул на членов комиссии покрасневшими от недосыпания глазами. — Итак, уважаемые товарищи, вы осмотрели объекты самой в будущем большой не только в республике, но и в России птицефабрики. От нас ждут рапорта о трудовой победе, а каждого в отдельности — праздничный стол дома: до Нового года осталось всего несколько часов. Надеюсь, вы дадите самоотверженной работе строителей объективную оценку. После этого члены комиссии начали высказывать свои суждения о качестве выполненных строителями работ. Общая оценка была положительной, однако нашлись и въедливые люди, решившие предъявить претензии — каждый по своей части. А время шло, кое-кто стал нетерпеливо поглядывать на часы. — Товарищи, работа проделана огромная, давайте скажем строителям спасибо и подпишем акт приемки, — предложил представитель райсовета. Поднялся легкий галдеж, представитель энергетиков потребовал срочно устранить дефект на щите электроподстанции, а представитель санэпидслужбы заявил, что подписать акт не может, поскольку не готово место для складирования птичьего помета. Габышев посмотрел на них набычившись, сказал резко: — Пока акт не будет подписан, никто отсюда не выйдет! — И, достав из кармана ключ, постучал им для убедительности по столу. — В соседней комнате есть что выпить и чем закусить, встретим Новый год здесь... Послышались возмущенные голоса: — Не имеете права!.. — Это... это неслыханное самоуправство! Директор фабрики, поднявшись из-за стола, подошел к Габышеву: — Дайте ключ! Я здесь хозяин! — Объект еще не сдан, так что хозяин пока — я! — парировал Габышев. Все повскакивали, словно намереваясь накинуться на управляющего трестом с кулаками. Но схватиться с человеком такого могучего телосложения вряд ли кто решился бы, да и его характер был всем известен: уперся — не сдвинешь с места. — Хватит, давайте не будем мелочиться, — сказал представитель райсовета. — Поручим строителям в течение двух дней устранить недочеты и подпишем. Я подписываю... За ним потянулись к акту и остальные. Не подошел к столу только Попов. — Я не могу подписать, — сказал он, — вот у меня полблокнота замечаний... Габышев глянул на него так, словно хотел прожечь его взглядом. — А вы понимаете, что из-за вас одного будет сорван рапорт не только в обком, но и в Москву, и Первый всем нам головы поотрывает? Уж я-то знаю, каков его гнев, на себе испытал... Все выжидающе уставились на Попова, и он сдался. Тяжело вздохнув, дрожащей рукой подписал акт. Габышев почувствовал себя сбросившим с плеч непомерную тяжесть. — Благодарю всех! — выдохнул он. — Извините, дорогие друзья, другого выхода у меня не было. Слово даю: через два дня все замеченные вами недочеты будут устранены. Прошу вас, поздравьте друг друга в соседней комнате с наступающим праздником, а я полечу в обком. Желаю всем успехов в будущей работе! — Достал из кармана ключ, протянул директору птицефабрики: — Будь добр, хозяин, открой дверь, выпусти меня... Вспомнив обо всем этом, Габышев походил по гладкому паркету палаты тудасюда, остановился возле койки Попова. — Отступил ты тогда, Вадим Леонидович, зато потом спуску нам не давал. Думаю, тяжеленько с твоим характером работать в нынешних условиях. — Откровенно говоря, устал я. — Пора, значит, на отдых. Не мешает хоть немного пожить в полное свое удовольствие. — Рад бы, да сын учится в аспирантуре, надо помогать его семье. На одной пенсии далеко не уедешь... — Да, сами вот себя и погоняем, пока не упадем. — Габышев прилег на свою койку, полежал некоторое время молча, но не лежалось, сел, подложив за спину подушку. — Жизнь заставляет... — продолжил он разговор. — Знаешь, как-то на ипподроме я услышал об одном хитром приеме тренеров. Лошади, чтобы ходила грациозно, вбивают в копыта в определенных местах небольшие гвоздики. Ступит не так, как надо, — ей становится больно. Сколько-то времени она это терпит, потом начинает хромать, и ее отправляют на мясокомбинат. Я понаблюдал, как такую лошадь погрузили на машину, в клетку для перевозки. Красивая была лошадь, на лбу — звездочка, на ногах — как бы белые носочки. Повернула она голову в сторону конюшни, заржала, словно прощаясь с товарищами. А в глазах — слезы... — Грустная история... — А разве и наша жизнь не смахивает на эту историю? И нас, как ту лошадь... — Хватит, Рафик Исмагилович, перестань, — взмолился Попов, — не терзай душу! — Ну, хватит так хватит. Возвращаясь с ужина, Габышев вновь мельком увидел женщину из соседней палаты. На плечах та же цветастая шаль, волосы так знакомо скручены на затылке... «Нет, не может быть! — растерянно подумал он. — У нее же — взрослая дочь и вон в какой должности работает в Москве!» А перед глазами предстала Валя-Валима, молоденькая, в белой кофточке с вышитой розой на груди. Вспомнилось, как бесшумно она ходила — плавно, будто плыла... Габышеву доставляло удовольствие видеть ее. Помнится, вызвав, чтобы дать поручение, он спросил у нее: — В общежитии устроилась? Все в порядке? У девушки глаза засияли. — Уж и не знаю, как благодарить вас, Рафик Исмагилович! — А как работается здесь? Не трудно? — Привыкаю... Валя-Валима в ожидании поручений обычно сидела в приемной, и секретарша хвалила ее: очень аккуратная, послушная, воспитанная девушка! Потом Валя на короткое время подменила секретаршу, вызванную в институт на установочную сессию. Конечно, выполнять секретарские обязанности в полном объеме она еще не могла, но пригласить к шефу понадобившегося ему сотрудника или занести в его кабинет стакан чая было не так уж сложно. Габышев пошучивал: — Необыкновенно вкусный у тебя получается чай! Мало-помалу девушка пообвыклась на новом месте, почувствовала себя счастливой и на шефа смотрела как на божество, поднявшее ее со дна жизни в совсем другой мир, где ей было уютно. Ее восхищала неутомимость управляющего трестом в работе, наверно, нравился он ей, неопытной в сердечных делах, и как красивый, сильный мужчина, нравились его широкая улыбка, басистый голос, и его щедрость, надо думать, была по достоинству оценена, — выписал ей на обзаведение солидную материальную помощь. Прошло месяца три, прежде чем Габышев решился перешагнуть черту, удерживавшую его в роли бескорыстного благодетеля. В конце концов, не для того же затеял он игру, чтобы обласкивать девушку лишь взглядом. Надо было как-то уединиться с ней. Но как? Дачи у него не было, трехкомнатную квартиру, обставленную хорошей мебелью, они с Залифой считали вполне для себя достаточной, но повести Валю-Валиму домой он, естественно, не мог. Прикидывая и так и этак, вызвал своего заместителя, спросил: — У тебя на даче кто-нибудь сейчас живет? — Нет. Не сезон ведь, стоит запертая. А что, на шашлычок захотелось? Сделаем! — На шашлык как-нибудь в другой раз съездим. Устал я, хочется побыть одному, хотя бы сутки провести в тишине и покое. Если доверишь ключ... — Надо, надо отдохнуть, Рафик Исмагилович! Когда хотите поехать? — Да завтра вечером поеду и свалюсь там. — Тогда я сегодня на ночь съезжу, согрею дом. И продуктов подкину. На следующий день Габышев сказал Вале-Валиме чуть загадочно: — Сегодня мы поедем с тобой в одно место... — Куда? — спросила она, набравшись смелости. — Там увидишь... Вечером не уходи, подожди здесь часов до семи. Не возражаешь? Возразить она не смогла бы даже догадавшись, куда и зачем он ее повезет: ей нечего было противопоставить его авторитету и исходящей от него силе воли. Вечером, когда народ разошелся и в управлении треста установилась тишина, она вышла вслед за управляющим на улицу, где ждала их черная «Волга». На даче Габышев достиг своей цели легко, девушка отдалась ему безропотно. Вернулись в город вечером следующего дня. В последующие дни Рафик Исмагилович вел себя как обычно, а Вале-Валиме казалось, что окружающие вот-вот догадаются о новой резкой перемене в ее жизни, и, боясь этого, она старалась выполнять свои служебные обязанности попрежнему спокойно и аккуратно. Мысль о том, что она стала близка такому сильному, энергичному, по-мужски красивому человеку, доставляла ей радость. Вспоминалось, как он, лаская, шептал, что никому ее не отдаст... Больше на дачу они не ездили, но изредка, предупредив заранее, Габышев поздно вечером зазывал ее в свою комнату отдыха. Что там произойдет — она знала, но не противилась. Так продолжалось с месяц, пока она не поняла, что забеременела. Ее охватило смятение. Что делать? Сказать Рафику не решилась — вдруг он рассердится, прогонит с глаз долой! Поделиться своей тайной, посоветоваться было не с кем. Спустя еще месяца два живот у нее стал припухать. Теперь уж, казалось, все вокруг заметят это. В испуге она набралась духу сломать свою наладившуюся было жизнь. Пусть родится ребенок, как-нибудь вырастит его, будет он ей товарищем. А из конторы, одарившей ее и радостью, и, может быть, горестью на всю жизнь, придется уйти. Не может же она подвести отца ребенка... Воспользовавшись моментом, когда Габышев был в командировке, ВаляВалима положила на его стол заявление с просьбой уволить ее с работы по собственному желанию. Секретарше сказала, что подыскала себе другую работу, и ушла. Габышев, увидев заявление, спросил у секретарши рассерженно: — Зачем ты ее отпустила? — Она у меня не отпрашивалась, — спокойно ответила секретарша, догадывавшаяся о его отношениях с Валей-Валимой. Идти в общежитие, искать сбежавшую девушку в положении Габышева было бы безрассудством. Что случилось, то случилось, ладно, даже хорошо, что сама ушла, пока их связь не раскрылась, решил он, несколько успокоившись. Все же позвонил напрямую коменданту общежития, велел не выселять Валю-Валиму до ее устройства в другом месте. И она исчезла из поля его зрения, осталась только в памяти. *** Рафик Исмагилович провел в больнице уже три недели и сегодня намеревался попросить, чтобы его выписали. Врачи искренне старались помочь ему, сделали все, что могли, претензий к ним нет, но нет, к сожалению, и надежды на полное выздоровление. Головная боль порой вроде бы проходит, потом вновь начинает мучить. Лучше уж пожить рядом с Залифой, питаясь тем, что она готовит, распоряжаясь своим временем по собственному усмотрению. Полагая, что лечащий врач просьбу удовлетворит, он уже складывал в пакет свои вещи, когда в палату вошли главврач со Светланой Вахитовной. Лицо лечащего врача сияло, казалось, она вот-вот радостно засмеется. А главврач, подойдя к столу, положил на него что-то вроде бандероли и, бросив на Габышева загадочный взгляд, спросил: — Рафик Исмагилович, вы в чудеса верите? — Не знаю, не думал об этом. — По-моему, в таинственные силы можно верить. Вот, — главврач кивнул на вещь, похожую на бандероль, — лекарство, нужное вам, будто с неба упало. Габышев, не сразу поняв смысл услышанного, воззрился на главврача. Светлана Вахитовна засмеялась. — Не удивляйтесь, Рафик Исмагилович, из Москвы для вас прислали то самое дорогое лекарство. — Как это? Кто прислал? Холодное при прошлом разговоре лицо главврача расплылось в улыбке. — Тут получается как в анекдоте с телеграммой: волнуйтесь заранее, подробности — письмом. Кто подал вам руку помощи — сейчас узнаете. Светлана Вахитовна, письмо при вас? — Лекарство я заберу к себе, а это адресовано вам, — сказала Светлана Вахитовна, протянув Габышеву конверт. Врачи ушли, а Габышев сидел, обалдело глядя на конверт, пока не привел его в себя голос Попова: — Выходит, Рафик Исмагилович, раньше времени собрался ты умирать. Кто у тебя в Москве живет? — Никого у меня там нет... Габышев дрожащими руками вскрыл конверт. В нем лежала небольшая записка. Взял с тумбочки очки, уставился в ровные строчки: «Рафик-агай, буду очень рада, если лекарство, присланное из Москвы вашей дочерью Галей-Галимой, поможет вам. Валя-Валима». Записка выпала из рук, Рафик Исмагилович схватился за голову. — Она! Это же она! — Узнал, кто прислал? — поинтересовался Попов. Не ответив ему, Габышев торопливо вышел в коридор, распахнул дверь соседней палаты. Молоденькая санитарка, менявшая там постель, вопросительно посмотрела на больного с ошалелыми глазами. — Вам Валима-апай нужна? Ее только что выписали, ушла домой. Из груди Габышева вырвался звук, похожий на стон. * Перевод с башкирского Марселя Гафурова. http://www.hrono.ru/text/2006/musin07_06.html С www.bashklip.ru