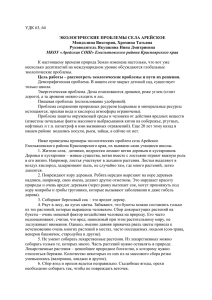грибные пиры - Екатерина Шевченко
реклама
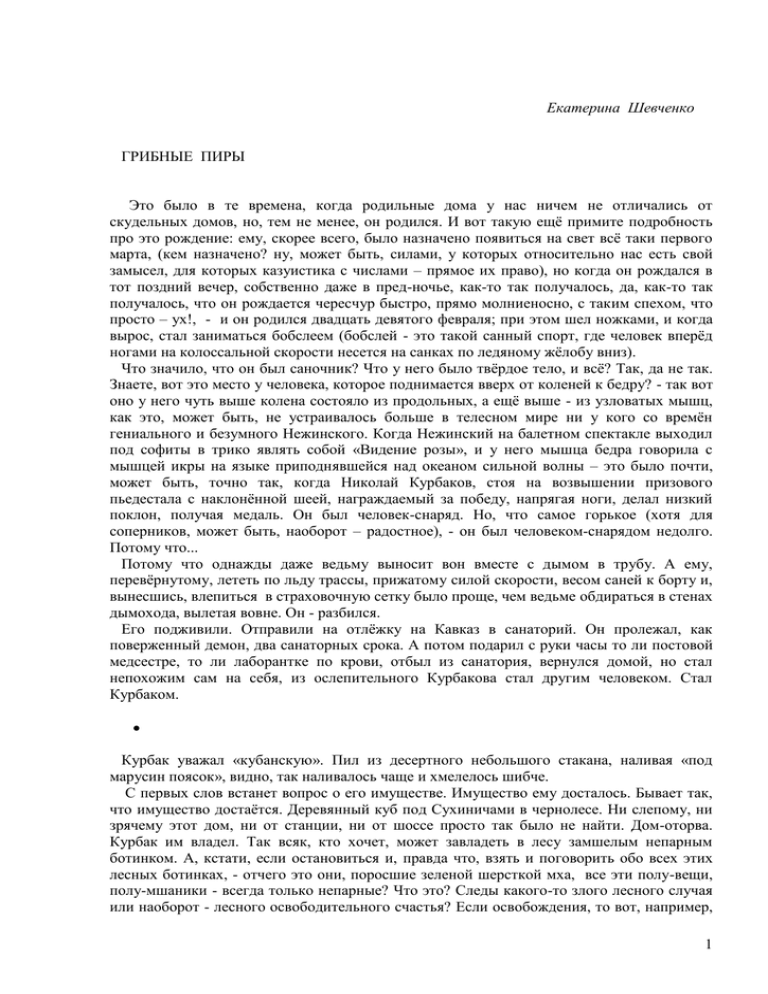
Екатерина Шевченко ГРИБНЫЕ ПИРЫ Это было в те времена, когда родильные дома у нас ничем не отличались от скудельных домов, но, тем не менее, он родился. И вот такую ещё примите подробность про это рождение: ему, скорее всего, было назначено появиться на свет всё таки первого марта, (кем назначено? ну, может быть, силами, у которых относительно нас есть свой замысел, для которых казуистика с числами – прямое их право), но когда он рождался в тот поздний вечер, собственно даже в пред-ночье, как-то так получалось, да, как-то так получалось, что он рождается чересчур быстро, прямо молниеносно, с таким спехом, что просто – ух!, - и он родился двадцать девятого февраля; при этом шел ножками, и когда вырос, стал заниматься бобслеем (бобслей - это такой санный спорт, где человек вперёд ногами на колоссальной скорости несется на санках по ледяному жёлобу вниз). Что значило, что он был саночник? Что у него было твёрдое тело, и всё? Так, да не так. Знаете, вот это место у человека, которое поднимается вверх от коленей к бедру? - так вот оно у него чуть выше колена состояло из продольных, а ещё выше - из узловатых мышц, как это, может быть, не устраивалось больше в телесном мире ни у кого со времён гениального и безумного Нежинского. Когда Нежинский на балетном спектакле выходил под софиты в трико являть собой «Видение розы», и у него мышца бедра говорила с мышцей икры на языке приподнявшейся над океаном сильной волны – это было почти, может быть, точно так, когда Николай Курбаков, стоя на возвышении призового пьедестала с наклонённой шеей, награждаемый за победу, напрягая ноги, делал низкий поклон, получая медаль. Он был человек-снаряд. Но, что самое горькое (хотя для соперников, может быть, наоборот – радостное), - он был человеком-снарядом недолго. Потому что... Потому что однажды даже ведьму выносит вон вместе с дымом в трубу. А ему, перевёрнутому, лететь по льду трассы, прижатому силой скорости, весом саней к борту и, вынесшись, влепиться в страховочную сетку было проще, чем ведьме обдираться в стенах дымохода, вылетая вовне. Он - разбился. Его подживили. Отправили на отлёжку на Кавказ в санаторий. Он пролежал, как поверженный демон, два санаторных срока. А потом подарил с руки часы то ли поcтовой медсестре, то ли лаборантке по крови, отбыл из санатория, вернулся домой, но стал непохожим сам на себя, из ослепительного Курбакова стал другим человеком. Стал Курбаком. Курбак уважал «кубанскую». Пил из десертного небольшого стакана, наливая «под марусин поясок», видно, так наливалось чаще и хмелелось шибче. С первых слов встанет вопрос о его имуществе. Имущество ему досталось. Бывает так, что имущество достаётся. Деревянный куб под Сухиничами в чернолесе. Ни слепому, ни зрячему этот дом, ни от станции, ни от шоссе просто так было не найти. Дом-оторва. Курбак им владел. Так всяк, кто хочет, может завладеть в лесу замшелым непарным ботинком. А, кстати, если остановиться и, правда что, взять и поговорить обо всех этих лесных ботинках, - отчего это они, поросшие зеленой шерсткой мха, все эти полу-вещи, полу-мшаники - всегда только непарные? Что это? Следы какого-то злого лесного случая или наоборот - лесного освободительного счастья? Если освобождения, то вот, например, 1 ботинок порвался на владельце в лесу, человек его сбросил. Но если так, то как он ушел дальше в одном ботинке? А он ушел дальше в одном ботинке, потому что на сто километров вокруг к левому - правого нигде не валяется. На эту загадку нет ответа. Так не было бы ответа, почему пять месяцев в году Курбак жил под Сухиничами в лесу, а семь месяцев в году – в Москве, если бы ни метрики, в которых значилось, что Николай Николаевич Курбаков по рождению – сухинчанин; а если бы ещё сохранился и прежний паспорт Курбакова, выданный до ухода в армию, то местом выдачи и первой пропиской был бы означен посёлок Фаянсовая Сухинического района Калужской области. Во втором паспорте пунктом прописки стояла спортивная «Мекка» - Нахабино, а потом – Москва. Этим объясняется то, что Курбак, родившийся, как в деревне у них говорили, на Касьяна (двадцать девятого февраля), и попавший в щель времён, в том смысле, что справлял день рождения раз в четыре года, был существо кентаврическое: верхнею своей частью (в которой он был несчастный печальник с атлетическим торсом) олицетворял собой москвича, лежащего зимами на диване и смотрящего телевизор, а нижней половиной (только в его случае не конём, а лесным чащобным лосем), - представлял многожильного, безустанного деревенского ходока, ищущего с весны по осень грибы по лесам. Живя в лесу под Сухиничами, Курбак сажал картофель, ходил в лес за грибами. Было несколько способов, как заставить Курбака помаленьку работать зимами в Москве, но ни один из них не работал. Курбак жил, скажем, так, на купленную инвалидную пенсию (ту, настоящую, инвалидную пенсию ему в одну прекрасную зиму отказались продлять, потому что разбился он, как оказалось, не на всю жизнь, дело в том, что он поправился, как сказали – реабелитировался), поэтому он жил на купленную инвалидную пенсию в лесу с апреля по октябрь, а с ноября по март жил в Москве на впалом, плачевного вида пространстве со множеством стайных собак, на гнусной улице, где было пустынно вокруг его высокого башенного многоквартирного дома, потому что два диспансера, наркологический и психо-неврологический простирали свои совместно-слитые бетонные заборы так далеко, что образовывали собой городок, а московский дом Курбака как раз стоял за этими мертвыми зонами на отшибе. Но задвинем кремлёвский краснокоричневый кухонный ящик Москвы внутрь того мебельного гарнитура, цвет которого махагон. Поглядим на зелёное. Вот он - лес. И вон он – Курбак. Курбак идет по лесу. Один. Совершенно один. Вот он. «Ты вешенку, ты её не отличишь от крепидота. Иди ты! Да не отличишь. Белую – ещё куда ни шло, белую - может. А осеннюю, ну вот – серые языки, - не отличишь. Крепидот враз обмухлюет, мол, он - вешенка. И кирдык. В грибах кто маракует? Никто. Стой. Это у нас что тут за колпаки? Ага. Не горько. Значит, лаковица. Надеру отдельно её сюда, что ли? Ну, лес зачах. Рядовок нет! Ты посмотри, черт, рядовок нет. Да ими завалиться. А нет!» Он всякий раз далеко уходил по лесу, почти на день пути. Надо было возвращаться назад на электричке. Он вышел ждать ее на платформу, стал ждать с полчаса, с час. «Господи, сумерки. Поди, километров тридцать отмахал. Это ведь Голубино. Вот зашёл». В ногах правды не было, он сел на платформенную железную урну. «Ха! Вон она чалит». Электричка приближалась в сумерках родно и спасительно. Будто мать спешила природниться к непроведанной за целый день дочке-платформе. Он успел пробежать глазами, прочитать, что там написано у неё на виске. «Ага. «Калуга-2». Если в Воронетах не остановится, значит до Воротынска протащит. Будет ночь». Он сел в тамбуре на корточки. Потом, когда место освободилось, перешел в вагон. В вагоне поставил корзину от усталости не на колени, а на верхнюю полку. От него с удовольствием отсели бы в сторону, потому что ватник его пах не лесом, а плесенью мокрого деревянного дома, грибком; отсели бы, если было бы место. Резиновые сапоги были мокры изнутри, но он привык и не знал, когда сапоги и бывают сухи. - Вы сверху веток наклали. А что, грибы есть, али нет? – зевала, а сама в это время спрашивала попутчица. 2 - Говорушки. - Это солюшки, значит. - Нет, солюшки – другое: подгруздок или млечник. А говорушки - не солить. Их чуток замочить – и на жар. Из них только жарёха. - Находились по лесу? - Есть малость. - Лес – бес. Чего там делать? Он отвернулся. С прибаутницами он не калякал. Прикомарил, а под Сухиничами, в Воронетах – сошёл. Дома своего он достиг перед ночью. Дом без собаки стоял молчком. Он мыл грибы в кадушке, при фонаре. Оставил в ледяной осенней воде, в деревянном дубовом ведре уже глухой ночью. Пошёл в дом спать. На рассвете встал, сжарил наскоро грибы, остальные выложил на полотно, отжал, порубил мотыгой, слоями положил в дубовую бочку рубленые грибы и крупную соль. Прижал сверху гнётом. И ушёл в лес. В чащобный, мало хоженый, тёмный не только летом, но даже игристой солнечной осенью, в буреломный могутный лес вело четыре дороги. Лес тянулся, говорили, до Брыни. Ближняя дорога была - через головку лесника. Другая - через Шуваево. Ещё через Курдюмов сад. А то – можно было подняться от Парамоново. Смотря, в какую сторону собираться. Он любил заходить через головку лесника. Никакого лесника в помине не было, но остались яблони, теперь ничьи, преизбыточные до онемения. За садом свирепствовал тёрн, но этому царапанью, хлёсту и бойлу приходилось всё-таки расступаться в пол-плеча и пропускать кого надо в дубняк. У первых дубов Курбак останавливался, скороговоркой, с поклоном, проговаривал глубокой гуще: «Здраво, батюшка-лес», проборматывал быстро, из раза в раз одно и то же. Он бубнил это уже как по заводу, по привычке, уже с малой душой, почти не беря в голову, что говорит. Боровики шли два раза за лето: в июле после трех-четырех дождей. И в августе. А осенью – по последнему теплу, за месяц до зазимок. Курбак не любил переростки. Определял крепость белых грибов ногой. Не верил больше, то есть с некоторых пор, в большие белые грибы. Пинал их слегка носком сапога, - если гриб был рыхл, он даже не наклонялся к нему. «Потёмкинская деревня. Картонная кость». У таких переростков он когда-то выкидывал из-под шляпки трубчатую мякоть, а сам гриб брал, но когда приносил домой, то гриб становился уже как мякинный. Теперь зря таскать груз за сто вёрст он был не дурак. Он брал только тяжелые слитки, небольшие, в головах у которых был ум. А то, что в крепких боровиках был ум, он знал точно. Самым лучшим было найти летом пыхтерь. «Это – у-у-у – деликат!» Белый кубарь стоял иногда в пересвете лиственных подвижных мельканий и будто снился. А поодаль обязательно был второй, а вот больше или меньше был этот второй, всегда было поразному. Это было как счастье. Огромные голованы казались голыми, без кожи. Но кожа, совсем светлая, всё-таки была. Светлее пены на молоке. Два гриба занимали одну корзину. Весили – как полведёрка воды, кило три. Опята шли до самого снега. Коричневели у пней зимники-горькушки. Стояли во льду. Иногда они были потравлены кабанами. Один кабан раз по весне уморил его: на опушке поляны издал рык, заступил тропу; надо было стоять-дожидаться, пока чушка свалит с дороги. Не дождавшись, Курбак повернул было назад, в обходной. Кабан ринулся следом, вкось обогнал его, - он был мал, неуклюж - дубовые ноги не гнулись, кабан чухчухал по открытой поляне на прямых колодах-подпорках: с задних ног – на передние, с задних ног – на передние, - как деревянное пресс-папье. Померявшись норовом с человеком, кабан дал дёру в подлесок. Сушить белые грибы и моховики надо было на толстых крученых нитках. Сушить много. На чердаке. Чтобы они потом, высушенные не вздрогнули, не вспотели, он хранил их в бумажных кулях. Мариновать, он это понимал, было женским делом. Но он 3 и мариновал тоже. Хотя маринование - это была морока. Держать долго грибы в стекле, в банках, было скверно. Он лил поэтому много уксуса. Клал перец и сухую горчицу. Лучше всего шёл в маринад белый груздь. Перед отъездом Курбак грузил вcе грибные припасы из подвала в кузов нанятой полуторатонки, небольшой тюремной машины с военными номерами из Сухинической женской исправительно трудовой колонии, и та за четыре часа перегона привозила груз к его дому в Москве. В виду проданной давным-давно «татры», Курбак держал припасы в Москве - в пустом гараже. Раз в четыре года, в середине февраля, когда весна блазнила: «Забьём стрелку? В рюмочной на Миуссах? Я-то буду - точняк! А ты?», так вот, когда зима шла под уклон, он готовился к пиру. Покупал натужно и понемногу, что мог. Нутряное баранье сало белым комком. Луку - много. (Картофеля было не надо, он забирал с собой из-под Сухиничей пять или больше мешков картошки, судя по урожаю). Покупал масло-рапс, муку. Ближе к самому двадцать девятому – трёх цыплят, зелень, яйца, сыр «чечел» и сыр «пармезан». И одну бутылку «Дом Переньон» 1973 года. После чего был банкрот. И вот наступал день, которого просто так не бывает. Февраль – двадцать девятое. Они с Тамиллой условились раз на всю жизнь: она приезжает к нему без звонка. Он не спасует, не забудет. Он не мог из-за этого никуда со своего места уехать, и всегда двадцать девятого смертно был дома. Утром он вставал в половине пятого и творил грибную кухню. Делал два изыска: «колдуны» и «цеппелины». И жульен «Мимозакадо». «Цеппелины» готовились так: толсто раскатывалась круглая большая лепешка из толчёного картофеля (для сцепки он клал яйцо), клались с одного бока рубленые соленые грибы (чтобы оттянуть слегка соль, он выдерживал их в молоке). Потом подкладывал со стороны подрумяненный на рапсовом масле лук, осторожно накрывал другим краем лепешки, осторожно, чтоб не сделать в ней прореху. Осыпал сухарями. Поливал желтком, жарил на бараньем жире. Это были «цепеллины». А «колдуны» грибной чебурек, - готовились так: делалось тесто из муки и воды. В середину клалось самое неповторимое по вкусу, что только могло быть – сухие, снятые с нитки, размоченные, нарезанные и обжаренные с зеленью и луком божественно-вонькие моховики; «колдуны» защипывались рубчиком по краю и пеклись в духовке. Напоследок он готовил жульен. Доставал свой серебряный плоский кубок, не похожий совсем на спортивный (напоминавший широкую салатницу), из Гренобля. Мелко резал белую птицу, прибавлял белых грибов, румянил муку, сахарил, клал душистый перец (потом он его вынимал), сыпал кориандр, вливал сметану, порошил сверху тертым сыром «пармезан». Ставил в духовой шкаф. Сковорода, на которой он жарил «цеппелины», у него была знатная. Её бросили во время переезда на другую квартиру, а верней – во время выселения, в Солянском тупике, в пустом доме, неведомые жильцы, а он - подобрал: ... горько-синей осенью, огромной, как осипшее Божье горло, он просто вернулся тогда из лесов к себе в Москву. В Москве осень казалась маленькой. Первые дни по приезде ему хотелось не лежать, не берложничать, а всюду шататься, колоться о вечерние ноябрьские московские огни, - он привык долго бывать на ногах, привык ходить и ходить по гущам и закраинам лесов, и с утра пошёл обходить холмы Солянки. Подняться в крутую гору под стенами тёмного домины величиною с квартал, с могучим 4 цоколем из серой рустовки было легко. Вверху были синие от осеннего сумрака, будто к ним приложили спичечную обёрточную бумагу, окна с полукружьями рам. Двор покоем. Он вошёл через чугунные ворота с улицы во двор, дверь ближнего подъезда стояла нараспашку, перед ней мельтешили люди, ходя туда и сюда; он присмотрелся к тому, что это была за беготня, - это была беготня киношников: на открытой каменной балюстраде второго этажа с треножников смотрели вглубь квартиры видеокамеры, там на балюстраде тоже шумело многолюдье. Он понял, что можно войти в подъезд. Правая дверь в брошенную квартиру первого этажа была открыта, он вошёл и двинулся по кривоколенному коридору, - сюда по очереди выходила на разлёт уйма дверей, за каждой белело светом по узкому высокому окну. И вдруг, взрывом раздался - зал! Шизофренически-белый свет расщеплялся, растворял гигантски-пустые голубые стены; стен не было видно. В эркер больно было смотреть, на пол – можно. В углу барханами волнилось тряпьё. Кроме оставленной на паркете сковороды, тяжелой чугунной жаровни, ничего в середине зала не было. Он поднял голову, увидел: жильцы не сняли тут почему-то ещё и люстру. Не достали до потолка? Когда он послал взгляд к побелённому потолочному верху, он узрел латунь в сонме стеклянных подвесок. Нет, они не висели. Меж двух латунных окружностей стоял плотным фронтом частый ряд тонких стеклянных трубочек, точь-в-точь какими лаборантки берут кровь, устанавливая их потом в шеренгу меж зажимными планками штатива. Это выбросило его в ополчённое светом пространство воспоминания: в покалывании игольчатого света он увидел, как вон, вон, вон: ... горюнистая-прегорюнистая девочка колет ему палец прямо здесь, в палате, сидя с ним бок о бок на его койке. Прижимает стеклянную трубочку и наполняет рубином. Одним утром. Вторым утром. Третьим. Сегодня - четвертым. В безымянный палец так же больно теперь уже стало колоть, как в зрачок. Опротивело до отврата. Она берет кровь, прижимает напоследок ватку к истыканной тут и там подушечке пальца, ни с того, ни с сего - подносит его руку ладонью вверх к своим губам, кладёт ему на ладонь свой открытый рот, вбирает влагу его испарины. Он, хоть и остаётся на койке, но возносится сквозь расступившийся потолок в белый пар, видит оттуда, что всё сошлось: его выкинуло из лона матери, из ледового жёлоба саночной дорожки - вот под эти губы, для вот этого удара светом, парения под потолком, для взятия на небо живым. Подержавшись в воздухе у недосягаемой меты, он соскользнул вниз, возвратился на белую простынь. Он лежал на неудобной панцирной сетке головой к окну, понимал: он теперь больше не внутри круглой прозрачной льдины, ледяной култыги, в одной из тех самых прозрачных круглых глыб, на которые скорбно глядят с борта корабля полярники, называя их «куполами»: круглые ледяные култыги, внутри которых мертвецы, мимо которых корабли проходят угрюмо. Нет. Теперь – нет. На него теперь сверху греют горячей воздушной пушкой. Отломившаяся жизнь, та, ледяная, отплывает в сторону. Новая жизнь - вот, вот, вот: простые вещи: его простая красная кровь в белом штативе - как струна на кефаре; и на тумбочке – белый сахар и белый палатный хлеб. Спустя день у него под кроватью в спортивной сумке (она закрывалась на цепь и на почтовый замочек), - у него в сумке прибавилось вещей: маленькие чёрные валенки, клочкастые, они бешено пахли бараном; узенькое черное, похожее на морскую шинельку пальто с железными пуговицами. Всё это он тихо сносил вниз, к аварийному выходу. Она выбегала в белом халате, как будто ей надо было перебежать в соседнюю дверь лаборатории, или в пищеблок, а сама совала руки в подставленное пальто, снимала босоножки, совала их ему в карманы, надевала из его рук валенки. Они порознь шли мимо обитаемых корпусов в самый дальний необитаемый корпус на отшибе – к нему собирались пристраивать бетонное крыло, его расширяли, и там, где собирались пристраивать, там были вбиты сваи. Они спускались во что-то, немного похожее на приямок или открытый небу подвал. Вокруг было смертельно-холодно, скудный снег 5 лежал под ногами, снег, непохожий на снег, похожий на тальк. Здание было зданием морга, но тут, среди блоков, в пристройке, морг будто не был моргом. Тут они целовались. Он хотел быть красивым и надевал до нельзя открытые, похожие на бальные, туфли и к ним белые носки. А она была в валенках. У неё на морозе, в бесснежье, цепенели концы розовых пальцев, у него мерзли отломленные передние зубы. Целоваться было странно. Он так осторожно, не нажимая зубами на губы, не целовал ещё никогда. Было непривычно, плохо. А ей хорошо. Она, - ой, да господи, да ничего подобного, - она не любила! Хотя на самом деле просто ещё не смотрела, что получится на снимках, если отдать всё эти негативы потом, спустя время, в проявку, она еще только снимала на плёнку души. Ему нечего было подарить ей за её слабые, подвижные тонкие рёбра, как у сжимаемой в руке синицы, за синичьи радостные глаза, за её «тинь-тинь-тинь». Когда он слегка сжимал её, а ребрышки прогибались, когда он в этот миг понимал, какой же слабый вообще-то у человеческой твари каркас, - он успокаивался: разбиться – раз плюнуть, в порядке вещей. Он навязал ей самый нелепый подарок, уродливее которого ничего нельзя было придумать – свои швейцарские платиновые «котлы»; и они так не шли ей, так не имели и не могли иметь к её худому запястью отношения, что он не считал это даже подарком; но одновременно они так сильно были его, что она догадалась: раз это так дико, потому что ну никак подарок не может быть таким неуместным, то это, нет, не подарок, это – предлог. К тому, что они встретятся, далеко и не здесь. И она, спасая его за всю неуместную дичь этих часов по отношению к ней, - их взяла. - А почему вы мне их?.. – попыталась ещё отшатнуться она. - А ведь уже завтра январь. В счёт твоего дня рождения в этом году. - А у вас когда будет? - У меня не бывает. У меня в феврале, по двадцать девятым. - Так это же - чудо! А как вы празднуете? - Гужу. - А мне можно приехать-поздравить? - Москва, Поликарпова, 10, 122. Вот когда он уехал, а она осталась тут в Кобулети, (как он пошутил: «кабулетничать при всех этих вот самогибцах от «Спартака»»), когда на последний медный грошик она пошла проявлять свою память, она поняла даже по спрятанным ещё в бобинку негативам, что вся тоска у неё – от него. А на позитиве так и вовсе, так и подавно на веки вечные, как ей подумалось, останется видным: он лежит бесконечно вытянутый, тёмно-небритый, смертельно-серый от никотина, значимый, твёрдый, с протянутой вдоль тела рукой, - на руке вот эти часы, тогда ещё его часы, показывают: времени у него на неё больше нет, - с другой рукой за головою, - на позитиве она увидела, что она его – смертно... Она его так сильно, что... Двадцать девятого февраля она приезжала. Сначала ей было ехать в Москву остро, страшно, как на обратную сторону Луны. Потом, во второй раз, уже привычней, уже просто как на Луну, на светлую сторону. Она просила его соблюдать ритуал: чтобы входная дверь была притворена не на ключ. Чтобы он встречал её не в прихожей, а в комнате - лёжа. Чтобы справа кровати, когда она войдёт, было узкое место, куда можно присесть на край, точно так, как на койку в палате тогда. Поезд ее приходил на Курский вокзал на рассвете. В половине восьмого она уже подъезжала к его дому. Его гнусная улица не казалась ей некрасивой. Она не понимала Москвы. Она шла пешком на невысокий четвертый этаж, избегая лифта. На третьем останавливалась, разувалась, снимала то, в чём приехала, прятала. Подстелив 6 что-нибудь, садилась на ступеньку лестницы и обувалась в совершенно невозможную вещь: это было сшито в театральной мастерской её городка: рюмочка каблука, обтянутого черным атласом, переходила в атласный полусапожек, но голенище было не из атласа, а из черной гарусной сетки, низкое, до щиколотки; всё застёгивалось на три крошечных пуговицы на накидных петлях, и представление о том, что из туфельки раньше пили шампанское – было не напрасным. Она поднималась еще на один этаж. Толкала дверь. Никого не было в прихожей, но раз дверь была приготовленно-открыта, она знала: она минует прихожую, начнёт заворачивать за стену с хмурым маленьким зеркалом. И увидит - его. Когда она входила, в доме всегда пахло сложно: грибами, блочными стенами, его мужским свитером и как будто смазкой для лыж. Она, ещё не видя его, садилась в прихожей на стул, отдыхала с минуту, чтоб унять сердце. Поднималась. Не было сил сделать вдох и выдох. Заворачивала за угол прихожей, - сюда вдавался комнатный альков, и – видела его живым. Это значило для нее... Она не могла определить словами, что это значило. Больше всего на свете она боялась, что дверь будет закрыта, или что она приедет, войдёт в комнату и увидит его – взятым на небо живым... Первую половину дня по приезду она не могла очнуться от поезда: её покачивало, казалось, что она всё еще едет: из Кобулети поезд шёл два с половиной дня. Она лежала на его узкой тахте вытянувшись, а он сидел рядом, боком, нависал над ней. «...у меня теперь ещё и куча прыщиков на лице... это помимо белых губ...» «Не видно. Показывай». «Вот тут вот под чёлкой. И тут». Он, держал её голову между локтей, отдувал вбок чёлку и целовал просо прыщиков на лбу. «Выйдешь замуж, у взрослой соскочат». «Да? Я выйду?» Он то оставлял её, и она придрёмывала, то возвращался - она просыпалась. К вечеру вставала, и они носили из кухни в комнату на скатерть все его разносолы. Ждали Чедышева. К восьми вечера подваливал Чедышев. С огромной спортивной сумкой. Доставал оттуда длинный французский хрустящий багет. Две бутылки «кубанской». Они садились втроём. Садились так: ей придвигали от теплой батареи нагретое, с низкими обрезанными ножками рыдванное кресло с рогатой богиней на спинке, а сами садились на ковровую холостяцкую тахту. Держа бутылку в белой крахмальной салфетке, для неё откупоривали вино. Сами пили «кубанскую». Чедышев приходил натощак. Он пах раздевалкой спортивного зала: всеми этими юниорами, их пыхом, петушьими голосами, испариной пыщущих щёк, всем этим тренерством. Но выпивал «кубанской» и пах только «кубанской». Он говорил, что картофельники с грибами – просто шик! Спорил: «Да какие это колдуны? Да - картофельная запеканка грибная, и всё! Бабка его её делала». «А я говорю - «колдуны», - отвечали ему. - Фу, черт, не «колдуны», «колдуны» – вот, а мы пробуем «цеппелины». Чтобы спрятать огреху, что и то и другое подаётся прямо на противне и на большой черной сковородке-жаровне, всё было обложено по краям базиликом, кинзой, черемшой. От теплого противня и жаровни дух зелени поднимался вверх, и когда зелень вяла, новую вынимали из воды – зелень в опарнице стояла тут же на столе, - и снова прибрасывали с краёв. - Ну что, девонька, ты пристроилась? – спрашивал Чедышев. - С печки на лавку. - Хорошую невесту и за печкой найдут. - Таракашки. - Не. Ты сверчка ищи. Он денежку насвирчит. А Коля что может? Одни вот грибы... Хотя нет. Он рыцарь. - Ребят. Кончайте марьяжить. Чед – иди сватом работай. На сторону. Не здесь. - Да я сам, как ты. - Ты сам знаешь, ты - другое. 7 - Да чего двоим надо? Пуд соли вместе заточить. Потихоньку. Лет так за пять. Это днём. А ночью ночную кукушку послушать. Погреться. Женитесь. - Она застудилась со мной. Я – мертвец. - Да таким ангелы софиты включают. - Иди к паралику. - Ладно. Вот допью. Я что – я чтоб ты пристраивалась всё-тки. До тридцатника-то далеко? - Покусь далеко. Покусь только двадцать четыре. Чедышев уезжал на моторе в половине второго. Они еле-еле убирали, что можно было убрать: пустые кремли бутылок, хлеб. И ложились. На узкую тахту. Не валетом, а тянитолкаем: головами по разные стороны, а согнутыми ногами - под бока друг другу. Она тёрла ему ступнями колени - они были холодны, гололёдны. Как будто от пояса кровь вообще не ходила. Спрашивала: «Помнишь, - ну то, что ты мне велел посмотреть в кино, - как он стоял в фонтане и говорил: «Никаких поцелуев. Только любовь?» «Ага. В плаще, в воде по колено, бухой». «Ну да, я посмотрела. Как он свечу там нёс через пустой надтреснутый бассейн. Как она гасла. А я знаю, почему сейчас хорошо. Потому что мы оба, ты и я - дураки». «Ты там за это время не того?» «Того». «А как же тогда приехала?» «Улизнула». И вот он после некоторых слов её иногда долго молчал. Тогда она опять начинала: «Когда из меня детство излетало, вот это вот наступало, ну что после детства идёт...» «Отрочество». «Да. И вот эта вот тягомотина началась раз в месяц, я поняла, что время - есть, что оно течёт, движется. Я про время поняла, знаешь, что? Что вселенную сделали, знаешь, зачем? Вселенная – часы. Чтобы Бог мог посмотреть, сколько время. Вселенная всё время тик-тикает, но в конце-концов останавливается. Конец настаёт. И Бог тогда ее снова заводит. Ты спишь?» Проходило время, они молчали. В темноте, с ногами, подсунутыми ему под бока, ей казалось, что тахта – телега. Их везут под рогожей, далеко-далеко. В конец жизни. Ей в телеге уютно, и ехать с ним ещё долго-долго. Покусь ещё они когда-то там в конец их общего времени доедут... Пока голову на плаху положат, ага… Времени ещё бог знает сколько пройдет. Она не приехала через четыре года. Причём ему странным делом казалось, что она даже тут где-то рядом, в Москве. Двадцать девятого февраля пришёл только Чедышев. Во время их унылого, один на один, грибного пира сказал: «Я по кабакам хожу. Я в «Зархане» в прошлом году видел, знаешь, что? Я не поверил. И знаешь где? В гардеробе. На вешалке. Лежит на гардеробной доске, у стены, в углу, черная туфля-не-туфля, - с притороченным чем-то сетчатым, - сапожок-не-сапожок; я взял, повертел – он как бутафорский. Я Тамиллу вспомнил. Гардеробщик ответил, что это точно актёры колбасились и осталось после них. - Знаешь, Чед, почему это не её? - Да я и сам знаю, что не её. А почему? - Потому что – не её. Мир держится - крестом. На одном конце стряхивают утром ночную температуру с градусника, трясут и раз, и два; на другом трясут деньгами в ресторане; на третьем, тоже в ресторане дробно трясут худыми плечами на маленькой сценке, - хорик хоть и цыганский, но тот, кто рассыпает перетряс - уж точно не из цыган, - на четвёртом разговаривают с чужими в электричке, вытряхивают жизнь из себя, как вытрясают чумной коврик, - жизнь пылит, пылит. А безмерно далеко отсюда, где-то совершенно не здесь, в стороне от азота звёзд, от кометного льда, Бог Живой, будто в гулком спортзале, сжимает вселенную в руке, как силомер, из бесконечности делая эллипс. 8 9