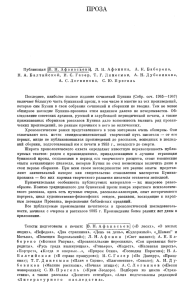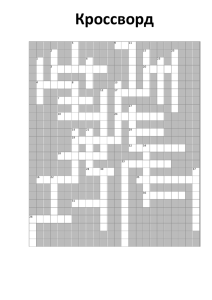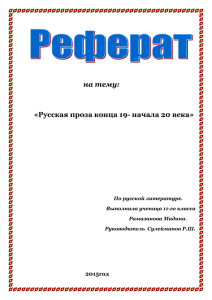Монография о Зурове
реклама
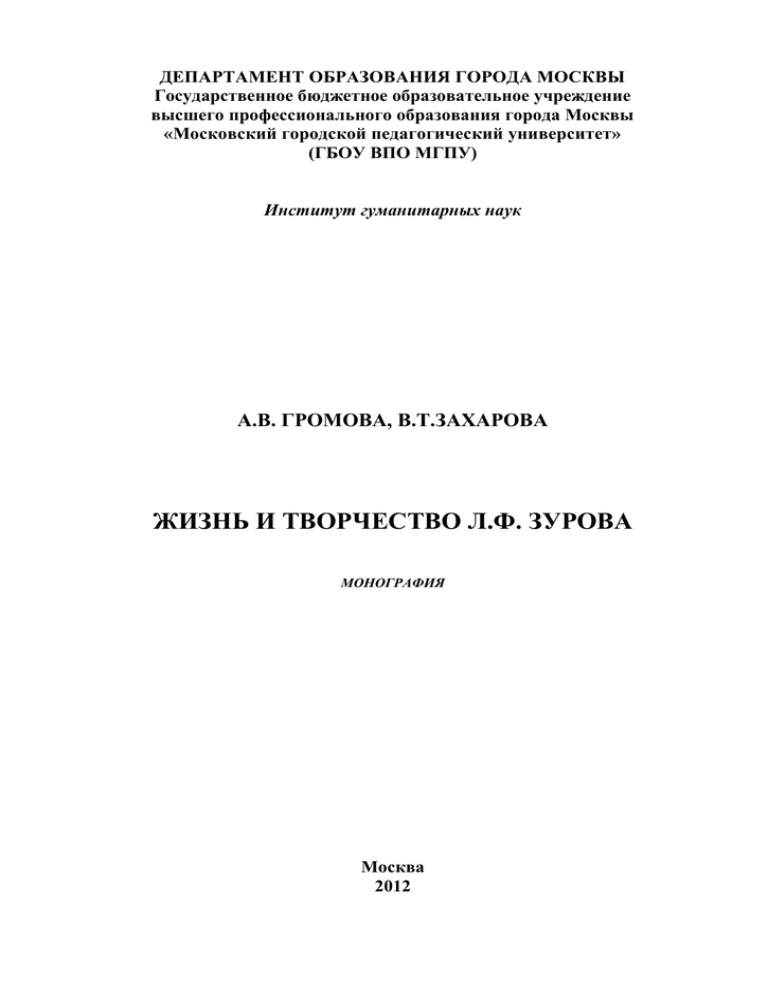
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГБОУ ВПО МГПУ) Институт гуманитарных наук А.В. ГРОМОВА, В.Т.ЗАХАРОВА ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Л.Ф. ЗУРОВА МОНОГРАФИЯ Москва 2012 УДК 801.8 ББК 83.3(2Рос.=Рус) Г 87 Печатается по решению Редакционно-издательского совета ГБОУ ВПО МГПУ Авторы: доктор филологических наук, доцент А.В. Громова, доктор филологических наук, профессор В.Т. Захарова Рецензенты: доктор филологических наук, профессор М.В. Михайлова (МГУ им. М.В. Ломоносова), Г 87 Громова А.В., Захарова В.Т. Жизнь Монография. – М.: МГПУ, 2012. – 134 с. и творчество Л.Ф. Зурова: Монография посвящена писателю первой волны русской эмиграции Леониду Фёдоровичу Зурову (1902–1971). Издание включает биографический очерк, характеристику археолого-этнографической деятельности и анализ художественной прозы Л.Ф. Зурова. Впервые предпринимается попытка дать целостное представление о личности и творчестве этой незаурядной личности, вводится обширный архивный материал. Монография адресована как специалистам-филологам, так и всем интересующимся русской литературой и историей. ISBN 978-5-8396-0507-7 © А.В. Громова © В.Т. Захарова ©ГБОУ ВПО МГПУ, 2012 2 Оглавление Введение………………………………………………………………………………4 Глава 1. БИОГРАФИЯ Л.Ф. ЗУРОВА……………………………………………….11 Глава 2. АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Л.Ф. ЗУРОВА…………………………………………………….33 Глава 3. ЖАНР ПОВЕСТИ В ПРОЗЕ Л.Ф. ЗУРОВА: АСПЕКТЫ ПОЭТИКИ….54 Повесть «Кадет»: поэтика жанра……………………………………………………54 Ратоборческий подвиг русских монастырей в художественном осмыслении Л.Ф. Зурова (повести «Отчина», «Обитель»)……………………………………….67 Глава 4. ЖАНР РОМАНА В НАСЛЕДИИ Л.Ф.ЗУРОВА………………………….76 Субстанциональный конфликт как основа сюжета в романе «Древний путь»..…76 Сюжетообразующая роль лирического начала в романе «Поле»………………….89 Глава 5. ПОЭТИКА НЕЗАВЕРШЁННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Ф. ЗУРОВА……98 Фрагмент неоконченного произведения как часть метатекста автора (на примере романа «Зимний дворец»)……………………………………………...98 Онтологические аспекты жанровой поэтики Л.Ф. Зурова (повесть «Иван-да-марья»)………………………………………………………….102 Глава 6. ПОЭТИКА МАЛОЙ ПРОЗЫ Л.Ф. ЗУРОВА. СБОРНИК «МАРЬЯНКА»…………………………………………………………..111 Заключение…………………………………………………………………………...133 Приложение: библиография………………………………………………………...134 3 Введение В настоящее время, когда изучение литературы Русского зарубежья первой волны уже достигло значительных результатов, в её истории ещё остается немало белых пятен. К темам, которые предстоит основательно исследовать, относится наследие Леонида Федоровича Зурова (1902–1971). Его привыкли воспринимать как «второстепенного» писателя русского зарубежья, принадлежавшего к молодому поколению первой эмиграции, а в ещё большей степени – как «персонажа примечаний» к биографии И.А. Бунина, с семьёй которого он прожил долгие годы. В 1960-е годы отношение к Зурову в Советском Союзе усугубилось из-за борьбы за «бунинское наследство». После смерти Бунина, а затем и его вдовы, В.Н. Буниной-Муромцевой, Зуров стал наследником обширного бунинского архива, который он безуспешно пытался передать в Советский Союз. Переговоры не привели к положительному результату: Зурову ответили, что архив «не имеет ценности», а после того, как писатель завещал архив профессору Эдинбургского университета М.Э. Грин, обвинили его в корыстных намерениях. И в современных публикациях продолжают появляться утверждения, что Зуров «продал» бунинский архив [10: с. 372], хотя наследие перешло в Эдинбург по завещанию писателя уже после его смерти. Выгоднее всего было бы продать рукописи в Бахметьевский архив Колумбийского университета (как делали очень многие писатели-эмигранты), однако, по свидетельству Б.К. Зайцева, Зуров был принципиально против этого [19: с. 248]. Негативное отношение советского литературоведческого сообщества к Зурову привело к тому, что в России возник и культивировался искажённый и крайне несправедливый образ писателя как бесталанного, неблагодарного и психически неуравновешенного человека, проживавшего в семье Бунина в качестве нахлебника. Этот образ укоренился не только в беллетристике и кино (повесть В.В. Лаврова «Холодная осень», фильм А.Е. Учителя «Дневник его жены»), но и в некоторых статьях, претендующих на научную достоверность [10; 4 18]. По этой причине и наиболее глубокие научные работы о Зурове нередко имеют внутреннюю направленность на развенчание несправедливого стереотипа [4; 8; 29; 33]. Несмотря на то, что творчество Зурова получило высокую оценку в критике эмиграции (его высказывались ценил Бунин, о произведениях Г.В. Адамович, Зурова Ю.И. Айхенвальд, положительно М.А. Алданов, А.В. Амфитеатров, К.И. Зайцев, а также представители его поколения – «младшие» эмигранты В.С. Варшавский, Ю.К. Терапиано, Ю. Фельзен, С.И. Шаршун), в России его произведения не переиздавались вплоть до конца 1990-х годов, да и в науке длительное время не уделялось должного внимания его самобытному творчеству. Лишь в 1990-е годы появился ряд публикаций, положивших начало объективному изучению жизни и творчества писателя. Среди первых нужно назвать подготовленный А.Н. Стрижёвым и выпущенный издательством «Паломникъ» сборник рассказов и повестей Зурова «Обитель», содержащий не только переиздания произведений ранее практически неизвестного писателя, но и критико-биографический очерк о нем, а также выверенную библиографию [26]. Нельзя не упомянуть энциклопедические статьи, также впервые знакомящие читателей с малоизвестным автором [17; 27]. Важную роль в деле изучения наследия Зурова сыграло издание библиографических материалов, например, работ о периодической печати в Риге [1; 2; 3]. Значимым стал выход каталога личного архива писателя [34]. В 2000-е годы, благодаря работе с архивными и редкими источниками, исследователи и издатели не только познакомили читателей с произведениями Зурова, но и ввели в научный оборот материалы, позволившие объективно взглянуть на биографию, личность и творческую деятельность писателя (см. публикации И.З. Белобровцевой [4; 5; 6; 7; 29], Р. Дэвиса [29], А. Рогачевского [5], А.Н. Стрижева [26; 31], А.В. Громовой [11; 12; 13; 14; 16]. Появление статей П.С. Глушакова [9], А.В. Громовой [15], В.Т. Захаровой [20: 21; 22; 23; 24; 25], А.М. Любомудрова [28], А.Г. Разумовской 5 [30], В.В. Шадурского [32; 33], посвящённых проблематике и поэтике прозы писателя, свидетельствует о новом этапе освоения его наследия. Авторы настоящего исследования ставили перед собой цель обобщить разрозненные сведения о жизни и археолого-этнографической деятельности Зурова и дать целостную характеристику его художественной прозы. Многие факты, а также включённый в монографию анализ конкретных произведений ранее излагались в статьях, перечень которых приведён в последнем разделе книги – библиографии. Авторы выражают надежду, что их объединённые усилия позволят составить по возможности полное и объективное представление о жизни и творчестве необыкновенного человека, каким был Зуров, а также помогут читателям и начинающим исследователям сориентироваться в самобытном художественном мире писателя. Введение, главы 1, 2 и 6 написаны А.В. Громовой, главы 3, 4, 5 и заключение – В.Т. Захаровой. Авторы выражают сердечную признательность за помощь и поддержку Александру Николаевичу Стрижеву и профессору Ирине Захаровне Белобровцевой, предоставившим ряд материалов, а также Е.В. Пушкиной, принимавшей участие в сборе и оформлении библиографического раздела книги. Примечания 1. А издавалось это в Риге: 1918–1944. Историко-библиографический очерк. – М.: Русский путь, 2006. 2. Абызов Ю. Русcкая печать в Риге / Ю. Абызов, Л. Флейшман, Б. Равдин. – Кн. 2: Сквозь кризис. – Stanford, 1997. – С. 135–138. 3. Абызов Ю.И. Русское печатное слово в Латвии: 1917–1944 гг.: Биобиблиографический справочник / Ю.И. Абызов. – Ч. 2. – Stanford, 1990. – С. 110–113. 4. Белобровцева И. «Видно, моя судьба, что меня оценят после смерти»: Предисл. к публ. повести Л. Зурова «Иван да Марья» / И. Белобровцева // Звезда. – 2005. – № 8. – С. 52–60. 6 5. Белобровцева И. В тени Бунина: А. Амфитеатров о Л. Зурове / И. Белобровцева, А. Рогачевский // Вторая проза: Сб.ст. – Таллинн, 2004. – С. 145–166. 6. Белобровцева И.З. К проблеме работы с недостоверными источниками / И.З. Белобровцева // Вопросы философии. – М., 2008. – № 1. – С. 77–89. 7. Белобровцева И.З. Л. Зуров и Эстония / И.З. Белобровцева // Русские в Прибалтике. – М.: Флинта; Наука, 2010. – С. 289–307. 8. Белобровцева И. Леонид Зуров – писатель-эмигрант, которого нельзя назвать «эмигрантским писателем» / И. Белобровцева // «В рассеянии сущие…»: Культурологические чтения «Русская эмиграция ХХ века»: Сб. докл. / Отв. ред. И.Ю. Белякова. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. – С. 181–190. 9. Глушаков П.С. Жанр исторической повести в литературе русского зарубежья: («Отчина» Л.Ф. Зурова) / П.С. Глушаков // Русская литература ХХ– ХХI вв.: проблемы теории и методологии изучения: Мат-лы Второй Междунар. науч. конф.: 16–17 ноября 2006 г. – М.: Изд-во МГУ, 2006 – С. 285–288. 10. Голубева Л. И.А. Бунин и Л.Ф. Зуров: История отношений / Л. Голубева // Вопросы литературы. – 1998. – № 4. – С. 372–376. 11. Громова А.В. Верования сетускогo и русскогo населения Прибалтики в описании Л.Ф. Зурова (1930-е годы) / А.В. Громова // Русский язык в странах СНГ и Балтии. – М.: ИЭА РАН, 2007. – С. 540–547. 12. Громова А.В. И.А. Бунин в письмах Г.Н. Кузнецовой к Л.Ф. Зурову (по материалам архива Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына) / А.В. Громова // Орловский текст российской словесности: творческое наследие И.А. Бунина. – Вып. 2. – Орел: ОГУ, 2010. – С. 83–94. 13. Громова А.В. Б.К. Зайцев и Л.Ф. Зуров: История отношений / А.В. Громова // Реальность – литература – текст: Мат-лы Всероссийск. научнопракт. конф. «Калуга на литературной карте России». – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2007. – С. 177–181. 7 14. Громова А.В. Из истории литературы русского зарубежья: (Сборник Л.Ф. Зурова «Марьянка» в отзывах читателей и критики) / А.В. Громова // Русская литература. – СПб., 2008. – № 2. – С. 203–211. 15. Громова А.В. Поэтика малой прозы Л.Ф. Зурова: (Сборник «Марьянка») / А.В. Громова // Пушкинские чтения–2007. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007. – С. 281–288. 16. Громова А.В. Этнографическое наследие Л.Ф. Зурова // Живая старина. – 2009. – № 1. – С. 46–49. 17. Дранов А.В. Зуров Л.Ф. / А.В. Дранов // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). – Т. I. Писатели русского зарубежья. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 183–184. 18. Духанина М. «Монастырь муз» // Журнал Вестник online. – 2002. – № 12 (297), 12 июня. URL: дата http://www.vestnik.com/issues/2002/0612/koi/dukhanina.htm, обращения: 08.01.2012 19. Зайцев Б.К. Собр.соч.: в 11-ти тт. / Б.К. Зайцев. – Т. 11. Письма 1923– 1971 гг. Статьи. Воспоминания современников / Сост. Е.К. Дейч и Т.Ф. Прокопов. – М.: Русская книга, 2001. – 512 с. 20. Захарова В.Т. Неореализм в русской прозе ХХ в.: типология художественного сознания в аспекте исторической поэтики: Учеб. пособие / В.Т. Захарова, Т.П. Комышкова. – Н. Новгород: НГПУ, 2008. – С. 45–51. 21. Захарова В.Т. Образ храма в мифопоэтическом комплексе «Родина» у писателей русского зарубежья (И. Бунин, Б. Зайцев, Л. Зуров) / В.Т. Захарова // Православие в контексте отечественной и мировой литературы. – Арзамас, 2006. – С. 527–534. 22. Захарова В.Т. Повесть Л.Ф. Зурова «Кадет»: поэтика жанра / В.Т. Захарова // Судьба жанра в литературном процессе: Сб. науч. трудов. – Вып. 3. – Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2010. – С .99–112. 23. Захарова В.Т. Ратоборческий подвиг русских монастырей в художественном осмыслении Л.Ф. Зурова: (Повести «Отчина», «Обитель») / 8 В.Т. Захарова // Православие и гуманитарное знание. – Н.Новгород, 2006. – С. 63– 68. 24. Захарова В.Т. Сюжетообразующая роль лирического начала в прозе Л. Зурова / В.Т. Захарова // Пушкинские чтения–2005. – СПб.: САГА, 2005. – С. 134–136. 25. Захарова В.Т. Фрагмент неоконченного произведения как часть метатекста автора: (На примере прозы Л.Ф. Зурова) / В.Т. Захарова // Зеркало истории. – М., 2008. – Вып. 5. – C. 95–99. 26. Зуров Л.Ф. Обитель: Повести, рассказы, очерки, воспоминания / Сост. А.Н. Стрижев. – М.: Паломникъ, 1999. – 623 с. 27. Любомудров А.М. Зуров Л.Ф. / А.М. Любомудров // Русские писатели ХХ в. Биобиблиогр. словарь: в 2-х чч. – Ч. II. – М., 1998. – С. 537–539. 28. Любомудров А.М. Православная традиция в литературе русского зарубежья / А.М. Любомудров // Литература в школе. – 2010. – № 1. – С. 23–26. 29. «Предчувствие мне подсказывает, что я недолгий гость»: Переписка И.А. Бунина и Г.Н. Кузнецовой с Л.Ф. Зуровым (1928–1929) / Публ. И. Белобровцевой и Р. Дэвиса. Вступ. ст. И. Белобровцевой // И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. I. – М.: Русский путь, 2004. – С. 232–284. 30. Разумовская А. «...И кровь мою воспитывала...» / А. Разумовская // Север. – 2007. – № 7 / 8. – С. 232–239. 31. Стрижев А. Л. Зуров: героика и благочестие / А. Стрижев // Москва. – 2003. – № 1. – С. 228–231. 32. Шадурский В.В. Л. Зуров: «Скобарь» в Русском Зарубежье / В.В. Шадурский // Русское зарубежье: приглашение к диалогу: сб. науч. трудов. – Калининград: Изд-во КГУ, 2004 – С. 208–213. 33. Шадурский В.В. Феномен Л.Ф. Зурова в русском зарубежье / В.В. Шадурский // Некалендарный ХХ век. – Великий Новгород, 2003. – Вып. 2. – С. 192–201. 9 34. Heywood A.J. Catalogue of the Ivan Bunin, Vera Bunina, Leonid Zurov and Ekaterina Lopatina collections / A.J. Heywood; Ed.: R. Davies, D. Riniker. – Leeds: Leeds University Press, 2000. – P. 291–351. 10 Глава 1. БИОГРАФИЯ Л.Ф. ЗУРОВА Леонид Федорович Зуров родился 5 (18) апреля 1902 г. в г. Остров Псковской губернии. Его отец принадлежал к купеческому сословию, а мать происходила из дворянского рода. Она рано умерла (покончила самоубийством), некоторое время будущий писатель жил с бабушкой по материнской линии, которая также вскоре скончалась, и его воспитание взяла на себя бабушка со стороны отца. Зуров учился в Псковском реальном училище. В Пскове он застал начало Первой мировой войны, пережил февральскую и октябрьскую революции и начало гражданской междоусобицы. Многие личные впечатления впоследствии послужили материалом для его художественных произведений, откровенно тяготеющих к документальности. В ноябре 1918 г., «16-летним реалистом» [56: с. 240], Зуров вместе с отцом записался вольноопределяющимся в формировавшийся в г. Острове 2-й стрелковый полк Северной армии, в отряд светлейшего князя А.П. Ливена (позже включенный в состав Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича), был пулеметчиком, участвовал в наступлении на Петроград, был контужен и дважды ранен (в левую руку и правое предплечье) [56: с. 234]. В 1919 г. армия Юденича при отступлении перешла новую границу по реке Нарва в Эстонию, была разоружена и интернирована эстонским правительством. В январе 1920 г. отец будущего писателя, служивший представителем Красного Креста в Нарве, умер от тифа, а в феврале, по сохранившемуся удостоверению, «старший унтер-офицер 5-го Островского полка Зуров Леонид уволен вовсе от военной службы за расформированием С.<еверо-> З.<ападной> Армии» [Цит. по: 8: с. 290]. После расформирования армии бывшие воины вынуждены были сами заботиться о своем содержании, и одной из возможностей для них стала работа в военном госпитале. С марта по май 1920 г. Зуров служил в Нарве санитаром 5-го Русского госпиталя для воинов Северо-Западной Армии. Условия работы были 11 настолько тяжелыми, что многие санитары и рабочие бежали оттуда. Это был период тифозной эпидемии, во время которой Зуров дважды переболел тифом – сыпным и возвратным. В самом начале июня он получил командировку в Ревель «по делам службы» и обратно в госпиталь уже не вернулся. По предположению И.З. Белобровцевой, «командировка была замаскированной формой облегчения бывшему северозападнику выезда из Эстонии» [8: с. 291]. Покинув госпиталь, Зуров приехал в Ригу. В Латвии жили его единственные родственники, в частности, родная сестра бабушки, А.Ф. Зуровой, Елизавета Федоровна Левкович [8: с. 291]. В Риге Зуров завершил школьное образование: в сентябре 1920 г. он поступил в 3-й класс Рижской Городской Русской средней школы, которую окончил в июне 1922 г. Получив аттестат, Зуров продолжил обучение в Чехословакии, поступив осенью 1922 г. в Пражскую Высшую техническую школу на отделение архитектуры и наземных сооружений. Одновременно он посещал археологический факультет Карлова университета и семинары известного историка и археолога, академика Н.П. Кондакова. Интересы Зурова были, вероятно, предопределены его приверженностью к героической истории родного края, воспоминаниями о детстве в Пскове, «желанием послужить памяти предков, исчезающей памяти Отечества» [57]. Проучившись чуть более года, Зуров был вынужден оставить учебу по состоянию здоровья. Мешало и безденежье, и невозможность найти работу в Праге, и территориальная отдаленность от России. Позже Зуров писал об этом периоде Г.Н. Кузнецовой: «Прага меня в свое время замучила; рабочие кварталы и дым крематориума <…> до сих пор не могу вспомнить без содрогания» [56: с. 252]; «В Праге было очень тяжело. В 1924 г. после госпиталя и летнего отдыха я покинул ее, чтобы очутиться около родных полей. К Латвии отошел кусок нашей Псковской губернии. И близость России меня укрепила лучше всех докторов» [56: с. 248]. 12 Вернувшись в Ригу, Зуров перебивался случайными заработками, нередко – на тяжелой работе (работал репетитором, маляром, рабочим на кинематографической фабрике и в типографии, чернорабочим городской управы на понтонном мосту, такелажником в порту). В Риге Зуров активно включился в общественную жизнь, вступил в Общество русского студенчества в Латвии, представительствовал на 2-м съезде студентов-эмигрантов в Праге, в апреле 1924 г. – на конференции Объединения русских эмигрантских студенческих организаций, в марте 1926 г. – на Российском зарубежном съезде в Париже. На общем собрании Общества Зуров выступил с докладом о необходимости захоронения в братской могиле воинов, павших в Гражданскую войну. Этой же важной для Зурова теме было посвящено его первое стихотворение «Павшим», помещённое в рукописном студенческом альманахе «На рубеже» ещё в 1922 г. [56: с. 234]. Включённый в альманах рассказ «Вечерний звон» и стихотворение «Цветы на могилу» были опубликованы в рижской газете «Маяк» (1922) [22; 46] и стали первыми выступлениями Зурова в печати. Памяти павших воинов посвящены и статьи Зурова, опубликованные в рижской газете «Слово» уже после возвращения из Чехословакии [25; 32]. Интерес к литературной деятельности привёл Зурова в редакции рижских изданий. В 1925 г. он помогал в качестве секретаря одному из редакторов сборника «Белое дело» Ливену, готовил материалы для «Архива гражданской борьбы с большевизмом». В 1927 г. в альманахе «Белое дело» был опубликован посвященный 12-му Темницкому Гренадерскому полку очерк Зурова «Даниловы» [27], написанный на основе рассказов участников событий, а также воспоминаний полковника А.Д. Данилова и хранившихся у него документов. История Белого движения, участником которого был Зуров, стала для него важнейшим делом жизни. На протяжении многих лет он занимался сбором материалов по истории Северо-Западной армии (в частности, отряда Ливена, позже переформированного в 5-ю Ливенскую дивизию), включая приказы по 13 армии, рапорты, донесения, финансово-хозяйственные документы, дневники и письма офицеров, а также записи устных рассказов бывших северозападников. В 1961 г. Зуров сообщал М. Грин о содержании своего архива: «Среди исторических материалов – 1918 г. – то, что записал после бесед с однополчанами, участниками Северо-Западной армии. Там 2–3 тетради: Темницкий полк, Даниловский отряд (рассказ полковника Алексея Даниловича Данилова о наступлении на Петербург). Подаренные мне воспоминания пулеметчика Северо-Западной армии о наступлении на Петербург. Очень цельный дневник, которым я никогда не пользовался. <…> Письма офицеров в 19–20 гг., писанные на фронте СевероЗападной армии, адресованные Ливену. Часть Ливенского архива» [56: с. 235]. Эти материалы после смерти писателя перешли в составе его архива к М. Грин, которая передала их А.И. Солженицыну (сохранилась переписка, которая велась между ними по этому вопросу в 1978–79 годах). В 1996 г. эта часть зуровского архива была передана Александром Исаевичем и Натальей Дмитриевной Солженицыными в Москву, в архив-музей Библиотеки-Фонда «Русское Зарубежье» (ныне переименованной в Дом Русского Зарубежья имени А.И. Солженицына), а в 2005 г. выделена в отдельный архивный фонд (объединённый архивный фонд 39 «Северо-Западная армия»). С 1926 г. Зуров сотрудничал в журнале «Перезвоны», где не только помещал свои публикации, но также исполнял обязанности секретаря редакции и инкассатора (собирал деньги с подписчиков по русским деревням), а с 1928 г. входил в число его постоянных сотрудников. «Перезвоны» – русский еженедельный, потом ежемесячный литературнохудожественный журнал, издававшийся в Латвии с ноября 1925 по 1929 г. (всего вышло 43 номера) акционерным обществом печатного дела «Саламандра». Издателем журнала был предприниматель С.А. Белоцветов, ответственным редактором – его брат, Н.А. Белоцветов, первым редактором литературного отдела – Б.К. Зайцев. 14 Издание задумывалось как журнал для семейного чтения, по характеристике Зайцева, «особенно ни на что не претендующий», печатавшийся по старой орфографии, «литературный, научный, без политических статей», с политическим «наклоном вправо» [17: с. 20, 21]. О структуре издания Зайцев писал: «Половина номера – литература, дальше детск<ий> отд<ел>, юмор, снимки, текущ<ая> жизнь и т.д.» [17: с. 23]. Художественным отделом руководил М.В. Добужинский, он же создал для обложки рисунок, объяснявший смысл названия журнала: «<…> Перезваниваются между собой эмигрантские гнезда – Нотр Дам с Собором Петра, Стефаном и т.д.» [17: с. 23]. Несмотря на скромность первоначального замысла, к сотрудничеству были привлечены все крупнейшие писатели русского зарубежья: М.А. Алданов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, А.М. Ремизов, Н. Тэффи, В.Ф. Ходасевич. На прошедшей в 2005 г. в Риге специальной конференции журнал был признан «гордостью издательского дела Латвии». В том же издательстве «Саламандра» выходила газета «Слово», в которой Зуров печатался в 1926–29 гг. (особенно активно – в 1927 г.). Во второй половине 1920-х годов Зуров окончательно сформировался как писатель. С 1925 по 1929 г. (до отъезда во Францию) в рижской периодике (газетах «Слово», журнале «Перезвоны» и др.) им было опубликовано 38 очерков и рассказов. Тогда же определились основные темы его творчества. Это прежде всего история Гражданской войны и Добровольческого движения [47; 42; 33; 24: 27: 44], а также жизнь русских крестьян старообрядческих деревень Латгалии [21; 48; 43; 20; 26] и история древностей Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря [45; 40]. В писательских кругах русского зарубежья имя Зурова стало широко известно в 1928 г., когда в рижском издательстве «Саламандра» одна за другой вышли две книги его художественной прозы: «Кадет» и «Отчина». Первый сборник включил повесть «Кадет» и ещё семь рассказов, первоначально публиковавшихся в газете «Слово». Центральный герой заглавной повести – 16-летний кадет Митя Соломин, который с оружием в руках отправляется защищать свои идеалы и становится участником Ярославского 15 восстания в июле 1918 г. Повесть можно назвать «автопсихологической», хотя описанные в ней факты не совпадают с реальной биографией Зурова. Тем не менее художественная достоверность изображённого была настолько высока, что оно воспринималось как лично пережитое автором. Спустя много лет в письме к Н.Е. Андрееву от 30.08.1958 г. Зуров вспоминал: «<…> после выпуска “Кадета” парижские литературные круги решили, что повесть автобиографична, что я кадет, учившийся во время революции в Ярославле. В те времена я получил несколько писем от неизвестных мне людей, в которых они запрашивали о судьбе некоторых ярославских кадетов» [41]. Зуров сообщал об истории создания повести следующее: «”Кадет” вовсе не автобиография. Не передача автором истории своей, а серьезно проведенная творческая работа над материалом – устными рассказами, запис<анными> от ост<авшихся в живых после /?/> Яр<ославского> восст<ания> и перераб<отанными> творчески автором и добавленн<ыми> им» [56: с. 236]. Художественный пафос повести хорошо прочувствовал современный исследователь А.Н. Стрижев, который писал о первых произведениях Зурова: «Взятое им национально-историческое направление в изображении облика прочных созидательных устоев жизни, в изобличении злодейских приемов разрушения этих устоев и верховенства греха выдвинуло на передний план непреходящее значение религиозно-нравственного идеала» [57]. Действительно, религиозность, глубоко прочувствованные духовные основы русского традиционного уклада стали константой художественного мира Зурова. Не случайно следующей после «Кадета» книгой стала «Отчина» – «сказание о Древнем Пскове». В 1928 г. издателями альбома «Псково-Печерский монастырь: Общий культурно-исторический очерк» Зуров был командирован в находившийся на территории Эстонии г. Петсери (Печоры) с целью составления описи древностей библиотеки и ризницы Псково-Печерского Свято-Успенского мужского монастыря [см: 54]. В том же году была издана его книга «Отчина: Повесть о древнем Пскове», посвященная истории обители и Псковского края во времена 16 Иоанна Грозного. Книга вышла в художественном оформлении автора, использовавшего для украшения древние киноварные буквы XVI в., рисунки филиграней бумаги и тиснений переплетов, а также собственные рисунки монастырских построек – церкви свт. Николая Чудотворца (Николы Вратаря) и главной звонницы. В предисловии к книге автор указал: «Очерки Отчина – результат весенней работы в Псково-Печерском монастыре. Пользуясь гостеприимством обители, я смог просмотреть рукописную библиотеку, хранящуюся в ризнице, и сделать зарисовки букв, водяных знаков и кожаных тиснений. В библиотеке мне удалось обнаружить заброшенную икону с рисунком обители конца царствования Алексея Михайловича и богатую киноварными буквами рукописную книгу XVI века Государева Дьяка Мисюря Мунейхина» [36: с. 5]. В письме Г.Н. Кузнецовой в январе 1929 г. Зуров писал: «Отчину я обещал Владычице Печорской, Покровительнице моей земли. Ее икона часто заходила к нам. Я ее помню ребенком» [56: с. 248]. Разослав экземпляры книг ведущим писателям и критикам эмиграции, Зуров получил благожелательные отзывы Г.В. Адамовича, Ю.И. Айхенвальда, А.В. Амфитеатрова, И.А. Бунина, К.И. Зайцева, А.И. Куприна, П.М. Пильского, И.С. Шмелева, единодушно отметивших талант начинающего прозаика. Айхенвальд писал: «Такой безукоризненный русский язык, такой хороший, сдержанный тон, в котором повествуется о русском ужасе, такое чувство русской природы и усадьбы. <…> Ужасное изображает он, но так это переплетено с трогательным, и нежным, и грустным, что не мрак идет от его очерков на душу читателя, а какое-то тихое волнение, недоумение, “светлая печаль”, лучи примирения» [2]. Шмелёв в письме Амфитеатрову заметил: «Зуров – даровитый, м<ожет> б<ыть>, добрая “смена”. По-моему – лучший и надежнейших из молодых. <…> Он – настоящий, по-видимому, а не из “старателей”, не из – “вприглядку” 17 пишущих, избравших литературу, как будто бы “легкую” работу. <…> Зуров – культурен, с заквасом от… предков? <…> Зуров любит родное и отдает себя за него. У него – дар» [56: с. 253]. Важнейшим фактором признания стал для Зурова положительный отзыв Бунина, который не только с восторгом воспринял первую книгу начинающего автора, но и заинтересовался его судьбой. 7 декабря 1928 г. Бунин обратился к Зурову с письмом, в котором расспрашивал о его жизни. Завязалась переписка, которая продолжалась до ноября 1929 г. [55; 56]. После получения второй книги Зурова – «Отчина» – Бунин опубликовал в газете «Россия и славянство» рецензию, в которой маститый писатель не только хвалил начинающего автора, но и выделял его среди других, и популяризировал его творчество в читательской среде. Бунин писал: «Недавно я, совсем неожиданно, испытал большую радость: прочел книжку нового молодого русского писателя, Леонида Зурова, изданную в Риге и состоящую из повести “Кадет” и нескольких небольших рассказов: подлинный, настоящий художественный талант, – именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает, – много, по-моему, обещающий при всей своей молодости. Поспешил что-нибудь узнать об авторе этой книжки. Узнал, что ему всего двадцать шестой год, что родился и рос он в Псковском краю, шестнадцати лет ушел добровольцем в Северо-Западную Армию, был два раза ранен, потом попал в Ригу, где был рабочим, репетитором, маляром, секретарем журнала “Перезвоны”, а теперь живет на свой скудный литературный заработок; что писать он начал всего три года тому назад, работая с большими перерывами, при очень тяжелых материальных обстоятельствах <…> На днях я с еще большей радостью прочел его новую книжку “Отчина”. Он мне пишет (в ответ на мое письмо о первой его книжке), что “Отчину” он писал “по обещанию”. И в предисловии к ней говорит: “Это результат моей работы в Псково-Печерском монастыре, в его рукописной библиотеке, весной 1928 года…” Уже одно это прекрасно. Но прекрасна и сама книжка, – на нее надо обратить особенное внимание. Дай Бог всяческого благополучия молодому дарованию» [9]. 18 Заочное знакомство с Буниным стало поворотным моментом в судьбе Зурова. Бунин начал настойчиво звать молодого писателя к себе, обращался к К.И. Зайцеву и В.Ф. Зеелеру с просьбой посодействовать Зурову в получении въездной визы во Францию и даже выслал ему деньги на дорогу. Первоначально, получив приглашение Бунина, Зуров не торопился принять решение о переезде, несмотря на то, что Париж к этому времени стал признанным культурным центром русского зарубежья, а покровительство Бунина сулило ему поддержку в литературных кругах. Как ни странно, связи с крупными изданиями не прельщали Зурова и позже, когда он жил у Буниных во Франции. Он не стремился много печататься, отказывался от легкого заработка газетной подёнщиной и сосредоточенно работал над крупными прозаическим произведениями (об этом можно судить, например, по переписке Зурова с Кузнецовой 1930-х годов) [37; 11]. Кроме того, Зуров не имел во Франции знакомых, не знал французского языка и сомневался, сможет ли найти в чужой стране подходящую работу, а именно, такую, которая давала бы «возможность заниматься литературным трудом» [56: с. 271]. С другой стороны, жизнь в Латвии означала для Зурова близость к России, а это было одним из важнейших факторов его душевного равновесия и творческого настроения. Тем не менее, непростое решение о переезде во Францию было принято, и 23 ноября 1929 г. Зуров приехал в Грасс на виллу Бунина. Приезд Зурова был запечатлён в дневниковых записях Муромцевой-Буниной и Г.Н.Кузнецовой. Вера Николаевна записала: «Утром шум. Я кончала молитву. Вышла в переднюю: вижу высокий молодой человек с чемоданом <...>. Значит, Зуров приехал, как и думали – приедет неожиданно. Сразу бросилось в глаза, что на карточке он не похож – узкое лицо, менее красивое, нос длиннее, глаза уже и меньше – но приятные. <...> Ян вышел на шум, в очках, и знакомство состоялось. <...> Зуров вспыхнул, вытянулся по-военному, просто сдержанно поздоровался. <...> Зуров привез каравай черного мужицкого хлеба, коробку килек, сала, антоновских яблок, клюквы и нам по маленькой корзиночке, с которыми дети 19 ходят по грибы, по ягоды. Впечатление приятное, простое, сдержанное. Много рассказывал о Латгалии (части б<ывшей> Псков<ской> губ<ернии>), где он бродил последние годы. Народ наш он знает, любит, но не идеализирует» [58: т. 2, с. 211–212]. А вот свидетельство Кузнецовой в её мемуарном «Грасском дневнике»: «Приехал Зуров. <...> Приехал он в 10 ч. утра с двумя чемоданами, привез русский черный хлеб, антоновских яблок, липового меду, вяленой баранины и плетенку клюквы, а нам с В<ерой> Н<иколаевной> по русскому лукошку. От всего этого веет древлянами и печенегами, а хлеб вызвал даже крики изумления у нашей Камий [кухарка Буниных – А.Г.]. Да и мне было странно смотреть на него, когда он лежал передо мной на столе, чуть не железного цвета, какой-то обломок лаврского колокола!» [51: с. 142–143]. Тогда никто не мог предполагать, что Зуров задержится в доме Бунина надолго, спустя годы будет ухаживать за умирающим писателем и ещё восемь лет после его кончины будет проживать в одной квартире с Верой Николаевной, которая искренне привязалась к Питомцу (такое прозвище получил Зуров в семье Буниных). Переехав на виллу «Бельведер», Зуров попал в творческую среду, сформировавшуюся вокруг Бунина, несмотря на удалённость Грасса от Парижа – культурного центра русской эмиграции. В доме Бунина часто гостили литераторы, а некоторые проживали постоянно. В числе последних в начале 1930х годов были Н.Я. Рощин (впоследствии уехавший в Советский Союз) и Г.Н. Кузнецова, находившаяся на положении нахлебницы и ученицы. Примерно также стали воспринимать и Зурова. Творческая атмосфера, поддерживавшаяся Буниным, разрушалась двусмысленностью ситуации, которая недоброжелательно обсуждалась в Париже. Отношения с Буниным складывались у Зурова непросто. Это было вызвано прежде всего нежеланием младшего попадать в моральную и материальную зависимость от старшего. Но реальной возможности обрести в чужой стране материальную независимость, при этом продолжая заниматься писательством, у 20 Зурова не было. Несмотря на все попытки эмансипироваться (Зуров разводил на вилле огород, устраивался на работу, платил Бунину – единственный из нахлебников – небольшую сумму за проживание), различные объективные обстоятельства (незнание французского языка, начавшийся в 1932 г. туберкулёз) не позволили ему обрести полную свободу. Не меньше угнетало и отсутствие адекватной среды, и положение «младшего», и разочарование в «парижских писателях». В «Грасском дневнике» Г.Н. Кузнецовой содержатся весьма показательные свидетельства моральной угнетенности Зурова. 25 июня 1939 г. она пишет: «З.<уров> вчера говорил мне, что у него бывает ужасная тоска, что он не знает, как с ней справиться, и проистекает она от того, что он узнал, видел в Париже, из мыслей об эмиграции, о писателях, к которым он так стремился» [51: с. 170]. 9 июля 1930 г. она записала: «Л.<ёня> говорил мне, сидя в саду перед прогулкой, что ему здесь постоянно после работы бывает грустно, не хватает молодости, не с кем пошуметь, повеселиться. Вы уже стали даже медленно ходить, все себя сдерживаете, – с горечью сказал он» [51: с. 178]. А 20 марта 1931 г. Кузнецова отметила: «Сегодня утром вдруг вышел очень серьезный и грустный разговор с Л.<ёней> о будущем. Уже давно приходится задумываться над своим положением. Нельзя же, правда, жить так без самостоятельности, как бы в “полудетях”. Он говорил, что мы плохо работаем, неровно пишем, что сейчас все на карте. Я знаю больше, чем когданибудь, что он прав» [51: с. 245]. Несмотря на множество документальных свидетельств непростых взаимоотношений Бунина со своим «младшим» окружением, нельзя не отметить и благотворность среды, поддерживавшей и питавшей молодых писателей. Одно из самых сильных свидетельств этому – письма Кузнецовой к Зурову, написанные во время её кратковременных поездок в Париж в 1931–1932 гг. Ведущий мотив этих писем – ощущение собственного одиночества среди расчетливых русских «парижан». Описывая жизнь в Париже, Кузнецова отмечает: «Наше повышенное отношение к писанию проявлять здесь просто психически невозможно, потому что никто здесь давным-давно не смотрит на это как на священнодействие, а как 21 на обычную жизненную функцию, вроде еды, о которой говорить в повышенном тоне просто дурной тон» [37: л. 6]. И далее: «Увы! Никто так не будет здесь беречь наши чувства, как это делаем мы на Бельведере… Пишу Вам это все, потому что люблю Вас и не хочу, чтобы к Вам относились несерьезно» [37: л. 7, об]. Искренний голос одного из членов бунинского «кружка» свидетельствует, что ценности творческие и человеческие в этом «клане писателей» [51: с. 176] ставились выше личного самолюбия. Живя во Франции, Зуров вскоре стал достаточно известен. В 1937–1939 гг. он был председателем Объединения молодых Русских Писателей и Поэтов в Париже, активно посещал литературные мероприятия, его публикации появлялись в русской зарубежной печати. Зуров печатался в парижских изданиях «Последние новости», «Иллюстрированная Россия», «Современные записки», альманахе «Круг»; эстонском журнале «Старое и новое», сборнике «Новь», газете «День русского просвещения», в рижских газетах «Сегодня», «Для Вас», «Наша газета», где в 1930–1944 гг. вышло 13 его публикаций. Зуров также участвовал в подготовке рижского старообрядческого журнала «Родная старина». В 1930-е гг. Зуров создал ряд произведений малой прозы и два романа, действие которых разворачивается на фоне событий Первой мировой и гражданской войн: «Древний путь» (Париж: Современные записки, 1934) и «Поле» (Париж: Дом книги, 1938). Произведения Зурова имели резонанс в критике: о них положительно отозвались Г.В. Адамович, П.М. Бицилли, В.С. Варшавский, К.И. Зайцев, Ю.Л. Мандельштам, П. Пильский и др. Г.В. Адамович, скептически относившийся к творческой манере Зурова, выделял его среди молодых писателей эмиграции, ставя в один ряд не только с Ю. Фельзеном и С.И. Шаршуном, но и с Г.И. Газдановым и Сириным [1]. Будучи сотрудником парфюмерной лаборатории А. Рождественского в Грассе, в марте 1935 г. Зуров получил командировку в Эстонию, Латвию и Литву с целью налаживания коммерческих связей. Направляясь по делам службы, весной 1935 г. он посетил Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Годом 22 позже насельники Валаама после прочтения книги Зурова «Отчина» приглашали его вновь посетить монастырь, но эта поездка не состоялась. Важнейшей стороной деятельности Зурова были его археологические и этнографические изыскания, которыми он занимался на любительском уровне, но с большим энтузиазмом. Ещё в 1920-е годы Зуров самостоятельно посещал Латгалию, в 1928 г. участвовал в создании книги о Псково-Печерском монастыре, а в 1930-е годы трижды ездил в научные экспедиции в Прибалтику (в 1935, 1937 и 1938 гг.). Результатом поездок стали археологические находки, коллекции предметов народной материальной культуры, множество фотографий, а также этнографические записи, обобщённые Зуровым в его экспедиционных запискахотчетах [см. об этом: 50; 12; 14]. Поездки в Эстонию и посещения Псково-Печерского монастыря дали писателю материал для творчества: на основе впечатлений позже были написаны многие произведения, в том числе рассказ «Обитель» [34]. С посещениями Прибалтики связано и самое значительное личное переживание Зурова. В 1935 г. в Таллине Зуров познакомился с молодой художницей Кирой Борисовной Иртель-Брендорф (1917–1989). Она была замужем, но, по-видимому, прониклась сильным чувством к Леониду Федоровичу. В 1937 г. она сопровождала его в экспедиционной поездке по Печерскому краю, о чём свидетельствуют мемуары историка Н.Е. Андреева (впоследствии – преподавателя Кембриджского университета), также принимавшего участие в этой экспедиции. По свидетельству Н.Е. Андреева, взаимоотношения Зурова и Киры были настолько серьёзны, что она была готова уйти от мужа и связать свою судьбу с Зуровым [3: с. 353]. Однако, не имея ни своего дома, ни постоянного заработка, он не мог предложить ей достойных условий жизни. В английском архиве Зурова сохранилось несколько писем и открыток К.Б. Иртель, последние из которых датированы 1939 годом [6]. Впоследствии К.Б. Иртель жила в СССР, стала известным художникомиллюстратором, вместе со своим мужем В.М. Григорьевым иллюстрировала дет- 23 ские книги. Её обликом был навеян образ Киры из последней повести Зурова «Иван да Марья» [6]. Осенью 1938 г., вернувшись из экспедиции, Зуров остался в Париже, систематизируя собранные материалы. Он не хотел возвращаться в Грасс и мечтал переехать на жительство в Латвию. В 1939 г. Зуров был мобилизован во французскую армию, весной 1940 г. освобождён от службы как больной туберкулёзом и долго лечился в санатории, откуда в сентябре 1940 г. вернулся в Грасс. В годы Второй мировой войны Зуров вновь проживал у Буниных вместе с Г.Н. Кузнецовой, М.А. Степун и А.В. Бахрахом, необъективно запечатлевшим облик писателя в своей мемуарной книге «Бунин в халате» [5]. Зурова дважды арестовывало Гестапо. Нельзя забывать о том, что он был хорошо знаком с Б.В. Вильде, который в канун войны помогал ему организовывать этнографические экспедиции в Прибалтику, а в военные годы стал одним из главных деятелей французского Сопротивления. В конце войны у многих патриотично настроенных русских эмигрантов оформилось настроение доверия к советскому правительству. Зуров принимал участие в деятельности «Союза друзей Советской Родины», сотрудничал в газете «Советский патриот», а 22 декабря 1944 г. обратился к советскому представителю во Франции с просьбой передать результаты его исследований Печёрского края «советским научным учреждениям». Однако возвращаться в Россию «при советской власти» Зуров не собирался, о чём заявлял достаточно категорично [31: л. 5]. После войны Зуров служил сторожем в Буживале под Парижем. Он вновь включился в литературную жизнь, помещал публикации в парижских альманахах «Встреча», «Русский сборник» [39; 29; 18], с 1945 г. печатался в США – в изданиях «Новоселье», «Новый журнал». По материалам рассказов одной из узниц немецкого концентрационного лагеря он написал статью «Аушвиц» [19]. В послевоенные годы стали налаживаться отношения Зурова с Буниным. В 1947 г. Зуров поддержал решение Бунина выйти из Союза русских писателей и 24 журналистов во Франции, после того как из него были исключены литераторы, принявшие советское гражданство. В 1952 г. во время тяжёлой болезни Бунина Зуров ухаживал за писателем, а после его смерти поселился в его квартире и помогал В.Н. Буниной в подготовке издания последней книги писателя «О Чехове». После кончины В.Н. Буниной Зуров унаследовал архив семьи писателя, систематизировал его и опубликовал некоторые материалы [49; 52]. Он также переписывался с исследователями творчества Бунина в СССР, сообщал ранее неизвестные сведения о жизни писателя. В конце 1950-х гг. Зуров переписывался с советскими историками и готовил новый обзор своих исследований по истории Псковского края для АН СССР. В послевоенные годы Зуров не прекращал творческую деятельность. С конца 1930-х гг. он работал над романом «Зимний дворец» – первой частью задуманной, но неосуществленной исторической трилогии-эпопеи о событиях революции в обеих столицах и в провинции. Стремившийся к наибольшей исторической точности автор тщательно переделывал «Зимний дворец». С 1946 г. в Нью-Йорке печатались отдельные главы романа [28; 29; 38], сохранилась его обширная рукопись [Хейвуд 59: p.]. Однако «Зимний дворец», как и две другие части трилогии – «Большое Вознесение» и «Перекати-Поле» – остались незавершёнными. Творческие искания Зурова шли параллельно со сходными поисками А.И. Солженицына. Тем не менее, Зуров негативно отозвался об изданном в Париже в 1971 г. романе «Август четырнадцатого» (в письме к М.Э. Грин): «<…> здесь все надуманно, живых людей нет. <…> Слава Богу, уцелело много офицеров, которые помнят 14 год. Живы еще и офицеры генерального штаба. Солженицыну из зарубежья помогали. Ему было послано много военных материалов <…>. Он их использовал <…>, но как он использовал их. <…> Не книга о 14 г., а полный срыв, провал. <…> Я дочитал до 198-ой страницы и устал. Стало скучно. Ведь Солженицын не почувствовал ничего. Интуиции у него нет. Эпоху он чувствует только свою. Прекрасно пишет о том, что сам видел и пережил. Там он в полной силе» [цит. по: 7]. По справедливому наблюдению 25 И.З. Белобровцевой, причиной непонимания стала эстетическая установка Зурова на предельную правдивость, которую писатель понимал как следование документу. В итоге роман «Зимний дворец» не был завершён. Неоконченной осталась и повесть о любви «Иван-да-Марья», действие которой происходит в годы Первой мировой войны. Реконструированный И.З. Белобровцевой текст повести был опубликован в 2006 г. [30]. В 1953 г. у Зурова впервые проявились признаки душевного расстройства, которые выражались, главным образом, в страхах: боязни провокаторов и шпионов, боязни возможного похищения и т.п. Обострение болезни, вызванное нервными потрясениями, пережитыми во время войны, и переутомлением (связанным как с напряженной работой над романом, так и с необходимостью ухаживать за тяжело больным Буниным) привело писателя в больницу. Там Зуров находился до декабря, из-за чего не смог присутствовать на похоронах И.А. Бунина. Крест над могилой писателя на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа был выполнен А.Н. Бенуа по эскизу Зурова с древнерусского памятника псковской земли – «труворова креста». Ещё в 1951 г. В.Н. Бунина развернула кампанию по сбору денег на издание «Зимнего дворца». Однако собранные деньги ушли на лечение, а вместо обещанного романа в 1958 г. вышла последняя книга Зурова «Марьянка» – сборник, состоявший из 21 рассказа, ранее опубликованного в периодике. Автор рассылал экземпляры книги ранее подписавшимся на «Зимний дворец» и получил несколько десятков благожелательных отзывов читателей. Сборник также получил хорошие отзывы в критике – в рецензиях Г. Адамовича, Ю. Большухина, А. Шика, В. Унковского. В 1950–1960-х гг. Зуров несколько раз посещал зарубежные страны: Данию, Шотландию (по приглашению М.Э. Грин), где собирал сведения по генеалогии рода Лермонтовых. Результаты его изысканий были опубликованы в ньюйоркском «Новом журнале» в 1961 и 1965 гг. [23]. Также он собирал материалы по древней истории Бретани. 26 После кончины В.Н. Буниной Зуров оказался в полном одиночестве. Он проживал в квартире, которую ранее занимали Бунины, в доме неподалеку от дома Б.К. Зайцева. Зуров был дружен с его дочерью, Натальей Борисовной, и её мужем, Андреем Владимировичем Соллогубом. Н.Б. Зайцева-Соллогуб приняла на себя заботу о писателе, который посещал их дом практически ежедневно. Она относилась к Зурову с большой теплотой, в своих воспоминаниях отметила, что он был очень талантливым и серьёзным человеком [53: с. 210–215); она же в сентябре 1971 г. проводила Зурова в санаторий Акс-ле-Терм, где он скончался, и взяла на себя хлопоты по его погребению. Зуров был похоронен 14 сентября 1971 г. на русском кладбище в СентЖеневьев-де-Буа под Парижем. Архив писателя (вместе с архивами И.А. и В.Н. Буниных), согласно его завещанию, унаследовала давняя знакомая Зурова, преподаватель Эдинбургского университета Милица Эдуардовна Грин (1912–1998). В 1980-х – начале 1990-х годов она частями передала архивы в Лидский университет (Великобритания) [59: p. XXVIII] Часть личного архива Зурова с 1996 г. хранится в Москве, в Доме Русского Зарубежья имени А.И. Солженицына. Большинство близко знавших Зурова людей относилось к нему с искренней симпатией. Во многих источниках цитируется отзыв З.А. Шаховской, которая писала в своих мемуарах: «Леню Зурова все любили. Да и трудно было его не любить. На Монпарнасе Леонид Зуров предстал как добрый русский молодец, высокий, румяный, сероглазый, русый, как бы прямо вступивший из древнего Пскова на парижский асфальт. Говорил он спокойно и благожелательно, в литературных склоках и интригах не участвовал <…> шел своей дорогой» [Цит. по: 15]. Г.Н. Кузнецова в письмах к нему выражала симпатию, писала о родственности их творческих установок, с теплотой вспоминали о Зурове Н.Б. Зайцева-Соллогуб и Н.Е. Андреев. «Таким себе представляю воина Руси Киевской, Руси Новгородской. Воина – певца Слова о полку Игореве, Слова о 27 Погибели Земли Русской. Древнерусская душа, умудренная скорбным и грозным опытом наших лет», – писал в некрологе Зурову его друг Сергей Жаба [16]. Многие критики русского зарубежья отмечали талант и самобытность Зурова, который оставался верен своим творческим установкам и даже в условиях рассеяния не изменил своей приверженности русской культуре. Этот факт зафиксирован в мемуарах близко знавших его людей. Например, Н.Б. Соллогуб на вопрос: «О чем же он в основном говорил? Что его волновало?» – однозначно ответила: «Россия. Россия. Все, что было связано с Россией…» [53: с. 215].Об этом же писал В.С. Варшавский, который считал Зурова «исключением» из ряда «младших» литераторов-эмигрантов: «Он всегда писал о России, о русских полях и озерах, о народе на войне и в революции. Древние стихии народной жизни он чувствовал даже глубже, чем кто-либо из старших писателей, разумеется, кроме Бунина» [10: с. 183]. На облик Зурова лёг отсвет бунинской славы, и его до сих пор воспринимают как «ученика Бунина». Но современные литературоведческие исследования наглядно демонстрируют самобытность творческой манеры этого незаслуженно забытого писателя. Современники его были убеждены: «Книги Леонида Зурова останутся в русской литературе не в разряде литературных экспериментов, но как важные и правдивейшие свидетельства совестливого и чуткого очевидца русских трагедий и русской стойкости, запечатленные талантливым мастером прозы в полновесном писательском слове» [3: с. 275]. Примечания 1. Адамович Г. Литературные заметки. «Числа». Кн. 4 [Рец.] / Г. Адамович // Последние новости. – Париж, 1931. – 13 февр. – С. 5. 2. Айхенвальд Ю. Литературные заметки [Рец. на кн. «Кадет»] / Ю. Айхенвальд // Руль. – 1928. – № 2394, 10 окт. – С. 2–3. 3. Андреев Н.Е. Л.Ф. Зуров. Некролог / Н.Е. Андреев // Новый журнал. – 1971. – № 105. – С. 274–276. 28 4. Андреев Н.Е. То, что вспоминается. Из семейных воспоминаний Н.Е. Андреева (1908–1982) / Н.Е. Андреев; Под ред. Е.Н. и Д.Г. Андреевых. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. – 640 с. 5. Бахрах А.В. Бунин в халате: По памяти, по записям / А.В. Бахрах. – Bayville (N. Y.), 1979. – С. 22–23. 6. Белобровцева И. «Видно, моя судьба, что меня оценят после смерти»: Предисл. к публ. повести Л. Зурова «Иван да Марья» / И. Белобровцева // Звезда. – 2005. – № 8. – С. 52–60. 7. Белобровцева И. Леонид Зуров – писатель-эмигрант, которого нельзя назвать «эмигрантским писателем» / И. Белобровцева // «В рассеянии сущие…»: Культурологические чтения «Русская эмиграция ХХ века»: Сб. докл. / Отв. ред. И.Ю. Белякова. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. – С. 181–190. 8. Белобровцева И.З. Л. Зуров и Эстония / И.З. Белобровцева // Русские в Прибалтике. – М.: Флинта; Наука, 2010. – С. 289–307. 9. Бунин И. Л. Зуров / И. Бунин // Россия и славянство. – Париж, 1929. – № 4981 (12 января). – № 7. – С. 3. 10. Варшавский В. Незамеченное поколение / В. Варшавский. – Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. 11. Громова А.В. И.А. Бунин в письмах Г.Н. Кузнецовой к Л.Ф. Зурову (по материалам архива Дома Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына) / А.В. Громова // Орловский текст российской словесности: творческое наследие И.А. Бунина. – Орел: ОГУ, 2010. – Вып. 2. – С. 83–94. 12. Громова А.В. Верования сетускогo и русскогo населения Прибалтики в описании Л.Ф. Зурова (1930-е годы) / А.В. Громова // Русский язык в странах СНГ и Балтии. – М.: ИЭА РАН, 2007. – С. 540–547. 13. Громова А.В. Из истории литературы русского зарубежья: (сборник Л.Ф. Зурова «Марьянка» в отзывах читателей и критики) / А.В. Громова // Русская литература. – СПб., 2008. – № 2. – С. 203–211. 14. Громова А.В. Этнографическое наследие Л.Ф. Зурова / А.В. Громова // Живая старина. – 2009. – № 1. – С. 46–49. 29 15. Дранов А.В. Зуров Л.Ф. / А.В. Дранов // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). – Т. I. Писатели русского зарубежья. – М.: РОССПЭН, 1997. – С. 183–184. 16. Жаба С. Памяти друга (К годовщине смерти Л. Зурова) / С. Жаба // Русская мысль. – Париж, 1981. – № 3386, 12 ноя. 17. Зайцев Б.К. Собр.соч.: в 11-ти тт. / Б.К. Зайцев. – Т. 11. Письма 1923– 1971 гг. Статьи. Воспоминания современников / Сост. Е.К. Дейч и Т.Ф. Прокопов. – М.: Русская книга, 2001. – 512 с. 18. Зуров Л. Астория / Л. Зуров // Русский сборник. – Париж, 1946. – Кн. 1. – С. 70–86. 19. Зуров Л. Аушвиц / Л. Зуров // Новоселье. – 1945. – № 21. – С. 26–31. 20. Зуров Л. В Жоготах и у старообрядцев / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 396. 21. Зуров Л. В крестьянском доме. Из записной книжки «По Латгалии» / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 445. 22. Зуров Л. Вечерний звон / Л. Зуров // Маяк. – 1922. – № 7. (Подпись: Л. З.) 23. Зуров Л. Герб Лермонтова / Л. Зуров // Новый журнал. – 1965. – № 79. 24. Зуров Л. Герой / Л. Зуров // Слово. – 1929. – № 1015, 6 янв. 25. Зуров Л. Говор могил. На Покровском кладбище / Л. Зуров // Слово. – Рига, 1925. – № 38, 28 дек. 26. Зуров Л. Гребенщиковский молитвенный дом / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 524. 27. Зуров Л. Даниловы / Л. Зуров // Белое дело. – 1927. – № 2. – С. 154–196. 28. Зуров Л. Дворцовая площадь [Отрывок из романа «Зимний Дворец»] / Л. Зуров // Новоселье. – 1949. – № 39/41. 29. Зуров Л. Дорога [Отрывок из романа «Зимний Дворец»] / Л. Зуров // Встреча. – 1945. – Сб. 2. – С.10–12. 30. Зуров Л. Иван-да-Марья / Л. Зуров; Публ. И.З. Белобровцевой // Звезда. – 2008. – № 8. – С. 61–113; № 9. – С. 99–145. 30 31. Зуров Л. Копия письма представителю СССР во Франции // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 16. – Лл. 1–5. 32. Зуров Л. Могилы, которые необходимо перенести на Братское кладбище / Л. Зуров // Слово. – 1926. – 16 июля (№ 208). 33. Зуров Л. Напоминание (1918–1928) / Л. Зуров // Слово. – 1928. – № 967, 2 сент. – С. 6. 34. Зуров Л. Обитель / Л. Зуров // Новоселье. – 1946. – № 29/30. – С. 35–54. 35. Зуров Л. Обитель: Повести, рассказы, очерки, воспоминания / Л. Зуров; Сост. А.Н. Стрижев. – М.: Паломникъ, 1999. – 623 с. 36. Зуров Л. Отчина / Л. Зуров. – Рига: Саламандра, 1928. – 111 с. 37. Зуров Л. Переписка с Г. Кузнецовой // Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. – Ф. 3. – К. 2. – Ед.хр. 50. – Лл. 1–90. 38. Зуров Л. Петроградская ночь [отрывок из романа «Зимний Дворец»] / Л. Зуров // Новоселье. – 1946. – № 24/25. – С. 3–9. 39. Зуров Л. Петрополь / Л. Зуров // Встреча. – 1945. – Сб. 1. – С. 22–23. 40. Зуров Л. Печорские легенды / Л. Зуров // Слово. – 1928. – № 1009. 41. Зуров Л. Письмо к Н.Е. Андрееву от 30.08.1958 г. // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 2. – Ед. хр. 130. – л. 11. 42. Зуров Л. Плевок / Л. Зуров // Слово. – 1926. – № 364, 19 дек. 43. Зуров Л. Режицкий базар / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 563. 44. Зуров Л. Смерть Бориса / Л. Зуров // Служба связи Ливенцев и Северозападников. – 1931. – № 5. – С. 17–18. 45. Зуров Л. Старинная икона с рисунком Псково-Печерской обители / Л. Зуров // Слово. – 1928. – № 1007, 11 ноя. (Подпись: Л.З.) 46. Зуров Л. Цветы на могилу («Когда тают снега, зеленеют поля…») / Л. Зуров // Маяк. – Рига, 1922. – № 7. 47. Зуров Л. Этап в Нарве / Л. Зуров // Слово. – 1926. – № 336, 21 ноя. 48. Зуров Л. Ярмарка в Пыталове: Дорожные впечатления / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 501. 31 49. И.А. и В.Н. Бунины в канун эмиграции: Из дневника В.Н. Буниной; Публ. Л.Ф. Зурова // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1972. – № 107; то же: Русская литература в эмиграции: Сб. ст. / Под. ред. Н.П. Полторацкого. – Питсбург, 1972. – С. 105–106. 50. Ковалевский П. Л. Зуров – этнограф / П. Ковалевский // Русская мысль. – Париж, 1971. – 23 сент. – С. 9. 51. Кузнецова Г.Н. Грасский дневник / Г.Н. Кузнецова; Сост., вступ. ст., коммент. О.Р. Демидовой. – СПб.: Мiръ, 2009. – 496 с. 52. Литературное завещание И.А. Бунина // Новый журнал. – 1961. – № 66. 53. «Напишите мне в альбом…»: Беседы с Н.Б. Соллогуб в Бюсси-ан-От Авт.-сост. О.А. Ростова; Коммент. Л.А. Мнухин. – М.: Русский путь, 2004. – 280 с. 54. Опись древностей Псково-Печерского монастыря [в качестве приложения] // Псково-Печерский монастырь. Общий культурно-исторический очерк / Cост. В. Синайский. – Рига: тип. «Рити», 1929. – С. 57. 55. Письма И. Бунина к Л. Зурову // Новый журнал.– 1971. – № 105. – С. 225–231. 56. «Предчувствие мне подсказывает, что я недолгий гость»: Переписка И.А. Бунина и Г.Н. Кузнецовой с Л.Ф. Зуровым (1928–1929) / Публ. И. Белобровцевой и Р. Дэвиса. Вступ. ст. И. Белобровцевой // И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. I. – М.: Русский путь, 2004. – С. 232–284. 57. Стрижев А. Л. Зуров: героика и благочестие / А. Стрижев // Москва. – 2003. – № 1. – С. 228–231. 58. Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. М. Грин. – Том II. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1981. 59. Heywood A.J. Catalogue of the Ivan Bunin, Vera Bunina, Leonid Zurov and Ekaterina Lopatina collections / A.J. Heywood; Ed.: R. Davies, D. Riniker. – Leeds: Leeds University Press, 2000. – P. 291–351. 32 Глава 2. АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Л.Ф. ЗУРОВА Наряду с литературой и современной историей Белого движения, Зуров серьёзно интересовался историей Древней Руси, археологией и этнографией. Эта сторона его деятельности заслуживает особого внимания и раскрывает с новой стороны незаурядную личность писателя. Зуров с ранних лет проявлял интерес к русской древности. Учась на архитектурном отделении Пражской технической школы он одновременно посещал семинары известного археолога, академика Н.П. Кондакова, а в 1920– 1930-е гг. неоднократно производил археолого-этнографическую разведку в тех районах Псковской области, которые исторически принадлежали России, но после Первой мировой войны отошли к Эстонии и Латвии. Благодаря этим поездкам писатель имел возможность жить среди русских людей и не чувствовать роковой отдалённости от оставленной родины. Все близко знавшие Зурова отмечали его фанатичную увлеченность темой России и русской жизни. Например, Г.Н. Кузнецова записала 31 января 1932 г. в своем «Грасском дневнике»: «Л<еня> еще, сам того не зная, счастливей всех, потому что у него еще есть его любовь к псковским озерам, мужикам, избам и церковкам, и он мечтает о них с каким-то даже остервенением» [36: с. 272]. Близость писателя к русской почве отмечала и критика. Например, Г.В. Адамович в 1938 г. писал в рецензии на роман «Поле»: «Из всех своих сверстников Зуров один постоянно обращен к родной земле и не страдает никаким отрывом. Его язык блещет оборотами, которые мало-помалу исчезают из нашего городского, а особенно эмигрантского городского обихода. Его замыслы уходят в глубь народной жизни и как будто растворяются в ней» (выделено Адамовичем – А.Г.) [1]. А в 1971 г. Н.Е. Андреев отметил в итоговой статье, посвящённой творчеству Зурова: «<…> Непосредственная близость к осколкам подлинной России <…> определила во многом тематику и отозвалась на его мировоззрении, которое можно определить как “почвенническое”» [2: с. 140]. 33 Сам писатель осознавал, какое преимущество перед другими изгнанниками имел, благодаря своим этнографическим занятиям. Отвечая в 1958 г. на вопрос проф. П.А. Сорокина, как ему удалось на протяжении многих лет сохранить прекрасный русский язык, Зуров писал: «Я был счастливее многих других эмигрантов, так как до войны неоднократно ездил работать в Прибалтийский край, где я вел археологическую разведку (для Музея Человека). <…> Встреча с родиной (а это принаровье, чудской край, берега озер, изборские холмы), встречи с простыми русскими людьми, ночевки в избах, беседы с рыбаками и крестьянами (я бережно слова их храню). Это дорогое наследство» [26]. В 1920-е годы, проживая в Латвии, Зуров неоднократно выезжал в старообрядческие деревни Латгалии, население которой почти наполовину состояло из русских. В результате этих поездок появились первые этнографические очерки писателя, опубликованные в журнале «Слово» [11; 32; 28; 10; 14]. Интерес Зурова к жизни латгальских крестьян проявился впоследствии в рецензии на подготовленный И.Д. Фридрихом сборник фольклора Яунлатгальского уезда [30]. В 1928 г. Зуров впервые был командирован в Псково-Печерский монастырь Комиссией по изданию монографии об этой древней обители, где производил регистрацию древностей монастыря. Составленная им опись вошла в книгу, подготовленную к изданию профессором Латвийского университета В.И. Синайским и иллюстрированная академиком С.А. Виноградовым [38]. Тогда же Зуров посетил Изборск и отметил, что Печорский край богат необследованными памятниками зодчества времён вечевого Пскова и Московской Руси. Поразило его не только богатство археологических находок, но и небрежение эстонского государства к славянским древностям: курганы запахивались, крестьяне брали на постройку валуны с могильников, увозили кресты, процветало кладоискательство [16: л. 4]. В библиотеке монастыря Зуров обнаружил заброшенную икону XVI в. с изображением обители. Статью о найденной иконе Зуров опубликовал в газете 34 «Слово» [29]. Это изображение стало для него образцом, когда в 1935 г. Зуров вновь отправился в Псково-Печерский монастырь – для участия в реставрации крыльца и звонницы надвратной церкви свт. Николая (Николы Ратного). Реставрация была поручена Зурову отделом по охране памятников старины Министерства народного просвещения Эстонской республики, для чего был произведён сбор пожертвований [4: с. 293]. «Были сняты все позднейшие пристройки, доложены фронтоны, звонница освобождена от деревянного футляра и покрыта по старинному образцу, сохранившемуся на древней иконе <…> Открыли древние бойницы, ведущие из оружейной палаты, восстановили замурованные окна и стенной узор» [33]. Это принесло Зурову широкую известность в русской Прибалтике, что было отмечено Н.Е Андреевым во время их совместной экспедиции 1937 г.: «Основной мотив – “Зуров словами и делами приукрасил нашу Печорскую обитель” – звучал, по праву, в каждом доме гостеприимных печерян <…>» [2: с. 146]. С другой стороны, звучало немало голосов против реставрации: недовольны были не только монахи обители, считавшие, что Зуров «разоряет» церковь, но и местные «любители старины». За него «печатно заступился» реставратор А. Владовский [6]. Тогда же, в 1935 г., Зуров обследовал Печорский уезд, посетил Нарву и открыл Митковицкий Городачек – древнее славянское поселение, а также сделал ряд археологических находок каменного века [17]. Зуров сообщил о своих находках в Министерство просвещения Эстонии, которое не возражало против его деятельности [см: 4: с. 293–295]. Власти таким образом стремились взять под контроль его археологические разыскания [3: с. 349]. Благодаря стараниям Зурова, древности были официально зарегистрированы, Митковицкий Городачек взят под охрану Археологическим Кабинетом Юрьевского (Тартуского) университета (правда, в эстонской прессе сообщалось, что он открыт эстонским археологом О. Саарде) [см: 4: с. 297]. По результатам поездки Зуров несколько раз выступал с докладами: 26 января 1936 г. он прочитал доклад «Древности Печор и Изборска в Эстонии», 35 7 февраля в парижском обществе «Икона» сделал сообщение «Монастырские и церковные древности Печорского края в Эстонии», подготовил несколько публикаций [34; 15; 25]. Желая придать своим экспедициям официальный статус и получить финансовую поддержку, Зуров обратился в учреждения, которые могли заинтересоваться результатами его исследований: в недавно открывшийся Парижский Музей Человека (Трокадеро), археологический институт им. Н.П. Кондакова в Праге, Базельский университет. Переговоры с Музеем Человека велись через студента этнологического института, русского эмигранта (впоследствии – героя Французского Сопротивления) Б.В. Вильде. Именно ему удалось получить субсидию на поездку. Впоследствии Зуров писал о подготовке к экспедиции: «Вместе мы слушали лекции по археологии в Этнологическом институте, занимались по советским учебникам археологической и этнографической разведкой. Я вел подготовительную работу в библиотеке Славянского Института, знакомясь со всеми опубликованными археологами и этнографами работами, относящимися к северу, северо-западу России, Псковской, Новгородской и Олонецкой областям СССР. Вместе с В<ильде> мы знакомились и с научными работами, опубликованными Юрьевским университетом на эстонском языке» [цит по: 4: с. 296]. В 1937 г. в Печорский край поехали уже три исследовательские группы: преподаватель из Праги Н.Е. Андреев обследовал церковные древности, его студентка И.Н. Окунева собирала материалы по топонимике края, профессор Базельского университета Э.Э. Малер делала фонографические записи народных песен, Вильде проводил этнографическую, а Зуров – археологическую разведку. Экспедиция была организована под эгидой Парижского Музея Человека и Министерства Просвещения Франции. (Правда, Андреев в своих воспоминаниях утверждал, что экспедиции из Праги и Базеля были организованы и финансировались независимо от парижской миссии [3: с. 346, 349]. Тем не менее, Зуров выступил объединяющим началом в деятельности этих групп). Он 36 находился в Эстонии дольше всех остальных участников – с 23 июня по 11 сентября. Успешной экспедиционной работе способствовало умение Зурова общаться с местным населением, а также давнее знакомство с Печорским епископом Иоанном (Булиным). Андреев впоследствии вспоминал: «<…> Зуров мгновенно устанавливал “общий язык”, а весь вид его, молодого, энергичного, высокого, ловкого в движениях, со светлыми, проницательными, зоркими глазами (“лешачьи, лешака очи то у тебя, сынок”, сказала при мне ему пожилая певунья старинных песен), подтянутого, отчетливого, тщательно побритого, дружественного, находчивого в речи, располагал к себе, если не мгновенно, то в короткое время, всех русских его собеседников, начиная от серьезных неторопливых рыбаков до “князя церкви”, епископа печерского Иоанна, молитвенника и “народного трибуна”, понимавшего значение исторического исследования и покровительствовавшего многим поискам Л.Ф. Зурова» [2: с. 146]. Музей человека ставил перед участниками экспедиции конкретные цели, о чём Зуров сообщал Андрееву в предварительном письме: «Трокадеро интересует главным образом этнографическая граница и сетские <sic!> деревни. Мы должны сделать для музея закупки (костюмы, утварь и т.д.), надо будет описать языческие обряды чуди и сделать много фотографических снимков. Придется произвести ряд раскопок древних могильников <…> и зарегистрировать сделанные крестьянами археологические находки» [27] (в цитатах сохранены грамматические формы, употреблявшиеся автором. – А.Г.). Миссия 1937 года оказалась наиболее продуктивной. В результате проведённой экспедиции были взяты под охрану многие археологические памятники, записано несколько сот песен и преданий, составлены планы местности и карты Изборского края, собран богатый материал по топонимике края [23], сделано более 200 уникальных фотографий [20: л. 13]. На следующий год Зуров вновь пытался получить командировку Музея естественной истории (Музея человека) с целью изучения русских районов Прибалтики (района Сетумаа, Чудского озера и реки Нарва), но ему было 37 отказано. Тем не менее, 7 июня 1938 г. Зуров отправился в Прибалтику: экспедиция была организована на добровольные пожертвования и при содействии П.Н. Милюкова, собравшего часть средств. Зуров обследовал Изборск, Малы и Печорский уезд. После изменения политической ситуации в странах Балтии, при отсутствии официальной миссии и какого-либо гражданства (Зуров был «нансенист», то есть имел паспорт беженца), исследователь столкнулся с рядом препятствий, чинимых местными властями – вплоть до вызова в полицейское управление и предписание немедленно покинуть Печорский край. Зурову, однако, удалось добиться продления разрешения на временное пребывание до 24 сентября, и он плодотворно работал в течение всего лета и начала осени. Зуров собрал богатые коллекции предметов материальной культуры – тканых поясов, вышитых полотенец и др. Поскольку он не располагал достаточными средствами для вывоза закупленных вещей, то был вынужден оставить их на складе в Таллине, однако в ноябре Музей Человека выделил необходимые деньги и коллекции были переправлены по назначению – в Париж. По итогам экспедиционной работы Зуров получил письменную благодарность от министра народного просвещения Франции Ж. Зея. Несмотря на трудности, возникшие в поездке 1938 г., Зуров (также как и Андреев) собирались вновь отправиться в этнографическую экспедицию в 1939 г. Зуров подал заявку в Трокадеро, но получил ответ, что «все экспедиционные деньги сняты на военную оборону» [цит. по: 4: с. 302]. А с 1940 г., когда Эстония была присоединена к СССР, доступ на её землю для эмигранта Зурова оказался закрыт. Масштабы археолого-этнографической деятельности энтузиаста-любителя Зурова поистине впечатляют. В результате археологической разведки были обнаружены древние поселения, остатки костей и керамики, каменные топоры, курганы со следами сожжений. Было обследовано до 150 курганов на берегу Псковского озера. Около деревни Зимний Борок были найдены громадные жернова особой формы, очаг и остатки жилища, описаны могильники, 38 сохранившиеся со времён литовского нашествия: христианские могилы с крестами и языческие маленькие курганы, обложенные камнями. Исследователь собрал для Музея Трокадеро «единственную в Европе коллекцию <…> старинных льняных свадебных полотенец, вышитых большим узором, имевшим магическое значение», «свадебных поясов (вязаных, плетеных, тканых) с древними вышивками (свастика, конские головы, змея)», «вышивок, домотканых полотен <…>, утвари, игрушек и т.п.» [21]. Зурову удалось сделать несколько сот уникальных фотографий: он заснял не только печорский базар, на который съезжались мастера-кустари из всех деревень уезда, но и множество ритуалов, восходящих к древнейшим языческим верованиям: сетуские тризны на старых могилах в Ильинскую пятницу в погосте Зачернье, омовение в священном ручье, лечение ребенка громовой стрелой в деревне Лезги, сетускую свадьбу с участием обрядового кузнеца в деревне Поталово, погребение рыбака в деревне Лесья и отправление его тела в ладье, поклонение священному Иванову Камню в Иванов день около деревни Мегузицы, «ночное игрище сетов в Иванову ночь», а именно: гуляние у костров, «женские эротические пляски вечером 24-го июня и старуху, руководительницу женского праздника, символизирующего плодородие» [16: л. 31] (названия населённых пунктов приводятся в той форме, в какой они даны в записях Зурова. – А.Г.). Собранные участниками экспедиций коллекции оказались в разных местах: собрание полотенец, поясов и утвари, а также фотонегативы были переданы в Музей Человека, материалы по исследованию древностей Псково-Печерского монастыря – в Кондаковский институт в Праге, фонозаписи увезены Э.Э. Малер в Швейцарию, археологические находки сданы в Археологический Кабинет Тартуского университета. Инициатор этих этнолого-археологических разысканий Зуров составил «Записку о произведенном обследовании древностей Печорского и Изборского края, о реставрации звонницы церкви Николы Ратного в Псково-Печорском монастыре и о результатах археологической и этнографической разведки в 1935, 39 1937 и 1938 гг.» (1946), которая была передана в качестве отчета в соответствующие учреждения, субсидировавшие миссию [16; 40: MS. 1068/752]. Ратуя за сохранение исторического наследия славян на территории Прибалтики, он написал «Проект Центрального Союза Просветительных обществ», предусматривающий проведение комплекса специальных работ. Зуров также изучал материальную и духовную культуру русских и финно-угров, населяющих Печорский край. Результаты своих наблюдений он изложил в «Записке о дохристианских пережитках и религиозных верованиях сетских чудоэстонцев и крестьян Печорского края», объёмом 92 машинописные страницы [35]. На основе этой записки Зуровым была написана статья для шведского научного журнала «Folk-Liv», напечатанная в 1940 г. при содействии шведского фольклориста К. Кнютссона. Она была издана с сокращениями, без сносок и ссылок, неопубликованная вторая часть рукописи оставалась на руках у автора. Зуров выражал желание, чтобы уникальные материалы по истории славянской культуры были переданы в Советский Союз. 22 декабря 1944 г. он письменно обратился к представителю СССР во Франции с просьбой передать статью с результатами его исследований Печорского края советским научным учреждениям, ссылаясь на проф. П.Н. Милюкова, который просил его довести до Советского Правительства сведения о сделанных открытиях. Зуров готов был продолжить полевую работу, предлагал помощь и участие в экспедициях. Он подчёркивал значение своих открытий для древнейшей истории псковских кривичей, хотя работа и производилась за пределами России. Письмо вернули Зурову, когда выяснилось, что он не собирается принимать советского гражданства и возвращаться в Россию «при советской власти» [22: л. 3]. Тем не менее, Зуров продолжал внимательно следить за развитием исторической науки в России, за обследованием Псковского края. В 1950–60-е годы он вступил в переписку с советскими историками, изучавшими русский северо-запад: В.В. Седовым, В.И. Малышевым, В.В. Косточкиным, П.А. Раппопортом, М.И. Рабиновичем. Они присылали ему новые материалы по 40 истории края, сообщали о знакомстве с его собственными археологическими разысканиями. Несмотря на несколько скептическое отношение профессиональных историков к любительской деятельности Зурова [см.: 3: с. 347], нельзя не отметить того энтузиазма, с которым исследователь занимался делом сохранения национального наследия, а также конкретных результатов этой деятельности. О наследии Зурова-этнографа писал после его смерти историк науки П. Ковалевский [35], в настоящее время эта сторона деятельности также стала привлекать ученых [7; 8; 4]. Большая часть полевых записей Зурова пропала во время Второй мировой войны. Тем не менее сохранились машинописные копии его записок-отчетов о проведённых этнолого-археологических разведках, рисованные карты местности, некоторые экспедиционные материалы. Первоначально они, согласно завещанию писателя, были переданы в Эдинбург, затем оказались в Лидсе. С 1996 г. эта часть его личного архива хранится в Москве, в Доме Русского Зарубежья им. А.И. Солженицына (ДРЗ). Содержание сохранившихся полевых записей Зурова достаточно разнообразно. Среди них, в частности, находится обширный материал по топонимике Псково-Печорского края, сводящийся преимущественно к перечню названий населённых пунктов и объектов ландшафта. При этом почти не встречаются связанные с ними предания, а редкие примеры относятся к топонимам со словом «гора». Например: «Крова Гора – во время войны много было убитых, в крови плавали» [31: л. 2]. «Судома гора, – так про нее рассказывают, что в старину устраивали на ней суд, люди судиться приходили, цепь спускалась с неба и тот ответчик, взявшись за цепь клялся, что он прав. А был такой случай, что человек, взявший у другого деньги, пришел на эту гору судиться, деньги в дубинку заделал, а когда пришло время за цепь ему браться, он дубинку обвиняемому передал, чтобы тот подержал, пока он за цепь-то берется. Цепь обманул, а она на небо ушла и обратно опять не спускалась» [9: лл. 32–33]. 41 Наиболее интересная часть этнографических исследований Зурова касается обычаев и верований славянского и сетуского населения Печорского уезда Псковской губернии. Исследователь не только собрал ценный материал, но и выдвинул гипотезу о связи некоторых народных обрядов с древнейшими языческими представлениями, сохранёнными преимущественно сетами. Сету (предки которых в славянских летописях именовались «чудью») – родственный эстам народ, обитавший на юге Эстонии – в районе Изборска и под Нейгаузеном [34]. В отличие от эстов, примкнувших к немцам и утерявшим свои обычаи, сету в XII в. примкнули к славянам и приняли православие. Зуров считал, что именно благодаря этому они сохранили свою традиционную культуру, включая многие языческие обряды: празднование тризны, поклонение камням, источникам и деревьям. В верованиях сетуского населения причудливо переплетались христианские и языческие мотивы, неслучайно этот народ называли «полуверцами». Зуров писал: «Сету в середине XIX века молились в языческих рощах, а в глухих деревнях у них жили волхвы-старики, которые исполняли обязанности народных жрецов» [16: л. 19]. В полевых записях Зурова встречается, например, упоминание домашнего «деревянного божка», почитаемого сетами. Священник о. Анатолий сообщал: «Болванчик такой сделан у них, его поставят и молются, руки воздевают <…> Вроде мальчика такого сделан из дерева. Маленький, небольшие выточенные глазки <…> С ножками выточен, не покрашен, из дерева, с липы, и бородка, с бородой, голый весь» [31: л. 26]. От благочинного о. Рака Зуров записал: «Сад для полуверцев место святое и в одном из углов его находится святой угол – угол домового бога, с вересовым (можжевеловым) кустом или рябиной. У них был божок Пекута. Молва идет, что он хранится у них еще от средневековья. Ставят его на печку и ему молятся, кланяются и угощения делают» [13: л. 36]. Божок Пекута (Пеко), действительно, существовал у сету вплоть до начала ХХ в., представлял собой грубо вырубленный из дерева мужской торс, который хранился в амбарах. Первоначально он был одним из духов покровителей рода, а позже – территори- 42 альной общины (деревни). Со временем он превратился в божество плодородия, а также повелителя небесных осадков, защитника от града [34]. По свидетельству русских информантов, даже христианские обряды у полуверцев сохраняли черты языческого поклонения: «Сеты <…> в старину мазали сметаной губы на иконах, приносили к иконам творог и яйца» [13: л. 37]. Возможно, образ домашнего «божка» соединился с образом Святого Николая, который пользовался особым почитанием у полуверцев. Сету приносили дары образу Николая в Никольской церкви Псково-Печерского монастыря, чествуя его, мазали мёдом губы. (Данные сведения в конце XIX в. были зафиксированы исследователем «чудской» истории и этнографии Ю. Трусманом [см.:34]). По записанному Зуровым поверью, Святитель «пробуждается ночью, обходит все поля, благословляет посевы и за одну ночь снашивает сапоги, так что в старину на памяти стариков ему народ жертвовал к его подножью крестьянскую обувь для его походов» [31: л. 26]. В деревне Тайлово находился Никольский каменный храм, в котором каждую весну устраивался крестный ход. Во время крестного хода служили панихиду в бору на могильниках, сохранившихся со времен литовского нашествия. На третий день после Николина дня сету устраивали на этих могильниках тризны: ели и пили на могилах, поминая умерших. Основной интерес Зурова вызывали верования, связанные с почитанием камней, источников и деревьев. В настоящее время существует достаточно обширная научная литература о священных камнях и источниках, и можно констатировать, что записанные Зуровым в Печорском уезде рассказы о почитаемых камнях соответствуют наиболее распространённым народным представлениям и поверьям. Исследователь описал ряд священных мест, которым поклонялось славянское и чудское население. Одним из таких мест являлся «Иванов камень»: «обглаженный ледником валун» [21: л. 23] около деревни Мегузицы, где проходила старинная русская граница (сейчас – территория Эстонии). Поклонение камню связывалось, в основном, с излечением от болезней. В 1928 г. после беседы с тайловским 43 священником Элием Верхоустинским Зуров записал: «В старину, в Иванов день около него собиралось до пяти тысяч народу. Приносят творог, покрытый сверху маслом. В часовне деревенской этот творог освящают. Половина идет причту, остальное нищим. За ручьем сидят нищие, народ ставит на камень свечи, камень обмазывают творогом, прикладываются к нему, приносят детей, прикладывают шерсть, желая ее освятить. Это древняя языческая жертва. Молятся Ивану. Уже искаженное народное предание говорит, что на камне остался след Иоанна Предтечева. Боролся с народом священник и ближний помещик. Владелец взорвал камень, осколки привез к себе во двор и положил их в фундамент, когда строил хлев. Народ рассказывает, что у него начал падать скот, и он вернул осколки камня на старое место. Обычно священник служит в деревенской часовне литургию, а женщины после идут к камню прикладывать детей» [31: л. 22]. Недалеко от Псково-Печерского монастыря при ручье Каменце в бору находился Титов камень, которому поклонялись сету (сейчас – территория г. Печоры). Это ещё один «тёплый» камень, обладавший целительными свойствами, в частности, избавлявший женщин от бесплодия. Женщины приходили нему на Фоминой неделе, в Радуницу, и камень был тёплым, несмотря на раннюю весну [34]. В одном из отчётов Зуров передает свою беседу с информанткой Марией Вторушиной из Печорской богадельни: «Какой Тит – Бог знает, – сказала мне в богадельне старуха Вторушина, – все Титов камень. Собираются там и женщины, сидя, выпивают, костры раскладывают, как на Паству, песни поют. В Печорах больные бабы ложились животом на Титов камень. Я спросил Вторушину, зачем они это делали. – А болезни камню отдают, – ответила она» [13: л. 13–14]. Подобный способ лечения упоминается еще в одной записи: люди «теми местами, что болят, трутся о камень» [13: л. 34]. Другая информантка – безымянная старуха-полуверка из деревни Соха – называла Титов камень «Кит Богомон (в записи Зурова также «Тит багамон» – возможно, искаженное «богомол»): «Тит багамон – царь был. Кто заболел <…> 44 пошел туда, катался и все пройдет. Боялись, нельзя идти туда – туда все старые иконы носили. Тит в пещерах был. Польза, что катались по этому камню, камень был широкий, большой. Кит Богомон, – стало быть святой» [31: л. 50]. В селе Кулье у перевоза на берегу озера Зуров обнаружил священный «Большой камень» с вырубленной купелью, в корытце которой женщины в старину мыли больных детей [16: л. 36]. Его называли также «Омутский камень» (по названию местности), «Глазной камень», «Дохтор». Как отмечают современные исследователи В.В. Виноградов и Д.В. Громов, исцеляющая сила камней основана на принципах контагиозной магии: «Поскольку многие почитаемые камни являются священными реликвиями (освящены причастностью к ним божественных персонажей), то и многочисленные ритуальные действия, производимые с ними, предполагают именно приобщение, прикосновение, вступление с ними в контакт. Во многих случаях такое приобщение предполагает передачу человеку определенных свойств камня его твердости, прочности, долговечности, неподвижности, неспособности чувствовать боль и т.д.» [5: с. 135]. По распространённым поверьям, камни могут оказывать либо «общеоздоровительное», либо «специализированное» воздействие, причём чаще всего им приписывается исцеление от глазных, зубных болезней, «лихорадок». При этом целебными свойствами могут обладать также осколки камня, растущий на камне мох, вода, скопившаяся в выемках камня или же специально вылитая на него и собранная. Камни могут быть связаны с определёнными магическими действиями, направленными на здоровье маленьких (в том числе новорожденных) детей. Камни использовались также в скотоводческой магии. Зуровым упоминаются обряды, проводимые с осколками разбитого Иванова камня: в Иванов день люди набирали воду и лили в склянки, чтобы стекала с осколков; через год в Иванов же день возвращали осколки камню, а воду, приготовленную таким способом, использовали для лечения скота [16: л. 46]. В древности почитаемые камни нередко служили жертвенниками. Около деревни Пельси Зуров зарегистрировал древний жертвенный камень сетуского 45 народа Аннакиви, на котором сто лет тому назад резали баранов, и записал рассказы старых крестьян о древних жертвоприношениях [16: л. 39]. К сожалению, эти рассказы в записях исследователя не сохранились, но 25 июля 1938 г. он сам наблюдал приношение жертв камню Аннакиви бараньей шерстью [21: л. 33]. Таким образом, традиция «приношений камням» бытовала и в новое время, но эти приношения имели бескровный характер и могли быть связаны с пастушеской магией. Так, на берегу озера Любинец был зарегистрирован «камень с жертвенником (маленьким углублением) под названием “Божий следок”, которому пастухи приносят жертвы ягодами и цветами» [16: л. 35]. Вотивные приношения (из благодарности или по обету) были приняты и применительно к «Бодракову камню» близ Изборска. От изборских крестьян Зуров записал предания о камне, которому «бабы приносят <…> хворост, ягоды, хлеб» [19: л. 60]: «Когда-то Бодрак жил, разбойник, клад люди искали. Говорили, Ликандра на камне спал. Пастухи прогнали, побили его и на камне, как кровь осталась. Говорят, что этот камень бодрит, что он поможет выйти из болота, если заблудитесь. Нужно ему что-нибудь подарить. Все такие бабьи лясы, а кто хлеб кладет на него, кто яблочко» [19: л. 61]. «Ликандра» – это преп. Никандр, чья пустынь находилась в болотах под городом Порховом; в указанных районах о нём бытовало много преданий. Зуров прокомментировал этот отрывок следующим образом: «Никандра когда-то вел в этих местах миссионерскую работу, посещая священные языческие места. Думаю, что Изборские места, связанные с именем Никандры, были местами языческих поклонений» [19: л. 62]. Предания также связывали необычные камни-валуны с кладами. Один из информантов сообщил: «В деревне Летний Борок находился камень с отпечатком гусиной лапы. Камень серый, а лапа желтая. Он пропал <…> Сказывали, что клад есть поблизости. В Иванов день сторожили – не будет ли огня. Огонь на кладу Бог дает на деньги» [9: л. 14]. Предания о кладах не случайны в этих районах, которые были «богаты древними боевыми погребениями. На полях крестьяне часто выпахивали оружие – железные топоры, наконечники копий, ржавые мечи, 46 запястья-змеевики, перстни, гривны и арабские и англо-саксонские деньги из мужских погребений» [9: л. 16–17]. Почитаемые камни нередко имеют на своей поверхности какие-либо отметины (вероятно, именно наличие выемок, следов и рисунков на поверхности камня служит основным поводом для выделения его информантами как «особенного») [5: с. 127]. Часто эти отметины трактуются как следы, оставленные неким мифологическим (библейским, фольклорно-историческим и др.) персонажем [37]: следы приписывают Богу, апостолам, Богородице, пророку Илье, святым Николаю, Параскеве Пятнице, Никандру Городноозерскому и др. Зуров зарегистрировал несколько камней-следовиков: языческий камень с жертвенником под названием «Божий следок» около озера Любинец [20: л. 8], «Ангельский следок» с выбитым детским следом на острове Семск [20: л. 7], о котором говорили: «Следок Петра апостола, или ангел стоял» [31: л. 26]. Зуров отметил, что поклонение камням нередко связано с поклонением и другим священным объектам, находящимся поблизости, как правило, источникам и деревьям. Он записал ряд упоминаний священных деревьев. Так, в деревне Горушка на сетуском хуторе находился «священный дуб, почитаемый полуверцами, в дупло которого они ставили заболевших овец» [16: л. 33]. На Святой горе Псково-Печерского монастыря в древности росла священная дубовая роща. Один из древних дубов и в 1930-е годы почитался окрестным населением: к нему шли те, у кого зубы болят [13: л. 3]. На дубы на Св. Горе вешали полотенца, позже – обвязывали поясами [16: л. 46]. В Старом Изборске от информантов Хрустневых Зуров записал рассказы о почитаемых «словенских ключах»: «Шумильник – там людей водой поливали. Одежду там в воде оставляли. Там больной разденется, рубашку и оставит. К Шумильнику приходил народ очень издалека, партиями шли, заходили сюда, раздевались и становились под воду падающих с горы ключей и получали исцеление» [19: л. 48]. Целительные свойства воды приобретали легендарный характер: «Говорили старики, есть в Изборске вода живая и мертвая. Говорят, шел старик, ел рыбу, кинул кости в Шумильник и стала рыба живая <…> А где же 47 мертвая вода, – спрашивали. А Бог ведает. Слышано, что говорено»» [19: л. 49]. Подчёркивалось, что магическое омовение нужно производить с соответствующей духовной подготовкой: «Бывало, как кто заболеет, один разговор: сведите ребенка, пусть помоется. А только с верой надо, а кто не с верой идет, тому пользы не будет» [19: л. 49]. Те же информанты из Старого Изборска называли другие почитаемые источники и связанные с ними ритуалы: «Ключок и у Богородицкой церкви, туда кидали деньги. На Воронине ключок. Народ говорит, что если три раза на него сходить вечером, не оглядываясь и ни с кем не разговаривая, то глаза поправятся» [19: л. 50]. «Священный ключ в Печках, водою которого лечатся женщины от глазных болезней» [20: л. 6]. Глазной ключок (Дубровский) был за Крепким Берегом у деревни Лезги. Опираясь на свои наблюдения и сообщения местных жителей, Зуров сделал вывод о том, что «большинство церквей и часовен Печорского края поставлены на древнейших языческих почитаемых местах» [16: л. 46]. Это предположение относилось и к самому Псково-Печерскому монастырю: «После этнографического обследования оказалось, что Псково-Печерский монастырь основан на языческом месте, что всегда привлекало многочисленных паломников. На Святой горе при ручье Каменце находилась в древности священная дубовая роща <…> В монастырском овраге находится почитаемый паломниками святой колодец, а недалеко от монастыря в ручье Каменце около Малых, ископанных в горе пещер, лежит священный камень Титукиви или Титов камень – Тит, которому еще в конце 19-го века поклонялось население» [13: л. 3]. Близ Изборска стоял древний Христо-Рождественский Мальской мужской монастырь, построенный приблизительно в конце XV в. В 1581 г. войска Стефана Батория разрушили этот порубежный монастырь: «Рассказывают, что монастырский воск и колокола жители опустили на дно озера. Монастырь оставался в развалинах около 150 лет, и только в 1730 г. был возобновлен по указанию императрицы Анны Иоанновны. Одного крестьянина рой пчел привел на это место из Тамбовской губернии, и он решил основать здесь монастырь. 48 Главный монастырский храм основан на священном ключе, под алтарем бьет ключ чистой воды» [18: л. 22–23]. «В первое воскресение после Петрова дня в Малах празднуют сетские деревни. В этот день происходит омовение на священном ключе, что бьет под церковью» [18: л. 23]. Комплекс ритуалов, связанных с почитанием нескольких священных объектов, был зафиксирован в погосте Зачернье. Там новая церковь была построена на месте древней деревянной церкви или часовни Прасковьи Пятницы, стоявшей возле почитаемой когда-то всем населением священной сосны. На этой сосне, по преданию, в древности нашли икону святой Великомученицы Прасковьи, а в нижней части сосны – каменный крест. Его перенесли в церковь. Он был обложен серебром и пользовался особым почитанием: «В Анастасьевскую пятницу его народ носит день и ночь вокруг церкви, носит его семьями, взявшись за него руками все вместе и подняв над собой. При остановках на него льют воду и считают ее священной <…> На него бросают деньги, которые идут причту и нищим. В этот день на могилах происходят тризны – все могилы застланы вышитыми скатертями, съехавшиеся отовсюду семьи полуверцев поминают родителей: едят на могилах и льют пиво и вино в могилу» [9: л. 38–39]. Зуров нашёл письменное свидетельство того, что эти обряды отправлялись еще в XVIII в. В 1783 г. десятоначальник поп Никита Яковлев писал в Псковскую консисторию записку о поклонении сосне, которой приносят шерсть, сыры, масло, хлеб и свечи, отламывают от неё куски для лечения «животных болезней» и собирают капли от свеч, а также обносят каменный крест строго по очереди, определяемой жребием. В 1938 г. Зуров присутствовал в ильинскую пятницу в Зачернье и видел ношение креста и тризну на могилах, о чём написал: «Народ носил крест вокруг церкви также как и в 1783 г.» [9: л. 41]. Эти факты Зуров интерпретировал в соответствии со своей гипотезой о преемственной связи ритуалов языческих и более поздних, христианских. Он писал: «Я считаю, что ношение креста Зачернской церкви связано с древним почитанием камней. Возможно, что этот крест был высечен из древнего языческого священного камня, который исстари почитало все окрестное население» [9: л. 42]. 49 После войны Печорский район стал советской территорией, эмигрант Зуров утратил возможность посещать эти земли, но его интерес к археологическим изысканиям не угас. Летом 1958 г. Зуров ездил в Шотландию по приглашению друзей, и там продолжал работать как археолог и историк. Ему удалось обнаружить ранее не зарегистрированное большое кельтское городище. Он также произвел исследование о шотландских предках М.Ю. Лермонтова [12]. Таким образом, Зуров внёс вклад в развитие российской и западноевропейской этнографической науки, собрал ценный материал по этнографии Псково-Печорского края, быту, обычаям и верованиям русского и сетуского населения, выдвинул гипотезы о развитии духовной культуры этих народов. Научное наследие Зурова заслуживает изучения и введения в активный научный оборот. Примечания 1. Адамович Г. Л. Зуров. «Поле» [Рец.] // Последние новости. – 1938. – 24 марта. – С. 3. 2. Андреев Н.Е. Отчина и её автор / Н.Е. Андреев // Новый журнал. – 1971. – № 105. – С. 139–147. 3. Андреев Н.Е. То, что вспоминается. Из семейных воспоминаний Н.Е. Андреева (1908–1982) / Н.Е. Андреев; Под ред. Е.Н. и Д.Г. Андреевых. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. – 640 с. 4. Белобровцева И.З. Л. Зуров и Эстония / И.З. Белобровцева // Русские в Прибалтике. – М.: Флинта; Наука, 2010. – С. 289–307. 5. Виноградов В.В., Громов Д.В. Камень в традиционной культуре русских (опыт систематизации) // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 6. – С. 125–143. 6. Владовский А. О новых домах в Петсери, работе Л. Зурова, «знатоках» и словоблудии // Вести дня. – 1935. – № 227, 26 сент. Также: Русский вестник. – 1935. – № 78, 28 сент. 50 7. Громова А.В. Верования сетускогo и русскогo населения Прибалтики в описании Л.Ф. Зурова (1930-е годы) / А.В. Громова // Русский язык в странах СНГ и Балтии. – М.: ИЭА РАН, 2007. – С. 540–547. 8. Громова А.В. Этнографическое наследие Л.Ф. Зурова / А.В. Громова // Живая старина. – 2009. – № 1. – С. 46–49. 9. Зуров Л. Археологическая разведка 1937 г. // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 2. 10. Зуров Л. В Жоготах и у старообрядцев / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 396. 11. Зуров Л. В крестьянском доме: Из записной книжки / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 445. 12. Зуров Л. Герб Лермонтова / Л. Зуров // Новый журнал. – 1965. – № 79. 13. Зуров Л. Город Печоры и его окрестности СССР. Материалы археологической и этнографической разведки 1928, 1935 гг. Выписки из уцелевших записных книжек и полевых дневников // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 1. 14. Зуров Л. Гребенщиковский молитвенный дом / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 524. 15. Зуров Л. Дороги Эстонии / Л. Зуров // День русского просвещения. – 1936. – Май-июнь. – С. 3. 16. Зуров Л. Записка о произведенном обследовании древностей Печорского и Изборского края, о реставрации звонницы церкви Николы Ратного в ПсковоПечерском монастыре и о результатах археологической и этнографической разведки в 1935, 1937 и 1938 гг. (1946) // ДРЗ. – Ф. 3. К. 1. – Ед. хр. 9. – Лл. 1–59. 17. Зуров Л. Из истории церкви Николая Ратного в Печерском монастыре. Как был открыт древний город, носящий название Городачек / Л. Зуров // Новь. – 1935. – № 8. – С. 93–102. 18. Зуров Л. Изборск – Малы: материалы археологической и этнографической разведки 1935 г. // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 5. – Лл.1–28. 19. Зуров Л. Изборск. Приложение к археологической разведке и материалы по топонимике 1938 г. // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 5. – Лл.46–65. 51 20.Зуров Л. Копия доклада о результатах археологических и этнографических работ, произведенных летом и осенью 1937 г. в Сетумаа (Эстония) // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 16. – Лл.6–15. 21. Зуров Л. Копия доклада об археологической экспедиции 1938 г. в Сетумаа, ноябрь 1938. Париж // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 16. – Лл. 32–37. 22. Зуров Л. Копия письма представителю СССР во Франции // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 16. – Лл. 1–5. 23. Зуров Л. Материалы по топонимике 37–38 гг. // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 7. 24. Зуров Л. О древностях Изборского и Печорского края / Л. Зуров // Последние новости. – 1935. – 26 сент. – С. 3. 25. Зуров Л. Печоры. Очерк и фотографии Л. Зурова (1936) // Иллюстрированная Россия. – 1936. – Август. – С. 12–13, 21. 26. Зуров Л. Письмо проф. П.А. Сорокину от 10.09.1958 г. Авторизованная машинописная копия // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 2. – Ед. хр. 137. – Л. 19. 27. Зуров Л. Письмо Н.Е. Андрееву от 01.01.1937 г. Машинописная копия. – ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 24. – Л. 1–2. 28. Зуров Л. Режицкий базар / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 563. 29. Зуров Л. Старинная икона с рисунком Псково-Печерской обители / Л. Зуров // Слово. – 1928. – № 1007, 11 ноя. (Подпись: Л.З.) 30. Зуров Л. Фридрих И.Д. Фольклор русских крестьян Яунлатгальского уезда [Рец.] / Л. Зуров // Современные записки. – 1937. – № 65. – С. 440–441. 31. Зуров Л. Эстония, Печорский край, археологическая разведка – полевые записи // ДРЗ. – Ф. 3. – К. 1. – Ед. хр. 8. 32. Зуров Л. Ярмарка в Пыталове: Дорожные впечатления / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 501. 33. И. В Печорском крае // Журнал Содружества. – Viipuri (Выборг), 1935. – № 10. – С. 35 52 34. Историко-этнографические очерки Псковского края / Под ред. А.В. Гадло. – Псков: ПОИПКРО, 1999. – 315 с. (Гл. 14. Сету. История, культура, современные этнические процессы. – С. 269–301). 35. Ковалевский П. Л. Зуров – этнограф / П. Ковалевский // Русская мысль. – Париж, 1971. – 23 сентября. – С. 9. 36. Кузнецова Г.Н. Грасский дневник / Г.Н. Кузнецова; Сост., вступ. ст., коммент. О.Р. Демидовой. – СПб.: Мiръ, 2009. – 496 с. 37. Маланин И.Д. Следовики / И.Д. Маланин // Памятники Отечества. – Вып. 19. – 1989. – С. 130–134. 38. Опись древностей Псково-Печерского монастыря [в качестве приложения] // Псково-Печерский монастырь. Общий культурно-исторический очерк / Cост. В. Синайский. – Рига: тип. «Рити», 1929. – С. 57. 39. «Предчувствие мне подсказывает, что я недолгий гость»: Переписка И.А. Бунина и Г.Н. Кузнецовой с Л.Ф. Зуровым (1928–1929) / Публ. И. Белобровцевой и Р. Дэвиса. Вступ. ст. И. Белобровцевой // И.А. Бунин. Новые материалы. Вып.I. – М.: Русский путь, 2004. – С. 232–284. 40. Heywood A.J. Catalogue of the Ivan Bunin, Vera Bunina, Leonid Zurov and Ekaterina Lopatina collections / A.J. Heywood; Ed.: R. Davies, D. Riniker. – Leeds: Leeds University Press, 2000. – P. 291–351. 53 Глава 3. ЖАНР ПОВЕСТИ В ПРОЗЕ Л.Ф.ЗУРОВА: ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ Повесть Л.Ф. Зурова «Кадет»: поэтика жанра Проза Л.Ф. Зурова – явление по-своему уникальное в русской литературе ХХ века. Типологически родственная художественному сознанию И.А. Бунина, она отличалась своей эстетической новизной. Бунин, И.С. Шмелёв, Б.К. Зайцев, М.А. Осоргин, Г.И. Газданов в эмиграционный период своего творчества стали выдающимися мастерами русского неореализма: особый художественный синтез, свойственный их творческому сознанию в дооктябрьский период, в зрелые годы за рубежом проявился особенно многогранно. Мы можем вести речь об общей «родовой черте» этой прозы – ностальгической мифопоэтике: каждый из писателей творил свой миф об ушедшей России. Однако по внутреннему родству художественного мировидения возможно выделить духовный реализм (творчество Шмелева, Зайцева, Зурова) и феноменологическую прозу (творчество Бунина, Газданова, Осоргина) [5]. Безусловно, такое разделение имеет определённую относительность: к примеру, феноменологическое художественное сознание Бунина не противоречило выражению христианского мировосприятия писателя. Необычный характер прозы Зурова особенно заметно проявился в жанре романа. Его «Древний путь» (1934) и «Поле» (1938) - романы, в которых сюжетообразующая роль принадлежит лирическому началу, и это кардинально меняет представление о романе: эпическое начало оказывается подчиненным лирическому, что не мешает созданию эффекта эпической многомерности картины жизни [6]. Автобиографическая повесть «Кадет» (1928) знаменовала начало творческого пути молодого автора, и знаменовала весьма удачно: современниками она была замечена и высоко оценена. Бунин написал в своём отклике на книгу «Кадет», в которую, кроме этой повести вошли рассказы и очерки: «Подлинный, настоящий художественный талант, – именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает…» [цит. по: 10: с. 6]. 54 Это произведение заслуживает внимания и присущей собственно ему художественной значимостью, и как преддверие художественных открытий Зуровароманиста. Следует определить и место этой повести в мощном пласте художественно-автобиографической прозы русской эмиграции первой волны. Повесть посвящена событиям революции и гражданской войны, данным через восприятие 15-летнего ярославского кадета Мити Соломина. В этом произведении, в отличие от романов Зурова, событийная канва ещё выстраивается в хронологическую цепочку. Но при всей драматичности, суровой судьбоносности изображаемых событий для главного героя и для всей России в повести присутствует и второй план – это лирико-субъективное «сопровождение». Когда мы размышляем над новым качеством лиризма в неореалистической прозе, примером которой являются тексты Зурова, особенно методологически значимыми оказываются труды Д.Е. Максимова о прозе А.А. Блока, а также труды В.А. Грехнева о лирике А.С. Пушкина. Соотнесенность представлений В.А. Грехнева о лирическом сюжете и новаторстве Зурова-романиста будет проанализирована в следующей главе применительно к романам Зурова. Здесь, ведя речь о становлении неореалистического художественного сознания писателя, сердцевиной которого оказывался лиризм, обратимся к продуктивным наблюдениям Д.Е. Максимова. Исследуя прозу Блока, учёный точно заметил в своё время, что «лирическое сознание в статьях Блока – эмоция, организованная разными формами смыслового и звукового ритма, - устремлено в своём пределе к некоему единому явному или подразумеваемому представлению об авторском я. Тем самым лирическое начало вносит художественный элемент поэтического синтеза» [9: с. 311]. Таким образом, именно лирическая сфера оказывается сферой собственно авторского присутствия в тексте. Полагаем, методологические пути, проложенные Д.Е. Максимовым в изучении взаимодействия поэзии и прозы в прозаическом тексте, требуют актуализации применительно к исследованию неореализма. Здесь необходимо заметить следующее. В индивидуально-авторском художественном сознании неореалистический синтез формировался постепенно, ис55 подволь. По-бунински эмоционально скупо, в сдержанных интонациях, исключающих «прорывы» экспрессивной оценки даже жестоких сцен, свидетелем которых был юный герой повести, ведет повествование Зуров. Новое качество лиризма в прозаическом произведении на примере повести Зурова проявляется прежде всего имплицитно: на уровне авторских лейтмотивов, организующих движение лирической эмоции. Эксплицитное выражение лирической эмоции проявляется у Зурова гораздо реже - в непосредственных, психологически-обусловленных поэтических пассажах. Событийное движение сюжета повести происходит в течение нескольких месяцев 1917–1918 годов; через восприятие главного героя последовательно воспроизводится развитие драматических жизненных ситуаций, связанных с неудавшейся попыткой ярославских кадетов вместе со своими командирами отстоять свой город от красных, выполнить до конца свой воинский долг перед Отечеством так, как они его понимали, как присягали. Итогом становится вынужденная эмиграция. Лейтмотивная основа, как нам представляется, организована сложнее. Обнаруживается её антиномичность, которая затем постепенно становится выражением слиянной цельности мировосприятия героя. Попробуем это объяснить. Лирическая составляющая у Зурова, имеющая напряженный медитативный характер, выражала стремление Мити понять трагедию происходящего. Ведущей становится всеобъемлющая драматически- вопрошающая лирическая эмоция. Интонацию, определяющую развитие лирического сюжета произведения, задает эпиграф – строфа из народной песни: Молодость, молодость, приятная молодость!.. А чем-то мне молодость мою вспомянуть? Вспомяну тебя, молодость, тоскою-кручиною, Тоскою-кручиною, печалью великою… [7: с. 172]. Заметим: именно печаль, а не злоба, чувство мщения, классовой ненависти, является той доминантой, которая объединяет в сознании Зурова и его личную трагедию, и трагедию его родины. 56 В чем же антиномичность зуровской лирической эмоции? Его печаль - это, с одной стороны, печаль-сожаление об ушедшей жизни, об утерянном рае, какой была в сознании Мити изломанная революцией жизнь России, а с другой стороны, это печаль-недоумение о причинах вырвавшихся наружу страшных разрушительных начал этой жизни, свидетелем ужасающего действия которых он стал свидетелем. Мотив утраченного рая звучит уже на первых страницах повести, поэтически воссоздающих безмятежную картину солнечного утра летом в родном доме: «Утром он долго щурился, потягивался и радостно думал, что труба горниста не побеспокоит его, что он может, натянув на голову одеяло, спать, сколько угодно» [7: с. 172] (здесь и далее в цитатах курсив мой – В.З.). Проникновенное лирическое начало заключено у Зурова прежде всего - как это свойственно и Бунину, - в образе внешнего мира, воссоздаваемого сквозь восприятие героя. Радостное утро жизни, какой была ранняя юность Мити, предстает в интродукции повествования в мажорной динамике светлых природных стихий: «Ветер, настоянный на влажной от росы зелени сада, врывался в комнату, паруся белые занавески <…> Митя подбегал к окну. Солнце било прямо в глаза, крепло от утреннего холодка тело. Яблоневый сад сбегал к обрыву. Меж двух старых дубов розовело дрожащее под солнцем озеро, и были видны прибрежные пашни, всползавшие на горку, с которой по праздникам белая колокольня посылала легкие волны неторопливого чуть дребезжащего звона. Всё это было знакомо с детства, но всё оживало и загоралось новыми красками в начале каждого приезда из корпуса и наполняло ощущением вновь прибывающего счастья» [7: с. 172–173]. Лирическая эмоция двух первых экспозиционных главок выражает детскидоверчивое отношение героя к жизни, уверенность в том, что «всё было хорошо в этом мире» [7: с. 173]. Мотив казавшейся гармонической устойчивости бытия варьируется в повторах: «В семнадцатом году, когда отцвела сирень, жасмин зацвел так же буйно, как и в прошлый год. После дождя пахнувшие молодыми огурцами 57 почки лопнули, и пчелы повели на цветы свои звонкие полки. В семнадцатом году казалось, что мед будет пахнуть жасмином» [7: с. 175]. Рисуя образ окружающего мира, автор непринужденно указывает на его целесообразность, на органическую взаимосвязь всего природного бытия: «В камышах у островка вывелись утки. По вечерам у озера, где в прохладной полутьме звенели комары, кто-то невидимый плескался и бил по воде ладонью – играла крупная рыба. Днём солнце сушило густые цветущие травы, ягоды и веселое пнище, где пни сухие, словно серебряные, стояли, подставляя под лучи свои плоские потрескавшиеся лбы» [7: с. 175]. Сюжетно-событийное движение повести начинается с IV главки: Митя едет в Ярославль, в училище, так как из письма друга узнает о преждевременном сборе кадетов из-за начавшихся в стране беспорядков. Однако лирическая мелодия начальных главок некоторое время ещё продолжает звучать, своеобразно выполняя функцию ретардации. Это мелодия гармонической тишины, естественного хода жизни, который, казалось, немыслимо нарушить. Так, «потом он часто вспоминал благословляющую материнскую руку, тепло уходящего дня и крепкий запах ровно шедшей осени, запах антоновки, кленовых листьев и укропа» [7: с. 184]. По пути в Ярославль, на пристани у Горицкого монастыря, он замечает, что «монахини продавали резанные по дереву иконки, крестики, ладанки, просфоры и цветные пояски с вышитыми на них молитвами»; Митя «купил целую дюжину поясков. Просфоры были белы и вкусны. От тишины, ленивого шелеста росших на обрыве сосен Мите казалось, что смиренно стоит его страна и знакомый ветер ласково поет над её пожелтевшими полями» [7: с. 185]. В цитированных выше отрывках необходимо выделить и образы, рождающие аллюзию на тексты Бунина. Первый из них, конечно же, «запах антоновки». Знаменитое бунинское выражение: «Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб» - стало эфемерным, но вечным образом-символом ухода в небытие огромной цивилизации – российской дворянской культуры [2: т 2, с. 190]. В зу- 58 ровском тексте этот намек усиливается ещё одним образом-словосочетанием: «тепло уходящего дня». И ещё одна пронзительно-драматическая аллюзия здесь просвечивает: росшие «на обрыве» сосны заставляют вспомнить «Несрочную весну» Бунина, рассказ, написанный в 1923 г. Здесь щемящая интонация прощания с уходящей многовековой культурой России звучит уже более экспрессивно, хотя известная бунинская «сдержанность стиля» любую экспрессию неизбежно уводит в подтекст. Не ставя здесь задачи развернутых сопоставлений, заметим лишь, что символика пространства изображенной в рассказе старинной усадьбы построена на мотиве грядущего исчезновения. Сосны в ущельях выглядят сторожами усадьбы, которую они пытаются скрыть от внешнего мира, несущего ей гибель, а церковь в усадьбе стоит «на обрыве», как будто в любой момент готовая в него сорваться [2: т. 5, с. 125]. Д.Е. Максимову принадлежат глубокие наблюдения над своеобразием лиризма в прозе Блока: «Лиризм, развитый в прозе Блока и резко изменяющийся в ней по степени своей интенсивности <…> часто и даже чаще всего сосредоточивается в её образах, образных скоплениях и сочетаниях» [9: с. 311] (курсив автора – В.З.). И далее: «Образность в статьях Блока служит “украшению речи” лишь в редких случаях, как бы уступая инерции. Образность является в блоковской прозе, так же, как и в его стихах, орудием познания действительности и созидания духовно-эстетических ценностей» [9: с. 311] (курсив мой – В.З.). Полагаем, по такому пути развивалось и художественное мышление Зурова. Возвратимся к исследуемым нами мотивам, организующим движение лирической эмоции в повести «Кадет». С поэтизацией устойчивых начал жизненного уклада связано у Зурова и его восприятие соборности российской жизни. Примеров в тексте много. В самом начале повести автор приводит размышления матери Мити, когда тревогу вносили только слухи: «Дорогой она думала, что крестьяне любят её за частую помощь, за бесплатное лечение, за подаренную им несколько лет тому назад тысячу десятин земли. Она вспомнила, как мужики отстаивали во время пожара надворные 59 постройки. Как они при виде её скидывали шапки, а приходя в имение, ловили её руку и благодарили горячими, казалось, шедшими от сердца словами» [7: с. 182]. Автор выделяет нескольких эпизодических персонажей, выполняющих важные функции. Среди них – лесник Михаил: «Михаил был верный. Это был высокого роста мужик, японской войны унтер-офицер <…> Митя любил Михаила. Лесник научил его повадкам дикой птицы и стрельбе влёт» [7: с. 178]. Именно Михаил спасает Митю от жестокой мужицкой вольницы. Трогательно милосердной показана в повести бывшая няня, которая давно уже жила в городе. Когда раненый Митя, сброшенный солдатами с поезда, появился у неё в доме, она не просто приняла его у себя, а предложила ему все свои сбережения. Митя от них отказался, но, засыпая, «тихо улыбнулся. Словно солнечный луч промелькнул» [7: с. 216]. Стоит добавить, что няня сказала Мите о своём решении передать эти деньги в церковь. В этом же ряду персонажей, манифестирующих вековую органичность соборного начала русской жизни, - совершенно «случайный» герой повести: мужик, наблюдавший за молодыми добровольцами в деревушке на отдыхе: «На берегу во время купанья всегда сидел рыжеусый мужик, покуривая трубку» [7: с. 251]. Сцена купанья подана автором как возвращение добровольцев хотя бы на краткое время к своей естественной жизненной ипостаси: быть просто мальчишками, счастливыми от близости с природой: «На солнечном лугу за деревней добровольцы занимались строем, а после ученья отправлялись на речку купать отрядных коней и, скинув мундиры, превратившись в белотелых мальчишек, голышом лежали на песчаном берегу, кувыркались, доставали с речного дна камни и, вымазавшись песком, бегали взапуски» [7: с. 250]. «Мальцами» называет их хозяйка избы. Именно в этом контексте воспринимается неожиданное появление на поверке «нового добровольца, рыжеусого солдата, одетого в старый заплатанный мундир, с двумя медалями, приколотыми булавкой к груди <…> он стоял навытяжку перед полковником» [7: с. 252]. Солдат становится их фельдфебелем, так объясняя юным повстанцам своё решение: «Рядом с Государем Императором на конях 60 летали <…> дай бог умереть за такую радость… Господи, да мы теперь словно сетку на глаза навели. Я говорю их высокоблагородию полковнику Лебединскому: я старый, ваше высокоблагородие, у меня жена и парнишка, а не могу глядеть, как такие ребята, чистые малыши, прости Бог, за Россию драться идут. Сделайте божескую милость, примите в часть» [7: с. 254]. Архип Семёнович, как звали старого солдата, воплощает отеческое, защитное начало, с одной стороны, а с другой – его наставительную, воспитательную функцию – передачи молодому поколению главнейших нравственных постулатов. Так, на вопрос Мити, что же теперь будет, фельдфебель отвечает: «По кому теперь человек должен равняться?.. Вот запомни, что старик говорит. За Богом молитва, а за Царём служба не пропадёт. Идти бодро, весело на врага, не сильной, не дюжой бьёт, а смелый, упорный и храбрый. Держи коня сытого, шашку вострую, догонишь врага и побьешь… Так было по старине, а теперь этого нет, - сказал и поник головой. – Самое первое плечо погибло, - добавил он грустно» [7: с. 256]. Трудно переоценить значение образа старого фельдфебеля в повести, настолько ёмко он выражает замечательные качества национального народного характера: глубокое чувство соборного единения, верности солдатской присяге, верности христианским нравственным традициям и осознания трагедийности их разрыва. В лирическом сюжете повести эмоция печали-сожаления об утраченном рае получает своё плавное завершение в эпизоде прощания Мити с родиной накануне отъезда в вынужденную эмиграцию: «Глядя на холодные воды Невы, на громадный небесный простор, раскинувшийся над Адмиралтейством, на задымленную лиловатым туманом “Аврору”, Митя почувствовал, что в его сердце не было злобы, на сердце лежала тяжёлая горечь утраты» [7: с. 275]. Как было сказано выше, эта эмоция переплетается у Зурова с другой, во многом антиномичной ей: чувством драматически-вопрошающего недоумения перед разрушительными началами бытия. В тексте это выражено многообразными средствами. Выделяются непосредственные эпизоды, в которых изображается жестокость происходящего, – но изображается эмоционально-скупо, сдержанно. Это сцена, 61 когда солдаты на ходу выбрасывают Митю из поезда, перед этим едва не повесив его в тамбуре. Затем сцена разгрома мужиками имения, когда Митина жизнь вновь висела на волоске. Мите не верилось, что такое может случиться, не верилось и верным дворовым. Старуха-скотница Евгения предупреждает барчука о возможном аресте: «А Васька-то… на ваших хлебах вырос, в люди вышел…» [7: с. 221]. А когда разгром всё же случился, Митя «вспомнил праздничные дни, пьяный весёлый мужицкий говор, парней в цветных рубахах, их драки из-за девок с соседними деревнями, когда шли в ход гири на ремнях, колья, ножи, когда сбитых людей мяли, топтали лакированными сапогами. Он вспомнил, как однажды красивой девке вырвали косу» [7: с. 224–225]. Зуров не комментирует это воспоминание: своей скрытой экспрессивностью оно говорит само за себя, вводя личную драму Мити, драму семьи в контекст случившейся общенациональной беды, в истоках которой – необъяснимая людская жестокость к ближнему. Это – интонация, близкая чеховским «Мужикам» или повести «В овраге», бунинской «Деревне». Наиболее же драматически-болезненные моменты Зуров освещает ещё скупей и лаконичней. Здесь сильная боль почти совсем уходит в подтекст. Это связано с гибелью в Ярославле семьи любимой девушки Мити – юной Ани Шатиловой. Зуров прибегает здесь к внешней пластичности изображения. Когда пришла весть о расстреле семьи Шатиловых (отец Ани был отставным полковником), «добровольцы видели, как кадет Соломин качнувшись, прислонился к стене, а потом рухнул на колени и скрыл от всех своё лицо. Под гимнастеркой забились его плечи» [7: с. 270]. Сходно подан и позднейший эпизод, когда в солдатской теплушке, пробираясь в Петроград с чужим паспортом, Митя стал свидетелем дикой сцены: в теплушку на ходу хотела влезть баба-мешочница, а игравшие в карты красноармейцы, «глядя, как баба ногтями царапала у их ног пол, зычно хохотали» [7: с. 274]. Автор завершает эту сцену одной только фразой: «Митя вскочил и втащил бабу в теплушку» [7: с. 274]. 62 Возвращаясь к нашим рассуждениям о взаимодействии основных лирических эмоций зуровского текста, заметим здесь, что к финалу повести их антиномичность постепенно смягчается, образ родины в восприятии Мити встаёт в своей непостижимой цельности: «<…> ветер кружил над широкими российскими полями. Боль рождали открытые взору просторы, на которых люди умели умирать, но не умели жить. <…> Развертываясь, как пёстрый свиток, бежали перед глазами сжатые поля, ржавые болота, перелески, серые кучи деревень и редкие убогие сельские церкви - родина. Родина Мити, бабы и красноармейцев» [7: с. 273–274]. Непостижимая разумом, но глубоко ощущаемая на эмоциональном уровне цельность разорванной страшными противоречиями российской жизни, могла возникнуть лишь в душе человека, обладающего некоей собственной внутренней цельностью: лишённого сословно-классовой ненависти, воспитанного в православно-христианской системе ценностей. Особенно показательно в этом плане именование красноармейцев, против которых сражался Митя Соломин: для них найдено одно ёмкое слово, повторяющееся лейтмотивно, - «неприятель»: «Ночью заухали орудия, загромыхало вдали перекатами, и неприятельские снаряды начали рваться» [7: с. 257]; «<…> перед рассветом повела наступление неприятельская цепь» [7: с. 258]. Тем самым повествование включается в ассоциативный контекст русской классики: так, для героев «Капитанской дочки» неприятель – это не только иноземный враг, но и «свои» бунтовщики. Такое обозначение переводит восприятие социально-исторического катаклизма в план над-исторический, над-социальный. «Неприятель» - это нечто внешнее, это угроза всей русской жизни в целом, ибо наступление такого неприятеля вскрывает нечто опасное в самой этой жизни, в самом человеке: черты «дикой, страшной воли» [7: с. 278]. Основной конфликт произведения, таким образом, приобретает черты субстанционального, - что станет характерно для последующих зуровских романов. Одной из итоговых интонаций «лирического сюжета» повести является – во многом обусловленная способностью героя к цельному взгляду на происходящее 63 как на общенациональную трагедию – интонация христианского смирения перед собственной неизбежной эмиграцией. Несколько заключительных главок, посвящённых пребыванию Мити в Риге, сначала занятой немцами, затем красными, потом армией Юденича, можно считать развернутым эпилогом. Причём, несмотря на событийную пестроту и напряженность, это, прежде всего, эпилог внутренний, касающийся именно внутреннего мира героя и той напряженной душевной и духовной работы, которая в нём происходила. Здесь своя логика лирической эмоции, ведущей подтекстовое течение повествования. Это прежде всего усиление христианского мирочувствования героя повести, в тяжкие дни укреплявшегося именно в православной молитве. При этом органически присутствует в душах героев Зурова соборное начало. Так, когда Митя и его двоюродный брат Стёпа оказались в застенках ЧК, «молодость, - пишет автор, - не верила, что так рано кончилась жизнь, и хотя глаза видели, как водили других на расстрел, но тело отвергало мысль о смерти, и слова молитв спасали и укрепляли его. После молитвы спокойней билось сердце» [7: с. 291]. Молитвенная эмоция выражена в тексте в разных интонациях, но всегда со сдержанной экспрессией. Когда в тюрьме к Мите приходили страшные сны о виденных казнях, «Митя просыпался в холодном поту и творил крестное знамение» [7: с. 292]. А когда мальчиков неожиданно выпустили и радость переполнила их души («казалось, что никогда в жизни так ярко не светило солнце и так хорошо не блестел под его лучами снег»), Митя не забывает сказать Стёпе: «Знаешь, Стёпа, что я вспомнил <…> когда меня из поезда выбросили, мне няня сказала: “Видно, за тебя мама молилась…”» [7: с. 293]. Полагаем, повесть Зурова во многом наследует традиции пушкинской «Капитанской дочки» по силе проявления в поэтике произведения соборного начала русской жизни. Глубоко проанализировавший в этом плане «Капитанскую дочку» И.А. Есаулов, в частности, выделяет эпизоды, где «автором эксплицируется действенность молитвы»; подобные случаи «осуществления молитвы», отражённые в русской литературе, справедливо считает исследователь, свидетельствуют «о 64 глубинных токах православной духовной традиции» [3: с. 55] (курсив автора – В.З.). Кульминационной сценой того внутреннего эпилога, каким нам представляется текст завершающих главок, является предпасхальная исповедь и причащение героев перед поступлением в армию и уходом на фронт гражданской войны. Звучит мотив непреходящей красоты православной традиции, животворными соками питавшей многие поколения русских людей: «Мите были памятны с детства робкие огни четверговых свеч, розовые отсветы родимых предпасхальных песен, и алоствольная верба с тёплыми пушками, и чтение Евангелий, когда в перерывах вздыхал хор о славе и долготерпении и с колоколен падали редкие звоны» [7: с. 304]. Синестезия, столь редкий гость на страницах Зурова, здесь служит тонкому выражению одухотворённого ожидания чуда Господня, Праздника Праздников. Это чудо связано для мальчиков с глубоко постигнутой ими с детства самой сутью Святого Таинства, касающегося сокровенного в душе каждого из них: «Утром, готовясь к исповеди, они усердно молились <…> Учащённо билось Митино сердце, и ему казалось, что много накопилось грехов, и страстно хотелось стать чистым и хорошим на всю жизнь. Они со Стёпой разом крестились, разом опускались на колени» [7: с. 304–305]. Волнующе-торжественно, но сдержанно и строго передаёт Зуров самый проникновенный в духовной жизни героев момент: «Когда епитрахиль, прошелестев, накрыла Митину голову и благословляющие пальцы священника тихо коснулись её, Митя успокоился. Из Царских врат выносили Святые Дары, и хор тихо пел. Приближался тот волнующий, исполненный смирения час приобщения к чистоте, и Мите этот час казался нездешним, обвеянным тихим светом. Они, сложив руки крестами на груди, стояли перед поблескивавшей золотом Чашей. – Дмитрий. – Степан. 65 После Причастия то злое и тяжёлое, что мучило Митю целый год, отлегло. Светлая звезда его молодости победила. И так было легко, радостно и чисто в те дни в обновлённом для него миру» [7: с. 305]. Немного найдется в отечественной литературе ХХ века произведений, подобных этому, где автору удалось так художественно убедительно передать самое естество верующего сознания, «духовного делания». Пасхальная радость, вновь открывшаяся Мите в таинстве евхаристии, представляет героя обновлённым, с очищенной покаянием душой, которая и мир теперь воспринимает обновленным и радостным, несмотря ни на какие страдания. Эта пасхальная лирическая эмоция выражала надежду писателя на то, что герой, который таким идёт далее в мир, несомненно, способен этот мир обновить и сделать радостным. Так условно выделенный нами «внутренний эпилог» повести становится кульминационной высотой, аккордом, соединяющим в торжественном звучании все лирические мелодии текста. Несомненно, повесть Зурова является одним из замечательных свидетельств проявления доминанты пасхальности в русской литературе [4]. В цитированном выше фрагменте необходимо выделить и такие слова: «благословляющие пальцы священника» и «исполненный смирения час». Они «перекликаются» с уже звучавшими выше теми же словами или сходными состояниями души героя: воспоминанием о благословляющей материнской руке, о казавшейся смиренной своей стране, о смиренно воспринятой разлуке с ней. Текст становится семантически уплотнённым, онтологически укрупнённым: сквозь него «просвечивает» главный духовный смысл произведения. Возникает некий энергетический эффект, типологически родственный тому, который обнаружил в прозе Блока Д.Е. Максимов. Анализируя высказывания Блока разных лет, учёный подмечает: «<…> в своём высказывании 1906 года Блок говорит об отдельных словах как факторе поэтической активности текста, тогда как в другом месте – шире, об “искре искусства” <…> Именно эти рассеянные в тексте “искры искусства” - сгущения полисемантической образности – и являются источниками поэтического “радиактирования” (Блок) или, заменяя эту метафору другой, более широкой, поэтической индукции» [9: с. 321]. 66 Полагаем, «лирическое поле» зуровского текста - в данном случае повести «Кадет» - создается в русле подобной поэтической традиции. Итак, подводя итоги нашим рассуждениям о новом качестве лиризма в прозе Зурова, заметим, что лирические эмоции моделировали внутренний, подтекстовоассоциативный уровень текста с помощью лейтмотивов, благодаря чему оказалось возможным более полное раскрытие авторского «я» в тексте. Ценность такого рода текстовой организации материала выявляется тем более, что Зуров наследовал понимание лиризма, которое было свойственно русской классической лирике. Имеется в виду следующее: «Лирическое начало – напряженная эмоциональность и субъективность, используя богатство возможностей выразительности, все же ощущает своим призванием конечное одухотворение и гармонизацию бытия, разрешение мучительных противоречий, которые не должны, да и не могут одержать в мире верх» [1: с. 52] (курсив мой – В.З.). По сути, речь идёт и о существе авторского «я», способного выражать коренные интуиции национальной духовности. Таким образом, лиризм здесь оказывается не просто главной сферой авторского присутствия, но и одновременно сферой онтологического осмысления бытия. Полагаем, анализ прозы Зурова убеждает, что перед нами пример становления художественного сознания, родственный глубоко проанализированному А.М. Любомудровым процессу «воспроизведения христианской (духовной) реальности» Б.К. Зайцевым и И.С. Шмелевым – «”новый реализм”, который, таким образом, претворился в духовный реализм» [8: с. 236] (курсив автора – В.З.). Ратоборческий подвиг русских монастырей в художественном осмыслении Л.Ф. Зурова (повести «Отчина», «Обитель») Л.Ф. Зуров, по верному наблюдению А.Н. Стрижева, создавал произведения, «напоенные светом и лиризмом, отмеченные благородными порывами и смирением, присущими православным людям» [10: с. 4]. 67 В художественном наследии Зурова особое место занимают лиро-эпические повествования, посвященные ратному прошлому России и связанные с историей Псково-Печерского монастыря: повесть «Отчина» (1928) и паломническое эссе «Обитель» (1946). Следует заметить, что в прозе русского зарубежья художественный образ монастыря занимает огромное место, в ряде произведений - центральное, связанное с авторской концепцией мироустройства. Это известные повествования И.С. Шмелева, в которых проникновенное эстетическое воплощение получила главная православная святыня русского народа – Троице-Сергиева Лавра («Богомолье», «Лето Господне», «Куликово Поле»), роман «Пути небесные», главные сюжетные события которого происходят вокруг Страстного монастыря и Оптиной пустыни. Это повесть Б.К. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский», художественное переложение жития Сергия, написанного Епифанием Премудрым, роман «Дом в Пасси», рассказ «Река времен», в которых создан собирательный образ русского монастыря на чужбине. Многие грани духовной силы русской обители раскрыты в этих произведениях, уже ставших или становящихся классикой ХХ столетия. Примечательно, что молодой, начинающий писатель, каким был Зуров в конце 1920-х годов, прокладывал свой путь в литературе именно с «монастырской темы», причём в аспекте, практически не затронутом впоследствии другими авторами, - патриотически-ратоборческой исторической роли русских монастырей. Псково-Печерский монастырь избран «героем» зуровских произведений, конечно, не случайно: псковская земля - его родные места; к тому же, поскольку монастырь находился на территории Эстонии, Зурову удалось в 1920–30-е годы несколько раз побывать там в составе этнографическо-археологических экспедиций. Ему даже посчастливилось жить в этом монастыре, участвовать в работах по реставрации церкви Николы Ратного, к тому же иноки разрешили ему пользоваться старинной монастырской рукописной библиотекой. «Отчина» имеет подзаголовок – «Повесть о древнем Пскове и ПсковоПечерском монастыре» - и безымянный эпиграф: «Из крестов скована Русская земля, И чрез кресты восходит солнце». А.Н. Стрижев справедливо утверждает: 68 «Так ярко и образно никто из русских писателей ещё не поведал о далёком прошлом Псково-Печерского монастыря, о его духоносцах и ратниках, отстоявших твердыню в годины вражеских набегов. В повести явно ощущается летописный подтекст, художественный язык аскетичен, стилевая заостренность сродни сказу» [10: с. 6]. «В этой книге, как в золотой чаше, собраны драгоценные слезы, и скорби, и страдания мучеников - истинных воинов Христовых, которые отдали свою жизнь за Дом Пресвятой Троицы и за веру Православную» - напишут спустя несколько десятилетий сестры Пюхтинской обители на рукописном экземпляре «Отчины», который они подарят братии Псково-Печерского монастыря» [10: с. 7]. Художническому взгляду Зурова свойственна не столько историческиконкретная точность, сколько исторически-обобщённая цельность, отнюдь не исключающая поразительной зоркости в изображении прошлого. Война (в экспозиции речь идёт о литовских набегах) показана прежде всего как нарушение естественно-природной гармонии бытия: «В чужих следах были поля. По весне не зацвели посеченные сады, пчелы не прилетели на разоренные пасеки» [7: с. 11]. В мирные же годы образ Пскова как православного града, сторожащего на холмах славную землю Святой Троицы, изображён автором одновременно и как земная твердыня, и как феноменальная сущность, сопряжённая с миром горним: «Мирные шли годы. Заря румянила башни Детинца. Уронив искры от крестов в седую утреннюю воду, лебединым станом выплывал из туманов Псков. Пахарь, вышедший на пригорок, княжеская, разбившая на холмах свой стан, рать и возвращающийся с ловли рыбак видели над озером белый, словно отлетающий град» [7: с. 20]. Мир - это гармоничный лад всей русской жизни: «Звон падал на воду. Выходя на чистый озерный путь, медленно заворачивали серые паруса, ветер ровно держал стяг Нерукотворного Спаса, а за кораблями бусами тянулись груженые белым льном ладьи. В перемирные годы закладывал Псков стены, честно принимал князя и встречал новгородского владыку, что приезжал своих детей псковичей - благословить. А то высылал Псков князя с ратью церкви ставить, сено косить и рыбу ловить» [7: с. 20]. 69 В образ идеального русского бытия, осенённого Господней благодатью, постепенно вписывается Зуровым и строительство Псково-Печерского монастыря, вставшего форпостом на северных русских землях всего в двадцати километрах от замка немецких рыцарей Нейгаузена. Одним из строителей монастыря был духовный сын игумена Корнилия и старца Вассиана Муромцева инок Пафнутий Заболоцкий. В его образе узнаваем собирательный образ русских зодчих, созидавших на земле рукотворный Небесный Иерусалим. «Оттого неровны были стены, что у воздвигавшего их от восторга дрожала рука. Во сне видел он звонницы на радостных Господних полях и храмы над волнами полей, как уходящие в небо прямые паруса ладей. <…> Был зодчим Господним инок Пафнутий» [7: с. 38]. Идея вознесённости монастырских храмов, их устремлённости к небу, их единения с миром горним передана Зуровым так же поэтически, как при создании образа православного града: «Выше холмов стесал Пафнутий из белого камня звонницу от Запада к Востоку. <…> Белой стрелой неслась она из подола к небу, готовая растаять в утренней заре» [7: с. 41]. Или: «Колокола на звонницах пели о вечере, как дымы кадильные шли облака, легкое уходящее солнце лежало на водах - радугой осеняла Троица вечереющий град и окрест него храмы на зеленых лугах. Белые звонницы - молитвы зодчих - пели о уходящих стягах псковских ратей, о коленопреклоненных в поле полках» [7: с. 29]. Художественное время повести вбирает в себя многовековые события, в том числе и жестоко нарушавшие столь ценимый на Руси мир: это и моровое поветрие, и Ливонская война, и бесчинства царя Ивана Грозного, погубившего игумена Корнилия, и самая тяжёлая в истории осада Пскова Стефаном Баторием. Образ монастыря при этом всегда в центре - и не только как мощная крепость: главное внимание писателя сосредоточено на поэтическом воспроизведении духоподъёмной, молитвенной силы обители: «От Пскова и Изборска на Нов-Городок Ливонский шли рати. Идя на битвенное дело, они заходили к владычице в Печеры под благословение, молебны послушать и приобщиться, чтобы с чистой душой отойти в бою ко Господу» [7: с. 34–35]. 70 Когда Андрей Курбский в Ливонскую войну шёл к Немецкому Городку, он пришёл к игумену Корнилию: «Возложил Корнилий руки на голову князя и призвал на него благословение Божие. Рясу его поцеловал князь, и легок ему показался путь, и радостно было пасть в бою за отчину, милую Русь, за великого Государя, за Пресветлое Православное Царство, цветущее, как пшеница чистая перед Господом» [7: с. 36]. Монастырь всегда был убежищем для раненых, последним местом упокоения для убитых - об этом прежде всего говорится у Зурова: «С поля несли сюда тяжёлые дубовые гробы-колоды с телами убиенных. В сырой тишине пещер иноки копали им последнее убежище, вмуровывали в стены камни гробные и вписывали в синодик имена. Искалеченных мечами и пушечным свинцом иноки лечили и кормили из благочестия. <…> Трапеза монастырская была открыта для путников и беглых» [7: с. 35]. Именно гармонический круг бытия, связывающий воедино цельный земной «русский мир» с миром горним, как можно прочитать любимую мысль писателя, помогает побеждать русским людям – царям, князьям, крестьянам, монахам. Тяжелейшая осада Пскова летом 1581 г. была выдержана с честью благодаря и всеобщему ратному мужеству, и всеобщей вере в Господнее заступничество: «В осаду для обороны Пскова из Печерской обители вышли чудотворная икона Умиления, Успения и старая медная хоругвь. Глухими дорогами и просеками вел крестоносцев, малорослый и седой, в посеревшей от пыли ризе, игумен Тихон» [7: с. 57]. В самый тяжкий момент осады «раненый князь Шуйский, качнувшись, прижал к себе отрока и приказал ему бежать к собору Живоначальной за последней помощью. Собор не вмещал всех. <…> Под сводами храма игумен Тихон и весь собор, стоя на коленях, пели молебны. Как одна грудь, плакал народ. <…> От человеческого дыхания гнулись и стекали свечи» [7: с. 69]. Когда к проломному месту в стене, где шло кровопролитие, приблизился крестный ход из собора, «келарь Хвостов в развевающейся рясе очутился около медленно отступающих псковичей. - Братцы! Богородица идет, родимые, - крикнул он и, зарыдав, начал благословлять ратников крестом, давая с коня целовать 71 крест ловящим его запекшимся устам. И запел он сквозь рыдания: - Царице моя Преблагая, Надеждо моя Богородице...» [7: с. 70]. В послесловии к повести Зуров приводит свою беседу со старичкомкрестьянином, встреченным им в часовне близ Псково-Печерского монастыря. Старичок выразил в простых и наивных словах живую народную веру в Господнее заступничество - и в годы стародавнего лихолетья, и в нынешнем их житии: «Когда теперь погода зайдет, суша ли, дожди, - Миколу Угодника просим на поля и Царицу Небесную. И выходило так, милый, что очень правильно и опять Господь разрешал нашу жизнь. Вот нам Микола какой, всё исполняет по молитве. Видал, сынок, - сказал он ласково, помолчав, - икона-то стоит в обители, всем землям Матерь Божия. Сколько под нашим монастырем боев ни было, а всё помогала» [7: с. 87]. Е.Н. Трубецкой писал в связи с событиями Первой мировой войны: «Ошибочно было бы заключить <…> что одной воли победить достаточно для того, чтобы одержать победу. Но, с другой стороны, без этой воли и без той веры, которая горы передвигает, ни о какой победе не может быть речи. Не сила оружия, отдельно взятая, решает участь сражения, а та духовная сила, которая управляет оружием и без которой оно – мертво» [11: с. 495]. Повесть Зурова «Обитель», написанная спустя почти два десятилетия после «Отчины», лишь условно может быть отнесена к этому привычному для русской литературы жанру. Скорее это эссе, свободное повествование, посвящённое пребыванию автора в Псково-Печерском монастыре, включающее и собственно паломнические впечатления, и исторические экскурсы, и размышления о судьбах России, - прежде всего в связи с её ратоборческим прошлым. Здесь встречаются те же исторические персонажи, что и в «Отчине», однако образы их высвечены по-новому, иные грани их судеб представлены автором. Так, смиренный инок Пафнутий, «Господний зодчий», воздвигнувший прекрасную церковь Николы Ратного над Святыми вратами монастыря (как уже говорилось, именно эту церковь довелось реставрировать Зурову в 1935 г.), в прошлом был воеводой Заболоцким, взявшим немецкую Нарву. С не меньшим восхищени72 ем, чем перед его талантом зодчего, говорит Зуров о Заболоцком-воеводе: «Это перед ним отворились замковые ворота, опустился подъемный мост, и ливонские парламентеры направились сдаваться к нему, царскому воеводе. Это он позволил осажденным выйти из Нарвы, взяв с собой всё, что они будут в состоянии увезти, это он именем царя Иоанна великодушно обещал покидавшим замок охрану, которая будет их оберегать при прохождении через весь русский лагерь» [7: с. 95– 96]. Многих героев многих осад вспоминает благодарно здесь писатель. Но особенно проникновенное чувство вызывает у него знакомство с рукописными книгами монастыря, бесценными хранилищами исторической, патриотической, национальной памяти. В закапанных воском синодиках «гусиными перьями было вписано, как, когда и почему надо совершать крестные ходы, - в память каких боев и осад они утверждены, на каких местах крови, у каких проломов и башен надо служить литии...» [7: с. 106]. Это погружение в прошлое принесло Зурову глубокое чувство приобщения к нему: «Я читал испещренные рыжеватыми и уже выгоревшими чернилами страницы <…> и монастырский каменный город оживал, и древняя жизнь, с которой я оказался таинственно связан, расцветая, раскрывалась предо мной. И когда я вышел на вольное солнце, то уже по-иному чувствовал и видел выдержавшую осаду обитель, закованный в боевые стены монашеский, крестьянский и воинский стан» [7: с. 106]. Писатель признаётся: «Меня уже полонило древнее очарование; свободно и легко я живу в тех веках <…> От ветра, грусти, любви, от приливающих чувств влажными становились глаза, и всё было для меня родным и понятным, словно сердце всегда жило здесь и я со всеми отошедшими жил по-сыновьи» [7: с. 108, 112]. Здесь у Зурова мы встречаем редкую для эмигрантской литературы сопряжённость вечных прекрасных начал России, уходящих в вековую глубь прошлого, с современным бытием, касающимся не только эмигрантской жизни, но и жизни советской России. В повести «Обитель» зачерпнута исторически необозримая 73 глубина, создающая лирически-скорбный образ Родины, прославленной ратными подвигами множества русских людей - мирян и иноков - сложивших свои головы у стен Псково-Печерского монастыря за много столетий. По выходе из пещер обители, из мест упокоения ратных, символом вечно прекрасных начал России видится автору русское небо: «<…> над головой разверзается небо, и живая чистота его, не зная предела, властно и великолепно течет» [7: с. 122]. И эта «живая чистота» воплощается для Зурова в подвиге бывшего гимназиста Васи Титова, жившего келейником у владыки в покоях (в бытность свою в обители в 1930-е годы узнал его автор): «Бледный, простоволосый советский лейтенант Василий Титов мужественно встретил смерть, стоя под наведенными на него дулами немецких винтовок» [7: с. 123]. Писателю дано было почувствовать древность и вечность прекрасных ратоборческих качеств русского человека, русского воина, и передать это чувство через лирически поданный образ Псково-Печерского монастыря, через поэзию русской природы. Художник замечает, что «незыблем ночной воздух» над древней обителью, что над вершинами сосновых боров «то же небо стояло», «не изменившееся с тех пор», когда здесь шёл Грозный, когда тут «не было ещё ни монастыря, ни человека» [7: с. 125]. Именно уверенность в прочности чувства любви к родной земле, укоренённому в сознании русского человека с древнейших времен, убеждает Зурова в устойчивости национального бытия в самых сущностных для него началах, - несмотря ни на какие исторические катаклизмы. Примечания 1. Алпатова Т.А. Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Взаимодействие прозы и поэзии: Учебное пособие / Т.А. Алпатова. – М.: МПУ, 1993. – 91 с. 2. Бунин И.А. Собр. соч.: в 9-ти тт. / И.А. Бунин. – М.: Художественная литература, 1965–1967. 3. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе / И.А. Есаулов. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1995. – 288 с. 74 4. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности / И.А. Есаулов. – М.: КРУГЪ, 2004. – 559 с. 5. Захарова В.Т. Неореализм в русской прозе ХХ века: (Типология художественного сознания в аспекте исторической поэтики). Учебное пособие / В.Т. Захарова, Т.П. Комышкова. – Нижний Новгород: НГПУ, 2008. - 113 с. 6. Захарова В.Т. Сюжетообразующая роль лирического начала в прозе Л. Зурова / В.Т. Захарова // Пушкинские Чтения–2005. – СПб.: САГА, 2005. – С.134–138. 7. Зуров Л. Обитель. Повести, рассказы, очерки, воспоминания / Сост. А.Н. Стрижев / Л. Зуров. – М.: Паломникъ, 1999. – 623 с. 8. Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев / А.М. Любомудров. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – 272 с. 9. Максимов Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока / Д.Е. Максимов. – М.: Советский писатель, ЛО, 1975. – 528 с. 10. Стрижёв А.Н. Л.Ф. Зуров. Биографический очерк / А.Н. Стрижёв // Зуров Л. Обитель. Повести, рассказы, очерки, воспоминания. – М.: Паломникъ, 1999. – С. 3–10. 11. Трубецкой Е.Н. Избранные произведения / Е.Н. Трубецкой. – Ростов-наДону: Феникс, 1998. – 511 с. 75 Глава 4. ЖАНР РОМАНА В НАСЛЕДИИ Л.Ф. ЗУРОВА Субстанциональный конфликт как основа сюжета в романе Л.Ф. Зурова «Древний путь» Становление неореалистического художественного сознания в русской прозе ХХ в. обусловило особое внимание к постижению онтологических проблем бытия. Обозначилось качественное изменение жанровых форм, сюжетной организации повествования. «Родовой метой» нового художественного сознания стало тяготение к нетрадиционной, «неканонической» модели сюжета, остающейся, по мнению В.Е. Хализева, «теоретически неуяснённой» [18: с. 222]. Речь идёт о типе сюжетосложения, который способствует выявлению субстанциональных конфликтов, неразрешимых в принципе, у которых «нет сколько-нибудь четко выраженных начал и концов, они неизменно и постоянно окрашивают жизнь героев, составляя некий фон и своего рода аккомпанемент изображаемого действия» [18: с. 222]. Такого рода сюжетная модель встречается в романе Зурова «Древний путь». Роман «Древний путь», впервые опубликованный в Париже в 1934 г. издательством «Современные записки», был вторым произведением крупной формы у Зурова после автобиографической повести «Кадет» (1928). Сюжет романа в основе своей имеет мотив возвращения героев в отчий дом, мотив блудного сына, причём это касается не только главного героя – вольноопределяющегося Назимова, но и второстепенного – солдата Тимофея Максимова. Действие происходит в эпоху революционного лихолетья на Псковщине. И Назимов, и Максимов возвращаются в родные края с фронтов Первой мировой войны. Но это возвращение не сулит им долгожданного отдыха и мирной уравновешенности жизни. Происходящее вокруг предстает алогичным, исполненным бессмысленной жестокости, неопределённости. Сюжет романа не имеет присущего классическому роману действия. Деление героев на главных и второстепенных весьма относительно. Композиция произве76 дения состоит из кумулятивной цепочки главок-эпизодов, не связанных между собой причинно-следственной связью. Происходит череда драматических событий с разными героями произведения: убийство красными семьи бывшего пристава, расстрел немцами молодого солдатика, казнь ими же Тимофея Максимова, «исход» из своей усадьбы Назимова (бегство с больным отцом и матерью). Всё кажется непостижимым, подчинённым чувству страха. Авторская позиция в романе близка традиции А.С. Пушкина как автора романа «Капитанская дочка», М.А. Булгакова как автора «Белой гвардии». Пугачёвщина в 1830-е годы осознавалась Пушкиным «как до предела сгущенное проявление трагедии мира, распада нравственных основ человеческого существования» [2: с. 9]. При этом «художественный мир пушкинского романа, по верному суждению Т.А. Алпатовой, - соединяет в себе обыденное и высокое, сиюминутное и вечное, индивидуальное и общезначимое. Герой в нём находится на границе двух миров – реального и поэтического, бытового и космического» [2: с. 14]. Булгаков предпосылает роману «Белая гвардия» эпиграф из «Капитанской дочки»; фрагмент из пушкинского текста заканчивается словами: «Ну, барин, закричал ямщик, - беда: буран!» Комментируя смысл этого эпиграфа, И.П. Золотусский пишет: «”Мужик”, “ямщик” предупреждает барина о беде. Эта беда касается их обоих. Они вместе попали в буран. И им вместе выбираться из него» [8: с. 148]. А «расшифровывая» другие аллюзии и реминисценции булгаковского романа, в том числе и в связи с Апокалипсисом, И.П. Золотусский верно объясняет смысл авторской позиции: «То, что совершается в “год по Рождестве Христовом 1918” в “Белой гвардии”, имеет отношение не только к России. Это и русский “буран”, и “буран” в мировом масштабе» [8: с. 148]. Социальный конфликт при таком авторском подходе к историческим событиям носит явно второстепенный характер, затушёвывается перед выдвигающимися на первый план субстанциональными началами бытия. Происходящее осмысляется не в масштабе конкретно-исторического социума, а в масштабах Вечности. 77 Зуров уже заглавием своего романа нацеливает своего читателя именно на такое его прочтение. «Древний путь» - это авторская мифологема, которая не имеет в романе никакой конкретно-топографической привязки. В развитии сюжета она тоже не играет определяющей роли. Заглавие здесь обозначает суть авторской концепции произведения: по Зурову, «древний путь» - это вечный путь скорбей человеческих, предназначенный свыше. Взгляд Зурова на эпоху войн и революций – это взгляд верующего человека, стремящегося найти ответы и почерпнуть надежду в христианской системе ценностей. В структуре произведения выделяются противопоставленные жизненные начала. С одной стороны - онтологически-значимые, незыблемые, прекрасные: дом, мать, молитва, церковная служба, природа. С другой – разбушевавшаяся, разрушающая все стабильные устои бытия революционная стихия, представленная как тёмный, страшный, необъяснимый катаклизм. Уже в первой главе романа эти начала изображены параллельно: страшная реальность похорон на армейском кладбище – и живая сила воспоминаний в восприятии Назимова, радовавшегося, как и окружавшие его солдаты, письмам из дома и любившего вспоминать о том, что «далеко позади, в родном доме думают о нём, по вечерам зажигают огонь, и свет падает на снег под окном. И, полюбив мелочи, которые он не замечал ни в юности, ни в детстве – свет лампы в столовой, дерево, растущее у окна, икону в спальне, перед которой мать учила молиться, оставленные им на полке книги, - он думал, что его почему-то не убьют…» [9: с. 6] (здесь и далее в цитатах курсив мой - В.З.). Композиция романа имеет фрагментарный характер, отражающий характер эпохи – дискретный, изломанный, лишённый цельности. События даны через восприятие самых разных людей – «приоритет» главного героя, как уже говорилось, весьма условен. Представления о социально-исторических катаклизмах в их соотнесённости с природными – характернейшая черта восприятия героями из народа, издревле отмеченная в художественном творчестве. Так и у Зурова, – вот, к примеру, эпизод, когда крестьянская семья, Яков и Дарья, выехали из хутора навестить родню: «На 78 большаке они встретили партию верховых. Солдаты скакали, словно пастухи. От города тёмным потоком шла армия: люди, повозки и толстые мортиры. - Вот как тронуло третьего дня, так и плывут, что черная туча, - сказала Дарья» [9: с. 70]. В крестьянской среде происходящее мерили и меркой отступления от христианских нравственных традиций (и в целом от веры православной). Вот рассуждения старой крестьянки, матери Якова: «Нет совести, - помолчав, снова сказала она. – Раньше в семье-то, чтобы отцу-матери грязное слово сказать… ни Боже мой. В воду послали бы тушиться. И пошёл бы. А теперь отца-бабку матюгом честят вдоль и поперёк. В церкву идут – ржут, как жеребцы. Сыну говорю: почему, ты, Лёш, Богу не молишься? – “А чего доскам молиться?” <…> Ох, милые, спаси, Мать Царица Небесная» [9: c. 79]. Безмерную жестокость происходящего во многом объясняли и тем, насколько эти отступления далеко зашли на войне. Так, молодой крестьянин Дмитрий, предупреждающий Назимова о возможной экспроприации зерна, говорит: «Знаешь, Александр Сергеевич, последний раз я к тебе прихожу. Узнают солдаты – убьют. Это просто. Теперь им убить – дело пустое. Это они видели» [9: c. 120]. В результате – совершенно спутанные ориентиры жизни, потеря надежды на будущее. Так, Яков говорит брату: «Вот я на фронте был, ранен был… Ехал домой, думал лучше будет, а вот оно как… Вот царя скинули, а теперь все переглодались. А будто при царе спокойнее было? – Про царя теперь забыть думать, – сурово сказал Алексей» [9: c. 78]. Или, к примеру, сцена въезда в город немецких частей: «Дураки, что зубы скалите, – сказал долго молчавший купец. – Враги пришли. – А нам свои хуже врагов» [9: с. 99]. Такой ситуации всеобщего распада Зуров противопоставляет, как было уже сказано, те онтологические начала бытия, которые извечно укрепляют жизнь, утверждают её незыблемые ценности. Да, эти ценности могут быть разрушены в жизни одного человека, в жизни поколения, даже в жизни государства, - но толь- 79 ко «здесь и сейчас», в определенную разрушительную эпоху. Тем не менее, они не могут исчезнуть из жизни в принципе, они – основа её прекрасной цельности. Эти начала связаны в романе Зурова, прежде всего, с образом дома, с образом матери. Материнское начало заявлено особенно сильно. Выделяются образы двух женщин: матери Александра Назимова Дарьи Федоровны и матери убитого поручика, бабушки гимназиста Сережи Львова – Анастасии Михайловны. Обе они – живое воплощение христианского стоицизма, высокого смирения перед лицом страшной опасности. Дарья Федоровна, оставшаяся в усадьбе одна с больным мужем, переживает страшную ночь: вполне реальна была возможность поджога усадьбы крестьянами. Даже когда было видно зарево соседней усадьбы, она не потеряла мужества, всю холодную февральскую ночь провела на краю сада, стоя под высокой елью, чтобы, если понадобится, успеть вывезти мужа на телеге. Обходя накануне вечером со свечой дом, она вспоминает, как гимназистом сын Саша приезжал перед Пасхой. «К Светлой Заутрене она ездила с сыном. До церкви было восемь верст <…> Она передавала через сына привезённые к запрестольному кресту гиацинты и становилась у любимой иконы Богородицы Умиления. Божья Матерь держала на руках Сына. Он щекой прижимался к Ее щеке. Склонив голову, Она смотрела грустно и умиленно. Саша, стройный и худой, стоял с строгим лицом» [9: с. 13]. Так акцентированно вводится в повествование библейская интонация. Соотнесённость человеческой судьбы в самых главных жизненных проявлениях с Вечными евангельскими образами как бы переводит повествование с житейского на субстанциональный уровень. Это отчетливо обозначено и далее: «Возвращались на рассвете. Словно омытое, большое, розовое солнце выходило из-за леса. Дорога шла по весёлым затопленным лугам и казалась короче. С большака были видны Засеки, дом, где она прожила жизнь и где родила сына» [9: с. 14]. В этой главке, одной из первых в романе, заложен ещё один важнейший мотив повествования – мотив «древнего пути». Дарья Федоровна вспоминает: 80 «Начиналась какая-то преображённая, светлая служба, словно несшая все радости и счастье древности. Радостно пел хор о воскресшем Христе, священник кадил, кланялся, христосовался, и ему отвечала вся церковь» [9: с. 14]. Так с первых страниц романа раскрывается одно из важнейших толкований авторской мифологемы «древнего пути»: утверждение великого преображающего значения христианской веры, издревле присущей русской жизни, той пасхальной радости, которую она всегда несла с собой (о категории пасхальности русской литературы см. [7]). Замечательна главка, в которой дан эпизод чтения Библии Анастасией Михайловной Львовой. Великолепен сам образ Библии: «Библия была древняя, в дубовом, обтянутом кожей переплете <…> От листов пахло воском и зрелой землёй <…> Меж страниц лежали лёгкие ландыши, розы, жасмины <…> Библия была в цветных закладках, бабкина, парчовая – серебряные травы по зелёному полю, и любимая материнская – голубая с бисерной вышивкой, и девичья тёмно-синяя лента из косы. Её Анастасия Михайловна положила в день свадьбы. Среди закладок была алая анненская лента сына, снятая ею с рукоятки его шашки» [9: с. 54]. Нельзя лучше, чем через образ Книги Книг, так проникновенно показать древний путь православной духовной традиции, питавшей поколения русских людей. Всего лишь деталь (закладка) помогает пластично обозначить естественность, органичность существования этой духовной подпитки. Верно замечено А.В. Громовой на примере малой прозы Зурова, что присущая писателю тенденция к лаконизму «увеличивает смысловую нагрузку на отдельные образы и детали, что, в свою очередь, ведёт к их символизации» [6: с. 287]. Данный пример из текста романа Зурова позволяет обнаружить типологическое родство художественного мышления автора с Буниным как автором «Антоновских яблок», с Булгаковым – автором «Белой гвардии». У Бунина связующим времена оказывается почти эфемерный поэтический образ – росчерк гусиного пера на полях дедовских книг с золотыми звёздочками на сафьяновых корешках; у Булгакова это запах таинственного старинного шоколада от лучших на свете шкапов с книгами. Однако у Зурова речь идёт не просто о культурных при81 метах духовной жизни дома, а о значимости именно православной семейной традиции. В этом плане он выглядит «прямым наследником» С.Т. Аксакова как автора «Семейной хроники», К.Н. Леонтьева как автора автобиографических воспоминаний. Примерно в центре романа «Древний путь» находится главка, посвящённая собственно молитве Анастасии Михайловны во время Божественной литургии в храме. В пустом соборе шла Всенощная без молящегося народа. В город должны были вот-вот вступить немцы: «Никогда ещё не был так скорбен вечер. За стенами – опустевший город, сумерки, ожидание врага. Соборная пустота и холод на родной земле <…> Она стояла на коленях перед образом Богоматери <…> Лик Ее был нежен и кроток, к плечу припадал Младенец. Анастасия Михайловна вспомнила, как девушкой выстаивала с покойной матушкой всенощную, как уставала, становилась на колени, начинала сильнее молиться, а церковь тихо пела, прославляя и кланяясь, и в тишине казалось, что нет никого, что все едины, и, как тихое вечернее пение, – свет над главами городских храмов. И меж лесов и озёр, в смолкших по-вечернему погостах, над малыми куполами деревянных церквей – легче зари свет, и небо радостно, а земля по-вечернему мирна и благословенна. На всяк день благословлю Тя И восхвалю имя Твое во веки И в век века… И теперь, глядя на образ, она плакала от горечи сердца и, казалось, в скорби был лик Богородицы, в слезах смуглая щека. И среди снегов, в пустоте зимнего вечера, перед приходом врага – только Она над забытым в снегах чёрным городом, - Ее древний, скорбный лик» [9: с. 96–97]. Трудно переоценить такое поэтическое понимание соборности православной молитвы, так легко и всесильно собиравшей воедино весь круг бытия, когда для молящихся «не было стен», раздвигался мир и в пространстве и во времени, а надо всем царствовал «древний, скорбный» лик Богородицы. Этот мотив великой материнской скорби является одним из доминирующих в романе. 82 Вечные, онтологически значимые субстанции жизни проявляются в произведении и через мир природы. Этот мир дан через восприятие героев романа, и, в первую очередь, - Александра Назимова и гимназиста Серёжи Львова. Так, возвращение с фронта домой по железной дороге привело Назимова к воспоминаниям о приездах домой гимназистом из города на каникулы. Воспоминания окрашены радостной интонацией, преображающей окружающий мир, делающий его таким гармоничным, родным, приветливым: «Гимназистом он подъезжал к этой станции <...> Паровоз редко вздыхал. Восходя по-утреннему столбами, весело розовел его дым, тени ложились на заиндевевшие берёзы, и берёзы синели <...> С поездом уходило всё: и город, и книги. У станции пахло деревней, по-зимнему было очаровательно тихо, он садился в сани… Полозья визжали и легко шли по накатанной дороге. Начиналось белое, чистое, радостное для глаз поле» [9: с. 33]. Восприятию природного мира героями Зурова свойственно ощущение древности и глубинной связи с духовными основами национального бытия. Это ещё один важный семантический оттенок «заглавного» символического образа романа. Вот картина, открывающаяся юному Серёже Львову, который любил тайком от бабушки вылезать на крышу дома: «Река холодна и бела. На крепостных щербатых стенах щёткой стоят замёрзшие травы, а среди стен, белым камнем – святой Никола. В его закруглённой груди темнеют узкие щели окон. Белая шея несёт тяжелобокую, в бледных при месяце звёздах, главу. Молчат и стынут колокола. Всё спит… В церковных парках, в гнёздах, по-древнему не смыкая вполне глаз, спят вороны. Звенит в полыньях тёплая и сильная вода – и идёт подо льдом, согревая каменистое дно, идёт глухими берегами, к Пскову, где на утёсе Детинец охраняет Троицу о пяти куполах» [9: с. 69]. Через одухотворённо-антропоморфические образы храмов, реки, связующие времена и пространства, писатель создаёт неповторимый эффект единства вневременных, вечных и прекрасных субстанциональных начал бытия, воплощающих надёжное охранительное начало, внушающее веру и надежду. Ощущение ис83 торической, духовной глубины реального мира – родовая черта любимых героев Зурова, и не только в этом произведении. Размышляя над соотношением сюжетного и описательного начал в новеллистике Бунина, О.В. Сливицкая верно заметила: «”Выглянуть за пределы” (перифраза из Г. Честертона – В.З.) – в этом вся суть дела. “Выглянуть за пределы”, увести от сюжета, независимо от того, каков он, распахнуть сознание в совсем иное бытие – вот основное назначение всех описательных элементов» [16: с. 106]. Полагаем, в целом это определение вполне соотносимо с функцией описательного у Зурова. В завершающей части романа есть несколько сопряжённых вместе главок, наиболее прозрачно проясняющих концепцию произведения. Здесь оказались переплетены воедино основные мотивы романа. Назимов вынужден оставить родное гнездо, вывезти из него мать и больного отца, чтобы не подвергнуться нападению мужиков. Он вспоминает своё недавнее возвращение с фронта: «Он тогда был замучен, он проехал всю страну от Черного моря, но он верил, что ему после фронта будет даровано счастье» [9: с. 122]. И в первый вечер к нему пришло чувство возвращения «блудного сына», «сменившего вещи фронта на вещи нетронутого, чистого мира, когда он почувствовал, что вот, наконец-то по-настоящему вернулся домой, омылся в домашней бане, которая приобрела для него таинственный смысл какого-то древнего очищения водами, взятыми из родной, протекающей под усадьбой реки, в которой он купался ребёнком. Он шёл, освещая фонарём снег и низкие сучья яблонь, и, хотя ему хотелось скорее прийти домой, поскорее увидеть мать, он остановился в саду, словно тот мягко задержал его своими ветвями, внушая: погоди, не торопись, помедли немного, осмотрись, как здесь хорошо» [9: с. 122–123]. Эта остановка героя в саду понадобилась писателю для многого: именно через образ заснеженного сада он сумел сказать необычайно смыслоёмко и поэтично о многих важных вещах. Вновь позволим себе привести пространную цитату из пока ещё труднодоступного текста романа Зурова: «В саду было тихо, деревья стояли в глубоком снегу, раскрывая небу чудесные, радующие сердце вершины, и 84 он понял тогда какое-то предстояние яблонь – посаженного человеком сада - под небом, почти молитвенное, хвалебное предстояние живых деревьев, ведущих свою непонятную человеку жизнь, таинственно связанных с землёю и небом <…> То, что он чувствовал в раннем детстве, когда у него были чудесные, словно омытые божественной влагой глаза, когда бесконечный радостный мир открывался над садом. И он видел теперь это во всём – в снеге, в тёмной согласованности стоящего в снегах деревенского дома, в котором жила для него человеческая радость, – усадебный срубленный, как изба, дом, теплоту которого он чувствовал после фронта всем сердцем <…> благословение висящих образов, перед которыми многие в роду поверяли и радость и горе; благость несущего хлеб стола, чистоту первозданного неба, прелесть окружающих дом яблонь <…>. Небо было открыто, и в его синеве по-зимнему дрожали деревенские звёзды над яблонями, снегами и домом в необыкновенном сиянии и чистоте, звёзды детства, которые, словно очистившись, теперь снова он благодарно обрёл. Он видел всё таким же чистым, согласованным, как в рождественские вечера в детстве. И в саду он стоял рядом с деревьями и по-детски был, как они, в особом мире деревьев, снегов, в божественной тишине вечернего неба, когда вокруг всё тайно светилось, излучалось, и исходило, сливаясь в едином дыхании, в той совершенной чистоте, за которой возможна только высокая и непостижимая для человеческого слуха музыка. И было отечески простёрто над садом и домом какое-то рождественское и благословенное небо, какая-то древняя обитель всех дышащих душ» [9: с. 123–124]. Трудно переоценить значимость такого мощного каскада образности, которая помогает передать охватившее героя чувство причастности такому огромному миру Божественной благодати, разлитой вокруг, именно согласованности всего, сотворённого Господом, прекрасной, но непостижимой для человека древней одухотворённости Неба в его Отеческой сущности. Полагаем, что в романе Зурова проявились черты художественного сознания, впитавшего важнейшую для начала ХХ в. религиозно-философскую идею созерцания, выраженную в трудах Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, В.Н. Ильина. Герой Зу85 рова наделён способностью к «сердечному созерцанию». Поэтому обогащённо, как в симфоническом произведении, звучит в романе просветлённая мелодия о целесообразности бытия, несмотря на трагические последствия отступления социума от Божественной согласованности мира. Онтологический масштаб изображаемого оказывается безмерен. Историческая ретроспектива зачерпывается Зуровым тоже в поражающих временных координатах. Именно умение соотносить изображаемое с такой надмирной высотой и исторической глубиной определяет онтологичность итоговых картин произведения. Ночь в яблоневом саду привела Назимова и к такого рода мировосприятию: «Ночь затихала. Всё очищалось, стала видна луна, и он думал, как леденеет голый Петербург, присоединённый к деревянным городам на равнине. И в прелести очищающейся светом месяца ночи жило мистическое ощущение конца какой-то долгой эпохи <…> Всё беспредельно, открыто и беспощадно. Снова голой и необогатившейся лежала земля <…> Нарубленные в лесу бревна валяются на освещённой месяцем деревенской улице, и из них нечего строить. Тысяча лет твоего исторического существования. По-прежнему всё несложно и бедно на этой земле» [9: с. 126]. Позитивистские представления о жизни для героя Зурова оказались недейственными. В его душу проникает удивительное чувство: одновременно всепрощающее и недоумевающее перед встающей в его сознании чередой жестоких событий различных эпох. «Он думал о тех, которые были за ним, имён которых он не знал, но в нём были их кровь, суеверия, вера; он думал о тех, чьи тела давно уже стали землёй… Что перенесли они на этом холме? И набеги Литвы, и голод, и моровые болезни, после которых зарастали дворы и на брошенных пашнях всходили принесённые ветром лесные посевы… Глушь, бедность, полевая страна с чёрными деревнями, по ночам – переданный по наследству суеверный страх, и где-то далеко чёрная полевая Москва со страшными недрами кремлёвских соборов. Всегда было страшно жить на этой земле» [9: с. 128]. В эту череду исторических бедствий оказалась вплетена и судьба его родного дома: «И скоро усадебное место будет чернеть под снегом, и пожар увидят глаза 86 крестьян, вышедших из изб женщин, и дети на всю жизнь запомнят, как горело, освобождая место, назимовское гнездо» [9: с. 128]. Чуть далее читаем: «Ему казалось, что за эти годы он потерял всё, что должен был в свой срок получить – и любовь, и радость…» [9: с. 129]. И – как конечный итог его размышлений - вопрос: «За что, - думал он, - за какие грехи? Какое страшное за нами наследство?» [9: с. 129]. Ответа на этот вопрос в романе, конечно, нет – и не могло быть. Завершает роман главка, посвящённая Страстной неделе. На первый взгляд, это не похоже на завершение. Перед нами как будто бы одна из многочисленных фрагментарных главок. С некоей протокольной точностью Серёжа Львов передаёт свои внешние впечатления от Страстной Субботы, – впечатления, привычные для него в связи с церковным календарём. Так, он замечает: «Шла Страстная, в церквах звонили в глухие колокола. В начале Страстной Серёжа говел, а к концу недели пророс посаженный на блюде овёс, и в доме запахло шафраном и ванилью» [9: с. 140]. В этой простоте Серёжиного восприятия заключена предвосхищаемая пасхальная радость, на которую откликается весь мир: «На Страстной Великая очистилась. Уже было солнечно и мягко, широко и полно несла песочные воды река. Просыхала набережная, в солнце стояли голые и радостные тополя. Вечером звонили в церквах и, по-новому отражаясь в водах, благословлял вскрывшуюся реку монастырь» [9: с. 140]. Но квинтэссенция всего скрыта в подтексте последних абзацев произведения: «Пустовала площадь. Ступени собора были посыпаны нарубленной еловой хвоей. В притворе стояли нищие, а посреди храма в тишине и сумерках – Плащаница. Убранная белыми гиацинтами, она свешивала малинового бархата шитые золотыми буквами и крыльями края. В церкви Серёжа увидел Назимова. Он был в солдатской шинели, очень прям, очень худ. Перекрестившись, он подошёл к Плащанице. За ним поднялся Серёжа и поцеловал холодное серебро Евангелия и смуглое Тело меж белых цветов» [9: с. 140]. 87 Зуров проявил поразительную духовную чуткость: сумел художественноутончённо выразить важнейшие Евангельские Истины. Речь идёт о том, что роман начинается словами: «Тело убитого солдатами ротмистра Николаева привезли утром на санитарной двуколке…» [9: с. 5]. И далее – строгая и скорбная сцена похорон. Как видим, в завершающих строках произведения – то же СЛОВО, но уже в его таинственной Божественной сущности. Так в композиции мощно замыкается семантическое кольцо, рождающее аллюзию на великие таинства Евхаристии. «Древний путь», таким образом, становится не только путём скорбей, но и путём общей Пасхальной радости: «…от деревенского берега шла ладья с богомольцами к Плащанице» [9: с. 140]. Только через сопричастность человека к Таинствам Господним, к Сыну Божьему возможно обретение надежды на преображение бытия, - утверждает писатель. Таков сдержанный, строгий и радостный финал этого необычного произведения. Христианская основа субстанционального конфликта здесь снимает с него безысходность абсолютной неразрешимости, раскрывая возможности приобщения к Вечности. Проблемы онтологической поэтики всё более становятся объектом осмысления в современном литературоведении. Справедливо утверждение, что традиция может осознаваться в качестве «сакрального ядра, продуцирующего и инициирующего источника жизнетворческой и интеллектуальной энергии, которая определяет стабильность духовного космоса, организует его на всей временной оси и проявляется в онтологической поэтике, которая способна выявить и воплотить истинную суть бытия» [11: s. 107] (курсив автора – В.З.). Полагаем, внимание к этой сфере анализа русской художественной литературы – один из методологически продуктивных путей исследования. 88 Сюжетообразующая роль лирического начала в романе Л.Ф. Зурова «Поле» Г.П. Струве писал о Зурове: «…верный ученик Бунина, наиболее родственный ему писатель» [17: с. 204]. И хотя признанная в эмиграции родственность художественного сознания двух писателей оспаривается современными литературоведами, её нельзя однозначно отрицать. Эта родственность проявлялась во многом, но главное, что составляло сердцевину художественного дара обоих художников – это опора прежде всего на эмоциональное восприятие жизни. В поэтике прозы Зурова обнаруживается так свойственная Бунину лирическая доминанта, обусловливающая собой неповторимую самобытность художественного мышления писателя. Зуров, следуя бунинским принципам эстетического диалога с миром, продолжал в 20-е – 30-е годы ХХ века начатое Буниным в начале столетия обновление прозаического письма. Во многом это касалось новых принципов организации сюжета, когда благодаря ведущей роли лирического начала рождалась проза нового типа, получившая, как упоминалось нами выше, название «неореалистической». «Неореализм» как порождение художественного сознания эпохи Серебряного века являл собой в каждом отдельном случае синтез реалистических, символических, импрессионистических, мифопоэтических и других тенденций. В жанровых образованиях нового типа нередко на первый план выступало лирическое начало (что особенно свойственно прозе Бунина, Б.К. Зайцева, И.С. Шмелева, С.Н. Сергеева-Ценского). При этом речь идёт о принципиальной художественной новизне, ибо эта проза мало соответствовала традиционно понимаемым жанровым канонам лиро-эпики, включающей в себя «так называемую лирическую прозу (как правило, автобиографическую), произведения, где к повествованию о событиях “подключены” лирические отступления» [18: с. 316]. Лиризм стал «родовым» качеством прозаического мышления этих писателей. «Я, вероятно, всё-таки рождён стихотворцем. Для меня главное – это найти звук», - признавался Бунин [Цит по: 13: с. 71]. Верно замечено, что «лирическая новизна прозы Б. Зайцева <…> явлена в каждой его вещи в целом и в каждой её частице», она – в способности автора задать «всем фразам завораживающую музыкаль89 ность, влекущие ритмы, которыми сотворяется гармония всего, им сочиненного <…> Зайцев знает, так работают поэты, так творили его любимцы Данте и Пушкин» [15: с. 30]. Лиризм становится в их произведениях главным сюжетообразующим фактором. Новаторством именно такого рода отличается и проза Зурова. Известный исследователь поэзии А.С. Пушкина В.А. Грехнев, размышляя о лирическом сюжете как явлении индивидуального стиля, справедливо указывал, что «всякий раз, когда речь идёт о сюжете, теория всё ещё невольно оглядывается на законы эпоса» [5: с. 162]. Следуя подобной логике, писал учёный, - оказывается, что бессюжетный роман и бессюжетная драма - немыслимы, бессюжетная лирика - явление обычное; и, блестяще опровергая такие представления, В.А. Грехнев предложил оригинальный путь осмысления лирического сюжета, устанавливая, что «внеродовой основой сюжета, предельно общей, но потому устойчивой, является скорее всего его эстетически концептуальная роль в отношении к событию и действию» [5: с. 163] (курсив мой - В.З.). Эта «формула» представляется методологически продуктивной для постижения жанровой природы неореалистической прозы с так называемым «ослабленным сюжетом». Полагаем, собственно понятие «ослабленного сюжета», заключающее в себе отрицательную оценочность, нуждается в переосмыслении, ибо термин этот тоже возник именно в связи с инерцией «эпичности» в теоретическом мышлении. Здесь же речь идёт об иных законах, иных принципах сюжетосложения в прозе, доступных ранее лишь лирике. Главную роль играет «энергия лирического переживания», способная, как доказывает В.А. Грехнев, «прочно спаять все предметнособытийные детали лирической ситуации в единое целое» [5: с. 164]. Уже ранние произведения Зурова свидетельствовали об устремленности к подобному художественному мышлению, о чем шла речь выше - применительно к повести «Кадет». В дальнейшем творчестве Зурова сюжетообразующая роль лирического начала усиливается. Прозаические жанры под его пером приобретают новый облик, свойственный неореалистическому типу художественного сознания с его синтезированной природой. Это в полной мере можно отнести к роману «Поле» 90 (1938). Критика высоко оценила его эстетическую самобытность [см: 1; 4; 12; 14]. «”Всё живёт в тайном, округлом движении” - это один из мотивов, составляющих основу зуровской прозы, - писал в своей рецензии Н.Е. Андреев. - Отсюда его эмоции, отсюда и построение его удивительных периодов, описаний, сливающихся с некоей песенной стихией, отзывающейся ладом древнего “Слова о погибели Русской земли”, перекликающейся с русской летописью, а живой, сильный, выразительный народный говор в его произведениях сливается с тонкостью ассоциаций, которыми особенно полна великолепная его книга “Поле”» [3: с. 5]. Этому роману настолько присуща всё обнимающая собой стихия лиризма, что для определения своеобразия его, на наш взгляд, более всего подходит сказанное В.А. Грехневым о лирическом сюжете как обладающем особого рода цельностью, которая обусловлена энергией лирического переживания, а не цельностью эпического порядка, зависящей от связи элементов событийного ряда. Пожалуй, даже точнее было бы говорить не о «лирической стихии», а о «лирическом космосе» Леонида Зурова, ибо речь идёт о гармонически организованном пространстве произведения. Роман «Поле», как и повесть «Кадет», посвящён драматическим годам российского лихолетья: Первой мировой войны, революции, гражданской войны. Здесь, по сравнению с первой книгой, отчётливо видна установка на импрессионистически-фрагментарное изображение событий. Управляет движением сюжета динамика субъективной эмоции «лирического героя». Она имеет по преимуществу характер медитативный, сплавляющий в восприятии героя воедино самые разнообразные внешние впечатления. На первый план выходит образ Серёжи Львова, который может «подняться» над этими впечатлениями, чтобы прочувствовать тайные ритмы всеобщего бытия, глубинно-исторические, природные, социальные. Зуров подчёркивает присущую герою пытливую созерцательность: «Он хотел понять эту жизнь <…> Он смотрел» [10: с. 44, 45]. Очевидно, что автору была важна именно способность подростка, почти ещё ребенка, увидеть мир, несмотря ни на что, цельным и Божественно-прекрасным. 91 Уже на первой странице романа дана замечательная в своей проникновенносозерцательной символике картина через восприятие Серёжи: «Стояли вечера таинственного рождения, когда покрытые пушком хрущи выходили из тёплой земли, прорезая её, как острые травы, а потом раскрывали влажные крылья, и совершалось чудесное человеческих снов – они летели, стоя, как ангелы, вверх, на золотистую зарю над вершинами яблонь, на клёны и распустившиеся у реки тополя» [10: с. 7]. И чуть ниже: «В этот вечер Серёжа Львов долго стоял над рекой. Было время, когда в особой чистоте живёт молодая листва, воды ровны, тепло, мягки и округлы вершины заречного парка, к вечеру всё меняет свои очертания, всё становится легче, таинственнее и полнее» [10: c. 7]. Визуальная картина мира здесь, как и всегда у Зурова, имеет глубокий онтологический смысл, сквозь неё прозреваются сущностные основы бытия. Для мальчика это прежде всего интуитивное чувство неслучайности таинственной преображающей динамики природного мира. Но насыщенный ассоциативной символикой подтекст позволяет обнаружить стремление писателя утвердить на первых страницах своего скорбного произведения представление о высшей гармонии природного мироустройства. Мотивы чистоты, тишины, округлости, устремлённости к озарённому небу делают эту страничку интродукцией, заключающей в себе идеальные начала жизни, которые в вечности своей противостоят безжалостному разрушению в войнах и социальных катаклизмах. Динамика «лирического сюжета» романа определяется напряжённостью процесса познания героем окружающего мира в его непостижимых при поверхностном восприятии константах. По сути, перед нами своеобразный лирикофилософский роман с опорой героя на интуитивное постижение жизни. Много значит для Зурова устремлённость к познанию глубинных взаимосвязей человека с природой, которые, казалось, помогут понять законы собственно человеческого бытия. Так, Серёжа Львов замечает: «Озеро всей поверхностью принимало солнце... А что происходило там, на глубине этих вод, связанных с небом, течениями, водами мира? Там подземные били ключи, распустив нежнейшие плавники, рыбы 92 ходили стадами; в виноградную глубину, распыляясь, но не доходя до дна, падало солнце, а дно было тайным, какой-то сокровищницей мира была его сокровенная глубина, живая тьма, в которой тысячелетиями сменялись и росли рыбьи семьи» [10: с. 43]. Наблюдая эту природную жизнь, в которой шла своя война, мальчик размышляет: «<…> и в этом было вечное, радостное и жестокое, что сияло вот и сейчас в деревенских избах, в криках плывущих детей, в цвете соломенных крыш, в цвете деревенской дороги, на которой босая и грязная девочка, сгребая пыль, строила дом, - как и то тёплое, родственное через века, связанное путём, кровью и очагами, перенесшее всё и после дорог открывшее огонь у воды на песчаном обрыве. Та жизнь была здесь, как и огненное наследство, от которого тепла печь в избе Емельяна» [10: с. 44]. Природные образы в движении лирического сюжета у Зурова осмыслены поэтически самобытно: солнце, поле, небо, водная гладь воспринимаются как одухотворенные сущности, играющие свою неслучайную роль во всеединстве мировой жизни. «Открывалась великая даль. Он стоял на точке, которую утром отметил, над озером, на высоком берегу, у курганов. Он смотрел отсюда, как победитель, пятнадцатилетний, с разбитыми ветром светлыми волосами, ученик пятого класса, Серёжа Львов, которому завтра надо было отвечать на третьем уроке по алгебре. Он был утомлён обилием солнца и вод, обилием весенних, радостных сил. У него легко после купания и гребли кружилась голова, и ему казалось, что от блеска вод у него загорели глаза, и мир казался не тем, всё в мире казалось смещённым. Времени не было, временем стало солнце, а оно светлело, поднимаясь сильней, и к полудню радужный, наполненный полётом и ветром круг достиг своего полного блеска - озеро начинало сиять, в горячем дыхании вод и земли отлетали, растворяясь, далёкие берега, унося с собой бесплотно сгорающие вершины истомлённого бора. Всё жило, всё излучалось в дрожащем колебании текущих вверх струй, общем дыхании великой земли, и не было в мире ничего законченного, всё переходило, менялось, и даже большие камни жили у вод, радостно темнея, когда их заливало водою» [10: с. 43]. 93 Такой текст невозможно квалифицировать как пейзажную зарисовку в её традиционных представлениях. Визуальная картина, открытая взору героя Зурова, преображена яркой лирической эмоцией, в данном случае - радостнопобедительной, юношески восторженной - от восприятия бытия в его гармонической цельности: «Утро казалось особенно полным, солнцем опалило лицо, всё сливалось в единый, радужный круг, в котором жило озёрное дно и облака над вершинами бора» [10: с. 40]. Много значит для героя романа и чувство «родственного через века»: ощущение исторической глубины у него развито необычайно, и именно оно ведёт его по пути интуитивно-эмоционального познания своей страны, её скорбей и печалей. Так, описывая сцену воинского набора на фронт Первой мировой, автор замечает: «Тревога тех дней наполняла солнечный город. Была тревога в небе под солнцем; взволнованно стучало, начиная с утра сердце, - шёл набор, перед воинским присутствием татарским станом стояли кони, телеги, бабы плакали, глядели на двери» [10: с. 12]. Подобно Бунину, Зуров стремится осмыслить трагическое в огромных временных координатах, эмоционально постигая неизбежную повторяемость горязлосчастия в жизни своего народа и не переводя свои раздумья в план узкосоциальный: «Какие древние раскрываются под солнцем могилы, рождаются из давних глубин погребальные под солнцем холмы - страшное наследие, говорящее не об этих местах - голос степи, идольские места, распущенные в горе волосы, кровь ногтями разодранных лиц...» [10: с. 11]. Трагедия войны - войны как таковой, вне зависимости от её статуса, от эпохи – в интуитивно-чувственном восприятии Зурова дана прежде всего через одно из самых сущностных начал бытия через материнское страдание. Особенно сильно звучит у писателя здесь мотив соотнесённости людских страданий с великими библейскими образами. Представляя себе крестьянку, проводившую на войну сына, автор пишет: «Слёзы обжигают глаза, жгут щеки, и, снова сгибаясь, она жнёт, вяжет снопы, кладёт их на жнивьё, знойный ветер су- 94 шит тёмное немолодое лицо, и в солнце, в отягчённых хлебах женское лицо скорбно, как лик провожавшей Сына на смерть Богородицы» [10: с. 118]. Движение лирической эмоции, «руководящей» динамикой сюжета в этом произведении, идёт, несмотря на композиционную фрагментарность, очень плавно и закруглённо. Это объясняется, конечно же, авторской концепцией мироустройства, которая у Зурова носила отчетливо христианский характер и выражалась медитативно-лирически. Будучи свидетелем всеобщей людской боли, герой Зурова замечает: «Жила надежда лишь в западном небе, в бесплотной чистоте которого светился закат, в котором жило что-то от возведения храма, предстояния, воздетых рук, где в склонении облаков жило страдание» [10: с. 118]. Страдание и надежда, горе и радость - эти извечные антиномии бытия удивительно цельно сосуществуют в художественном космосе Зурова, плавно скреплённые лирической эмоцией. Победительное начало любви к прекрасному миру и спокойное приятие мысли о непостижимости для человека вечно присутствующей в мире тайны бытия сообщает роману его основную эмоциональную доминанту - чувство гармонической умиротворенности, несмотря на трагедийную насыщенность событийного ряда. Своеобразной лирической квинтэссенцией произведения можно считать такой, к примеру, пассаж, относящийся к восприятию юным героем ночной красоты мироздания: «Господи, как хорошо, как величественно молчат Твои воды, в какой первоначальной чистоте живёт над водою заря! И спят люди, плотно закрывшись, ушли под воду белые лилии, выпадают росы на благо деревьям, земле. И это ночное омовение трав и лесов, очищающихся в светлой заре, - разве оно не чудесно в нём то, чего никогда не понять... Господи, как хорошо!.. И сердце было родственным небу, водам, всему живущему и живому» [10: с. 98–99]. Как произведение, посвящённое онтологическим проблемам, «Поле» Зурова это роман с открытым финалом. Спираль познания для его героев продолжает «раскручиваться». На последних страницах романа поэтически выражена мечта героя о жизни своей «счастливой страны, где теперь у народа будет достаточно хлеба, где снова после тяжёлой войны люди радостно будут выходить на поле и 95 благодарить Бога за радость и счастье жить на этой земле под белыми облаками...» [10: с. 137]. Итак, проведённый анализ, как нам представляется, убеждает: жанровая новизна прозы Зурова в первую очередь была связана с лирической доминантой, игравшей главную сюжетообразующую роль. Благодаря этому качеству удалось достичь большого художественного эффекта лироэпической цельности, - что свидетельствовало о тяготении писателя к принципам неореалистического художественного сознания с его синтезом. Неореализм Зурова обозначенным аспектом изучения не исчерпывается, осмысление этой проблемы во всей возможной её полноте - задача будущих исследований. Примечания 1. Адамович Г.В. Л.Зуров. «Поле» [Рец.] // Последние новости. – 1938. – 24 марта. – С. 3. 2. Алпатова Т.А. Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Взаимодействие прозы и поэзии: Учебное пособие / Т.А. Алпатова. – М.: МПУ, 1993. – 91 с. 3. Андреев Н. Вместо предисловия. Из статьи «Леонид Зуров» / Н. Андреев // Зуров Л. Поле: Роман. – Париж: Посев, 1939; 1983. – С. 5. 4. Варшавский В. Л. Зуров. Поле. [Рец.] / В. Варшавский // Современные записки. – Париж, 1938. –№ 66. – С. 453–454. 5. Грехнев В.А. Мир пушкинской лирики / В.А. Грехнев. – Н.Новгород: Нижний Новгород, 1994. – 464 с. 6. Громова А.В. Поэтика малой прозы Л.Ф. Зурова: (Сборник «Марьянка») / А.В. Громова // Пушкинские чтения–2007. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007. – С. 281–288. 7. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности / И.А. Есаулов. – М.: КРУГЪ, 2004. – 559 с. 8. Золотусский И. Заметки о двух романах Булгакова / И. Золотусский // Литературная учеба. – 1991. – № 2. – С. 147–165. 96 9. Зуров Л. Древний путь / Л. Зуров. – 2-е изд. – Франкфурт: Посев, 1985. – 150 с. 10. Зуров Л. Поле / Л. Зуров. – Репринт. изд. Париж, б. и., 1939. Франкфурт: Посев, 1983. – 150 с. 11. Кузьмина С. Русская литературная традиция и онтологическая поэтика в системе реализма и модернизма / С. Кузьмина // Problemy wspolczesnej komparatyvistyki. – T. 2. – Poznan’: UAM, 2004. 12. Мандельштам Ю. Л. Зуров. Поле [Рец.] / Ю. Мандельштам // Круг. Альманах. – Кн. 3. – Париж: Дом книги, 1938. – С. 176–180. 13. Михайлов О.Н. Страницы русского реализма: (Заметки о русской литературе ХХ в.) / О.Н. Михайлов. – М.: Современник, 1982. – 288 с. 14. Пильский П. Женское сердце. Л. Зуров. Поле [Рец.] / П. Пильский // Сегодня. – 1938. – № 82. 15. Прокопов Т.Ф. Лиризм Б.К. Зайцева как эстетический феномен / Т.Ф. Прокопов // Проблемы изучения жизни и творчества Б.К. Зайцева. Вып. 2. – Калуга: Гриф, 2000. – С. 24–33. 16. Сливицкая О.В. Сюжетное и описательное в новеллистике И.А. Бунина / О.В. Сливицкая // Русская литература. – 1999. – № 1. – С. 89–110. 17. Струве Г.П. Русская литература в изгнании / Г.П. Струве. – 3-е изд., испр. и доп. – Париж; М.: YMCA-Press; Русский путь, 1996. – 448 с. 18. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник / В.Е. Хализев. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 398 с. 97 Глава 5. ПОЭТИКА НЕЗАВЕРШЁННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Ф. ЗУРОВА Фрагмент неоконченного произведения как часть метатекста автора (на примере романа «Зимний дворец») Проблема изучения неоконченного произведения всегда привлекала внимание исследователей, размышлявших о различных редакциях известных произведений, о публикациях отрывками и о собственно неоконченных текстах (об этом в литературоведении неоднократно шла речь, к примеру, в связи с творчеством А.С. Пушкина, А. Белого, М.А. Булгакова, А.А. Ахматовой и др.) Здесь речь пойдет о статусе фрагмента неоконченного произведения в контексте творчества Зурова, такой фрагмент будет рассмотрен как органическая часть авторского метатекста. Творческое наследие Зурова включает в себя произведения разных жанров – рассказы, повести, романы – объединённые его художественным мировидением, типологически родственным неореализму с его многогранным синтезом. Уже отмечалась и обусловленность самобытности творческого мышления Зурова лирической доминантой поэтики его произведений. Лиризм, по нашему убеждению, явился не только скрепляющим началом, тонко, но прочно связывающим в единое концептуальное целое фрагментарно построенные романы Зурова («Древний путь», «Поле»). Характер лирической эмоции у писателя таков, что именно она выводит повествование на онтологический уровень постижения бытия. У Зурова остался неоконченным роман «Зимний дворец», посвящённый событиям революции и гражданской войны. Несколько отрывков из него были опубликованы автором. В первом из них, под названием «Петрополис», напечатанном в июле 1945 г., описываемое даётся через восприятие героя – офицера Лосева, приехавшего ненадолго в Петроград с фронтов Первой мировой войны. В лирико-философской прозе Зурова упор делается на интуитивное осмысление происходящего. Его героям во многом помогают субстанциональные жизненные начала – природные, глубинно-исторические – которые они способны 98 глубоко и проникновенно осмыслять. В анализируемом отрывке такую роль играет образ города, данный сквозь призму восприятия героя. Это – город, отчуждённый от человека, переставший быть ему защитой, более того, переставший быть столицей, защитой целому государству, - город, ощущавший свою трагическую обреченность: «Бесприютно и странно становилось человеку на пустых площадях, увеличенных туманом, и хотелось скорее их перейти, словно на площади, на открытой неизвестным взорам поляне, человеку угрожала опасность» [7: с. 22]. Но в то же время с образом города связаны и обнадеживающие чувства: это происходит в ночи, которая для героя также является субстанциональным началом, воплощающим знакомые по романам Зурова мотивы непостижимой космической взаимосвязи всего живого: «Трагическая обречённость владела городом. Столицей он уже не был – не было ни столицы, ни прежней России – старая жизнь продолжалась, но всё, всё летело туда, в какую-то ночь детских снов… и ночь была неоглядна, ирреальна, но реальнее, чем днём: ночью было что-то от вечности, божественной, творческой <…> и хотя на улицах грабили, раздевали, ночью город погружался во тьму. И тут, под осень, была свобода ветру, бандитам <…> Но всё же, во время остановки на набережной, крепко запахнувшись от невского ветра, поднимая воротник, человек, посмотрев на него неожиданно, первый раз в жизни задумался, словно от ветра, от свободы, широко разлитой кругом, морской свежести, от раскинувшегося в темноте водного простора, который с ветром жил в темноте; от света бесчисленных звезд, и у него, как у отвыкшего от воздуха, пьянело сердце, кружилась бедная голова, и он чувствовал, что <…> всё таинственно изменилось, изменился и он сам, и об этом изменении, как о любви и о смерти, ни передать, ни рассказать, – можно чувствовать только, что то, что совершалось теперь с ним и со всеми, – торжественно, страшно, как в ночном нечеловеческом хорале, в чем участвуют боги и звери, и он сам бог и зверь <…> Всё казалось легко в этой ночи, и величайшие возможности были открыты человеческому сердцу» [7: c. 23]. 99 В этом же фрагменте встречаем образ, являющийся аллюзией на название одного из романов автора: «Осень, псковская, пушкинская осень опускалась над усталой от войны русской равниной. Кончался отлёт <…> Славянское сердце щемило! От того ли, что исторически скрыто от нас, или это память о днях, когда, кончив сбор изобилья, предки наряжали и везли последний сноп, память ли над реками о птичьем отлёте, когда всё реже и реже заливало поля всесветлое славянское солнце. Или память о далёких народных путях, давних путях родной крови, ушедшей на север вверх, по птичьему перелётному пути, по водам, по Дону ли, по Днепру, от тёплых вод Чёрного моря <…> Ну как же тебя не любить, родная земля, за которую пролиты обильные крови! Как же жить без тебя?» [7: с. 23]. Этот образ - «древний путь», являющийся у Зурова метафорой глубинноисторического, сурового пути своей родины, – всегда непостижимо драматического. Есть в цитируемом фрагменте и свойственное писателю, несмотря на такое смиренномудрое, всепрощающее приятие этой общей национальной судьбы (а, может быть, и благодаря этому), выражение светлой надежды через столь любимый им образ неба, всегда выражающий в его произведениях некое прекрасное, целесообразное, объединяющее начало всеобщего бытия: «А по вечерам, когда прояснялось, когда разливался закат над Невой, отходящим императорским Петроградом, над спутанной и сложной человеческой жизнью, над городом европейских принесённых отовсюду стилей, храмов, дворцов; когда разливался закат над Невой <…> над Ладожским озером, принимающим в себя новгородские реки, изливающиеся в море Невой, – и было видно, что Нева соединена вечно с небом, залита северным осенним закатом, небом, раскинувшимся светло и печально над устающим к вечеру городом» [7: с. 23]. Ю. Мандельштам, высоко ценивший художественные достижения Зуровароманиста, выделил среди доминант его стиля «непрерывную авторскую напряжённость, глубокий душевный трепет, доходящий порой до неподдельного пафоса» [9: с. 179]. «Фраза его, - замечал критик, - богатая образно и ритмически, полностью подчинена этому напряжению, но одновременно упорными повторениями 100 внедряет в наше сознание, наподобие заклинания, некий трагический лейтмотив» [9: с. 179]. Анализируемые отрывки позволяют увидеть в них дальнейшее устремление писателя по пути такого рода художественного письма. Второй фрагмент из романа «Зимний дворец», опубликованный в ноябре 1945 г., был назван автором «Дорога». Вновь писатель апеллирует к одному из важнейших культурных топосов. Здесь это дорога из Петрограда – на фронт, от мира – к войне. В размышлениях Лосева - узнаваемая по другим произведениям Зурова интонация, хотя, пожалуй, более экспрессивно выраженная: интонация боли недоумения перед свершающимся распадом всей жизни страны: «Трудно было охватить всё рассудком, но теперь то, что ещё вчера казалось важным, пред тем, что открылось, казалось маленьким и ничтожным <…> Тут, в начинающихся событиях, в тылу, чувствовалось дыхание возбуждённого, сдвинутого с налаженной жизни народа. В том, что свершалось, разуму не было места <…> Рушилось, медленно сгорало, старело, превращалось в пыль всё, что с таким трудом возводилось в течение столетий…» [5: с. 10–11]. В эмигрантской критике онтологический характер эмоциональных пассажей Зурова не остался незамеченным. «В произведениях Зурова, - писал С. Жаба, - чудесный, своеобразный язык, всепроникающее чувство жизни, безошибочное чувство вечной России со всей её горькой и знаменательной судьбой» [3: с. 522]. Ностальгически-проникновенно звучит здесь мотив утерянного рая, каким представлялась писателю мирная российская жизнь с вековыми национальными устоями: «О, русская жизнь, застойная и привлекательная, не нарушавшаяся никем до тех пор – яблоневые сады, немощёные улицы, скамейки, по вечерам перед домами народ, церковная древность, которая за века не обветшала, любовный воздух, - вырвавшаяся на волю молодость, желающая полной грудью дышать» [5: с. 11]. Н.А. Бердяев очень точно заметил, рассуждая о феномене свободы творчества: «Всегда нужно помнить, что наиболее индивидуально-личное есть вместе с тем наиболее универсально-всеобщее <…> Творческая свобода всегда устремлена 101 к созданию новой жизни, к новым ценностям. Они никогда не оставляют человека в его маленьком мире. Они обращают его к большому миру» [2: с. 4]. Полагаем, это очень соотносимо с феноменом зуровской прозы. Подводя итоги, заметим следующее. Несомненно, фрагменты неоконченного романа Зурова «Зимний дворец» позволяют обнаружить в них черты индивидуально-авторского художественного сознания, присущие писателю и ярко выразившиеся в его романах. Так, в лирико-философской прозе Зурова, отличающейся композиционной фрагментарностью, именно лирическая эмоция стала не только стилеобразующим, но и сюжетообразующим фактором. Во многом это объяснялось самим характером этой эмоции, а именно – её онтологичностью, интуитивно-проникновенной глубиной, вскрывающей сущностные пласты национального самосознания. Вновь подчеркнём: это роднит творчество Зурова с неореалистическими открытиями русской прозы ХХ века, связанными с именами таких художников, как И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев и др. Онтологические аспекты жанровой поэтики Л.Ф. Зурова (повесть «Иван-да-марья») В творческом наследии Зурова помимо неопубликованного романа «Зимний дворец» есть ещё одно неоконченное произведение – повесть «Иван-да-марья». Над ней писатель работал долгие годы, начиная примерно с 1956 г. и до конца своей жизни. Рукопись повести хранится в Русском архиве при Лидсском университете в Великобритании, она была реконструирована и опубликована профессором Таллиннского университета И.З. Белобровцевой [6]. Незавершённость произведения можно объяснить биографическими факторами, в том числе болезнью писателя в последние годы жизни. Однако в целом можно согласиться с публикатором этого произведения на родине, что «повесть, по сути, закончена, она вписывается в определённые рамки: известно, её начало, написанное в нескольких незначительно меняющихся вариантах, известен и конец, который был для писателя настолько несомненным, что не менялся ни разу. 102 Неизменной оставалась расстановка героев, повествователь <…> Но вот над наполнением этого обрамления шла непрестанная работа» [1: с. 59]. Эта замечательная вещь давно должна найти своего благодарного читателя, должна получить полновесное научное освещение. Целью настоящего небольшого исследования является стремление доказать онтологическую насыщенность поэтики зуровской повести, делающую её отнюдь не заурядным произведением скромного жанра, а книгой, способной вести диалог c читателем в масштабе «большого времени» (М.М. Бахтин). Во многом повесть, конечно же, содержит черты неореалистического художественного сознания Зурова-прозаика, свойственные всему метатексту автора, и, прежде всего, его повести «Кадет» и романам «Древний путь» и «Поле» [4]. Но вместе с тем являет и новые качества прозы писателя. Как и эти произведения, она посвящена событиям российского лихолетья начала ХХ века, в данном случае – Первой мировой войны. Однако впервые перед нами у Зурова – повесть о любви. Как пишет И.З. Белобровцева, «о великой любви <…> Любовь зуровских героев вспыхивает, как новая звезда, и трагически гаснет, но, подобно свету звезды, доходит до нас спустя многие десятилетия. Мы смотрим на неё глазами повествователя, четырнадцатилетнего подростка – кто ещё мог бы так трепетно и с таким самоотречением принять чувства старшего брата и девушки, которую толькотолько успел полюбить сам первой горячечной и целомудренной любовью. Впрочем, повествователь тоже занимается реконструкцией: он, уже давно взрослый седой человек, вспоминает эту историю любви как самое яркое, самое значительное событие своей жизни» [1: с. 59]. Как видно из приведённой цитаты, И.З. Белобровцева указала и на своеобразие построения повести, которому присуща свойственная чаще всего автобиографическим произведениям композиция типа «рассказ в рассказе», с авторскими «поправками» с высоты своего жизненного опыта. Полагаем, художественный магнетизм повести не в последнюю очередь связан с неповторимым чувством дистанции относительно описываемых событий. У Зурова это чувство передается зачастую по-бунински: то с центробежным, то с 103 центростремительным эффектом, что в итоге и создает у читателя представление о временной относительности, о принадлежности описываемых событий вечности. Эти события связаны для повествователя не только с «историей любви»: она вписана Зуровым в прекрасную панораму «русского мiра», столь дорогого сердцу автора. В первой части повести речь идёт о последнем мирном годе России перед Первой мировой войной. Центростремительный эффект повествования заключается в чувственно наполненном, импрессионистически-колоритном изобразительном строе, максимально приближающем изображаемое прошлое к читателю, а центробежный – в последних словах фрагментов воспоминаний, уже принадлежащих не воссоздаваемой «сиюминутности», а – отдалённому будущему, в котором это ушедшее прошлое живёт вечно. Вот один из примеров. Это прогулка молодых людей за городом после приезда в отпуск из армии Ивана (старшего брата Феди, автобиографического героярассказчика): «<…> а потом брат повёл нас по мягкой, пыльной дороге, и после бора всё полно было светом. День был просто удивительный по обилию солнца и света. Это тепло, исходящее от земли, и дуновение ветерка, и солнце сильное, и золотистый цвет спелой ржи, и свет облаков – вот всё, что и сейчас, как течение наших рек, таинственно живёт в моей благодарной памяти и крови, ибо и кровь мою воспитывала наша земля и речное течение. Вот за что всегда сердце моё благодарит родную землю в самые тяжёлые дни» [6: № 8, с. 98]. Или: «Он (брат – В.З.) нас так вёл и узнавал: да, ничего тут не изменилось. Я не видел ни у кого таких глаз – светлых, ещё более просветлевших от летнего загара и как бы принявших в себя за день много полевого простора и солнца. Таким его и запомнил» [6: № 8, с. 98]. Как и в других произведениях Зурова, в повести «Иван-да-марья» лирическое начало играет сюжетообразующую роль, кроме того, оно несёт онтологическую нагрузку – и прежде всего благодаря его пропитанности чувством древности и сакральности русской жизни. Примеров, подтверждающих эту мысль, можно найти в тексте немало. Так, рассказывая Кире об их городе, Федя не забывает сказать: 104 «А город наш раскинулся при соединении рек и в языческие времена был священным, потому что здесь была священная дубовая роща, а наша река была одним из малых водных янтарных путей из варяг в греки <…> Ольга с того берега увидела на холме со священным дубом падающие с небес три солнечных луча, и вот куда лучи упали, там был построен собор Святой Троицы, и с тех пор Троицкими стали и все наши воды» [6: № 8, с. 29]. Отличительной чертой поэтики этой повести стало обогащающее образный строй произведения сильное мифопоэтическое, фольклорно-легендарное начало. Пожалуй, его можно считать доминантным в неореалистическом синтезе этого произведения. (О значении купальского мифа для понимания смысла заглавия произведения, о жанровых чертах идиллии в повести см.: [10]). В первую очередь, это касается художественного осмысления темы любви. Повесть названа именем растения, имеющего «два цвета на одном стебельке» [6: № 9, с. 109]: синий и желтый. Когда герои повести: братья Иван и Федя, их сестра Зоя и Кира, невеста Ивана, гуляя, нарвали полевых цветов, называвшихся в народе «Иван-да-марья», им захотелось узнать смысл этого названия. После разговора со стариком на пасеке «Зоя в самозабвении повторяла младшему брату: – Кира золотая, солнце золотое. – То Марья, а не Кира. – Нет, Кира. А мужской – синий, скромный. – Почему синий? – Погоди. Дедушка сказал, что Кира пчела золотая, и у неё золото есть в глазах, а ты не заметил. Два цветут на одном стебле, как два огонька, – золотой и синий. Золотой – это Кира» [6: № 9, с. 109–110]. Присутствие мотива легендарности, древних преданий в поэтическивозвышенном восприятии любви двух прекрасных молодых людей придаёт онтологическую значимость данной любовной истории, её вписанности в древнейший круг человеческого бытия, – в вечность. А импрессионистически-эмоциональный стиль повествования создает тот чарующий эффект максимальной приближенности изображаемого к «здесь и сейчас», о котором шла речь выше. Так, Федя после 105 этого рассказа сестры видит мир в таком ореоле: «Мы шли вдвоём, и всё вокруг начало таинственно раскрываться и меняться. Мы смотрели на солнце через листья, а они под ветром двигались и трепетали, и там были золотой и синий – и в синем была такая брызжущая, стрелками от него летящая золотая радость, а золото с синеватым и красным огоньком – нет, одного цвета, и щедрость едина» [6: № 9, с. 110]. И чуть ниже: «<…> я теперь понимаю, что это один цвет, а в нём и синева, и золотое, и синее, всё переплетается» [6: № 9, с. 111]. С образом Киры мотив золота связан особенно органично, он почти неизменно возникает при его обрисовке и имеет целый ряд оттеночных значений. Вот один из «ранних» портретов героини: «Независимая, свободная, а брови тонкие, глаза горячие, и жажда радости в них бесконечная. В них каждое мгновение чтото вспыхивало, играло, менялось, в них было много золота, искристого света» [6: № 8, с. 69]. Автор, несомненно, создаёт идеальный образ прекрасной русской женщины, вобравший в себя лучшие черты национального характера: милосердное сердце, самоотверженность, верность – которые ярко проявились в период жестоких военных испытаний. Здесь золото – высшая качественная характеристика героини, с одной стороны, а с другой – её естественная сращённость с живой, природной красотой мира, – это подчёркивается постоянно. На наш взгляд, здесь усматривается явная соотнесённость восприятия Зуровым женского образа с философией Владимира Соловьева, – прежде всего с идеей женственности, разлитой в природе. Очевидна в повести и аллюзия на известный в эмиграции роман Б.К. Зайцева «Золотой узор», просматриваются и несомненные традиции русской классики: все эти темы требуют специального дальнейшего рассмотрения. Пока же заметим, что незаурядное произведение Зурова находится в широком контекстуальном круге традиции национальной философской и художественной мысли и одновременно в русле новейших для того времени художественных новаций неореализма: с усилением роли многогранной подтекстовоассоциативной символики, выводящей повествование на онтологический уровень осмысления жизни. Последнему способствует и тот факт, что одуховорённовозвышенная история любви органически вписывается автором в общую нацио106 нальную картину мира. Зуров не менее поэтически трепетно воспроизводит образ «русского мiра», вскоре беспощадно разрушенного. Несомненно, этот образ приобретает под его пером черты «идиллического топоса» (М.М. Бахтин), – хотя речь идёт об обычном, привычном для русской жизни того времени укладе. По прошествии времени, переломившего историческую эпоху, символично выглядят многие сцены повести. К примеру, во время уже упоминаемой прогулки молодые люди услышали перекличку деревенских хоров: «Гуляя, кликались друг с другом, далеко уйдя, хоры деревенские: кончает один, а вдали в это время начинают другие <…> Мы шли, останавливались, по вечерней заре голоса доносило до нас течением воздушным смягчённо, далеко позади остался город, как бы изнутри сиял летний вечер <…> Близилось к перевалу лето, и спокойным был вечер, сияющий чистой зарёй над широкими приречными полями. С нами поравнялась возвращавшаяся в деревню из города пожилая крестьянка. Шла она босая, в руке завязанные в платок полусапожки и купленные в городе серпы. Поравнявшись, она по-простому спросила: – Чего ж вы на дороге стоите? – Да, вот, тётенька, слушаем, – ответил я. – Что ж на дороге-то слушать, шли бы к нам» (6: № 8, с. 73–74). Восхищаясь пением крестьян, Кира говорит о счастье петь так, как они, а Зоя добавляет: «<…> как бабушка говорит, в два голоса песня перевита, один вступил, другой подхватил, потом голоса сплетаются, перевиваются, как речная вода, а головщица ведёт их, сердце сердцу отвечает. Душа душе весть подаёт» [16: № 8, с. 74]. Так через образ народного пения Зуров поэтически представляет соборный лад русской жизни, общий для всех, родной для всех в прекрасных и старинных его началах: «Сияет закат надо всем, и дышит сердечным теплом земля, а даль зовёт, себя открывает, как родных принимая. Словно сама земля поёт. И мы шли и останавливались, то и дело прислушивались и в далёких песнях как бы узнавали глубоко захороненное в сердцах, своё» [6: № 8: с. 75]. 107 Утвердить в повести представление о соборности русской жизни для Зурова, как явствует из текста, было очень важно. Это укрупняло аксиологическую составляющую произведения, вводило повествование в многовековое русло национальной духовно-нравственной традиции. Писатель лейтмотивно проводит мысль о существовавшем в русской жизни чувстве внесословного национального единства, которое воспринималось многими людьми как естественное, нормальное состояние равновесия человека и мира. Такими людьми являются буквально все герои Зурова. Когда молодые люди зашли к старому пасечнику, рассказчик подчёркивает: «Брат, склоняясь к нему, слушал. Он, как и мама, среди крестьян и солдат чувствовал себя хорошо, свободно и просто…» [6: № 8: с. 102]. Но отчетливо доминантной становится эта идея во второй части повести, где речь идёт о начале страшного потрясения всех основ русской жизни – мировой войне. Писатель проводит эту мысль и непосредственно в авторской речи, и в высказываниях различных персонажей, и в письмах с фронта. Примеров много, вот один из характерных: «<…> я никогда не забуду молебен на полковом плацу: эти ряды солдатские, что молились, взяв фуражки на руку, остриженные солдатские головы, загорелые лица после лагерей и манёвров, все молились, и мы – мама, Зоя и жёны офицеров – молились вместе с народом. Офицеры и солдаты крестились, а потом священник обходил полк, и унтер-офицер, как в древности, нёс серебряный сосуд с освящённой водой, а священник широкими взмахами кропил стриженые солдатские головы» [6: № 9, с. 119]. Показательно, что разработка категории соборности в поэтике зуровского повествования неразрывно связана с разработкой категории национального характера. Это сообщает тексту значительную семантическую уплотнённость, онтологическую масштабность. Полагаем, решение проблемы национального характера у Зурова соотносимо с восприятием русского человека русской религиозно-философской мыслью и, в частности с воззрениями известного эмигрантского философа Н.О. Лосского, утверждавшего: «Говорят иногда, что у русского народа – женственная природа. 108 Это неверно: русский народ, особенно великорусская ветвь его, народ, создавший в суровых исторических условиях великое государство, в высшей степени мужествен; но в нём особенно примечательно сочетание мужественной природы с женственной мягкостью» [8: с. 290] (курсив автора. – В.З.). Можно сказать, что вся персонажная система этой повести построена на образах, представляющих положительные, нравственно-здоровые качества национального характера, которые в экстремальной ситуации войны становятся порой героическими, – хотя таковыми чаще всего не осознаются. При этом в героях (и героинях) на первый план выступают свойства, которые являются природнопредназначенными человеку, восходящими к главным архетипическим истокам национальной характерологии. Так, молодой капитан Иван Косицкий воспринимается солдатами как отец-командир; Кира и Зоя пошли на войну сёстрами милосердия, раненые называют их сестричками. И материнское милосердное начало подчёркивается во всех женских образах повести. Итак, подводя итоги, заметим. Повесть Зурова «Иван-да-марья», хотя и является незаконченным произведением, фактически вполне может претендовать на отношение к себе как к завершенному в целом, имеющему отчетливо выраженную авторскую концепцию, содержащему узнаваемые черты художественного метатекста писателя. Подобно ряду других известных произведений Зурова, повесть «Иван-да-марья» сильна многогранным неореалистическим синтезом, содержащим в себе разнообразные составляющие художественного сознания автора. Доминантными являются те аспекты жанровой поэтики, которые придают повествованию онтологический характер. Примечания 1. Белобровцева И. «Видно, моя судьба, что меня оценят после смерти» / И. Белобровцева // Звезда. – 2005. – № 8. – С. 52–60. 2. Бердяев Н. О свободе творчества / Н. Бердяев // Встреча. – Париж, 1945. – Ноябрь. 109 3. Жаба С. Памяти друга: (К годовщине смерти Л. Зурова) / C. Жаба // Центральный Пушкинский комитет в Париже (1935–1937) / Сост. М.Д. Филин. – Т.I. – Москва: Эллис-Лак, 2000. – С.519–522. 4. Захарова В.Т. Неореализм в русской прозе ХХ века: (Типология художественного сознания в аспекте исторической поэтики). Учебное пособие / В.Т. Захарова, Т.П. Комышкова. – Нижний Новгород: НГПУ, 2008. - 113 с. 5. Зуров Л. Дорога (Отрывок из роман «Зимний дворец») / Л. Зуров // Встреча. – Сб. 2. – Париж, 1945. – С. 10–11. 6. Зуров Л.Ф. Иван-да-марья / Л.Ф. Зуров // Звезда. – 2005. – № 8–9. 7. Зуров Л. Петрополис (Отрывок из романа) / Л. Зуров // Встреча. – Сб. 1. – Париж, 1945. – С. 22–23. 8. Лосский Н.О. Условия абсолютного добра / Н.О. Лосский. – М.: Изд-во политической литературы, 1991. – 368 с. 9. Мандельштам Ю. Л. Зуров. Поле [Рец.] / Ю. Мандельштам // Круг. Альманах. – Кн. 3. – Париж: Дом книги, 1938. – С. 176–180. 10. Разумовская А. «…И кровь мою воспитывала земля» / А. Разумовская // Север. – 2007. – № 7-8. – С. 233–239. 110 Глава 6. ПОЭТИКА МАЛОЙ ПРОЗЫ Л.Ф. ЗУРОВА. СБОРНИК «МАРЬЯНКА» Зуров начинал как писатель с малой очерковой прозы, рождённой личными наблюдениями, полученными, в частности, в экспедиционных поездках по русским деревням Латвии и Эстонии. Эти небольшие произведения печатались в газетах эмиграции, иногда с подзаголовками «из записной книжки» или «дорожные впечатления». С конца 1920-х годов писатель приступил к созданию крупных повествовательных произведений: одна за другой были напечатаны его повести «Кадет» и «Отчина», затем – два романа («Древний путь» и «Поле»). После Второй мировой войны Зуров вновь вернулся к малой прозе, публиковал в периодике эмиграции небольшие рассказы и очерки (иногда это были переиздания или переработки написанных ранее). Актуальным представляется вопрос: как в творчестве писателя соотносятся малые и крупные прозаические жанры? Нельзя не упомянуть о том, что главным трудом своей жизни писатель считал работу над романом «Зимний дворец», задуманным как первая часть масштабной исторической трилогии о революции и гражданской войне. Зуров хотел воссоздать революционные дни в Петрограде и последовавшие за ними события с предельной точностью, скрупулезно собирая документальные материалы и воспоминания очевидцев; эту работу он вёл годами. Большая часть романа была написана уже в конце 1930-х, а в 1951 году велась подписка, чтобы собрать деньги на его издание [5]. По свидетельству современника, «получение свежих сведений от одного из рядовых участников “занятия дворца” заставило писателя изменить его первоначальные замыслы и задержало завершение произведения» [2: с. 275]. Несмотря на наличие хранящейся в Русском архиве Лидсского университета объёмной рукописи (721 страница машинописи, автографы и заметки) [42: с. 299], роман не увидел света – вероятнее всего потому, что сам автор считал его неготовым. Причина этой парадоксальной ситуации кроется в творческой установке писателя и характере его дара: на 111 это очень проницательно указала И.З. Белобровцева: «Именно представление событий в их абсолютной точности, как если бы они были переданы придирчивым хронистом, было для Зурова prima virtus, высшей добродетелью <…> Верность человеческому документу, многократные переделки, постоянное изучение источников, бесконечные уточнения, – все это и привело к тому, что роман “Зимний дворец” <…> остался незавершенным» [6]. Справедлив, на наш взгляд, и общий вывод, сделанный исследователем: «Можно говорить о незавершенности как общей модели построения “истинно правдивых” текстов, к которым тяготел Зуров» [6]. Этот вывод совпадает с наблюдениями авторов данной книги применительно ко всей художественной прозе писателя, в частности, к произведениям малых жанров. Начав с малой прозы, Зуров и завершил свой творческий путь сборником рассказов: в 1958 году вместо анонсированного семью годами ранее романа «Зимний дворец» подписчикам был разослан сборник «Марьянка», ставший итоговой книгой автора. В сборник вошло двадцать произведений 1920–1950-х годов, первоначально публиковавшихся в эмигрантской периодике. Некоторые из них (например, «Град», «Гуси-лебеди», «Ксана», «Обитель», «Русская повесть») были включены в книгу без изменений [9, 12, 14, 19, 22], другие (более ранние) – в незначительно переработанном виде [10, 11, 13, 20, 21]. Так, очерк «Деревня Исмери», опубликованный в 1927 году в рижской газете «Слово», содержал зарисовку из жизни русской деревни, впоследствии составившую миниатюру про бабу с ребятишками из цикла «Семь рассказов» [10]. Будущий рассказ «Ребята» впервые также был опубликован в 1927 году в газете «Слово» с подзаголовком «Из записной книжки» [16], а в 1932 году – перепечатан в парижской газете «Последние новости» под названием «Сочинения» в подборке с общим заглавием «Дорожная тетрадь» [11]. В первых вариантах с этнографической точностью сообщалось, что описаны старообрядческие деревни Латгалии, в 1958 году эта подробность уже оказалась излишней. В публикацию «Дорожная тетрадь» вошел также рассказ «Два старика», впоследствии разделенный на два самостоятельных произведения. В 1931 го112 ду в газете «Сегодня» под общим заголовком «Латгалия» публиковалась подборка рассказов, в которую наряду с рассказом «Вышгородок» (о разорении храма красноармейцами), вошли будущие рассказы сборника «Марьянка»: «Партизанская могила», «Знахарь» (после переработки – «Слепой»), «Голод, кровь и хлеб» (будущие «Три горшка») [13]. Выход сборника сопровождался рецензиями Г.В. Адамовича, Ю. Большухина, Я.Н. Горбова, Ф. А. Степуна, В.Н. Унковского, А. Шика. Помимо официальных рецензий Зуров получил свыше пятидесяти читательских писемотзывов. Писатель активно рассылал экземпляры книги не только подписчикам, но и в библиотеки (например, в Славянскую библиотеку в Праге, Библиотеку СССР им. В.И. Ленина, библиотеку Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР), и всем знакомым, среди которых были критики, литературоведы и простые читатели. Они, в свою очередь, пересылали Зурову благодарственные письма, которые писатель бережно хранил. Эти письма вместе с некоторыми другими документами были переданы в 1979 году наследницей архива Зурова М.Э. Грин А.И. и Н.Д. Солженицыным, а в 1996 году переправлены в Архив Библиотеки-Фонда «Русское Зарубежье» в Москве (ныне – Дом Русского Зарубежья имени А.И. Солженицына, далее – ДРЗ). Всего Зуров получил свыше пятидесяти писем на русском и ещё несколько на иностранных языках. В письме к Н.Е. Андрееву от 12.08.1958 г. он сообщал: «Продолжаю получать письма от читателей. Пока что ругательных нет. Очень милые письма прислали: Б.К. Зайцев, В. Мамченко, Емельянов, Кузнецова» [17] Из письма Н.П. Смирнова от 20.07.1959 г. следует, что сборник был хорошо принят в Советском Союзе – конечно, только теми читателями, которым удалось его получить [32: л. 4]. Все отзывы можно разбить на несколько групп. Это, во-первых, содержащие благодарность письма корреспондентов, которые получили книгу, но не успели прочитать её. Среди них: Т.М. Алданова, Н. Аминадо, М. Аитова, Ю. Арсеньев, А.К. Бабореко, В.С. Варшавский, Г. Вернадский, А. Волковыский, В. ГершунКолин, Н. и М. Голицыны, М. и Н. Врангель, А.Ф. Даманская, В. Емельянов, 113 Е. Залкинд, А. Зубова, Б. Карцев, Н. Оцуп, М. Павлов, Е.Н. Рощина, М.А. Степун, М. Тагер, В. Яхонтов и др. Вторая группа – письма читателей, которые ознакомились с содержанием книги или отдельными произведениями и выразили общее впечатление от них. Среди корреспондентов этой группы – Н.Е. Андреев, Г.Н. Кузнецова, П. Соколов, Е.Э. Малер, П.А. Сорокин, А. Петрункевич, Е. Старова, С.Ю. Прегель, Н.Б. Тарасова, С. Сатина, Н.И. Ульянов, В.Н. Унковский, Ф.С. Шлезингер. И, наконец, малочисленная, но наиболее интересная третья группа – письма, содержащие более или менее развернутые отзывы о сборнике. Их прислали Б.К. Зайцев, П. Калинин, В.А. Мамченко, В.П. Никитин, Н.П. Смирнов, Ф.А. Степун, С.И. Шаршун. Читательские мнения, наряду с отзывами критики, высвечивают многие особенности художественного мира писателя и указывают направления литературоведческого анализа произведений. В числе обсуждаемых проблем оказались тематика сборника, его жанровый состав, специфика авторского стиля, вопрос о литературных традициях. Сборник Зурова «Марьянка» – это книга единой темы; как и все творчество автора, она посвящена России. В расположении произведений прослеживается замысел автора изобразить русскую жизнь на разных этапах её исторического существования. Так, в первом (заглавном) рассказе, где повествуется о краткой и драматичной любви юной крестьянки Марьянки и молодого шляхтича Влади, действие отнесено к эпохе крепостного права. Следующий рассказ – «Ксана» – рисует один день из жизни разоряющегося помещика и его маленькой дочки. В «Русской повести», где повествование ведётся от лица петербургской гимназистки, показан краткий период её жизни, в которой соседствует молодое веселье – и паломничество с нянькой к православным святыням – на фоне Первой мировой войны и приближающейся революции; параллельно развивается драматическая история юной послушницы Матрёши. Ряд очерковых рассказов посвящён Первой мировой войне. Нашли художественное отражение в сборнике и первые месяцы послереволюционной действительности: в рассказе о гражданской войне «Павловский парк» и повести «Дозор», в которой показано вынужденное бегство дво114 рянского семейства из родового поместья. Многосторонне исследуется русский национальный характер: в изображении стариков («Земля»), «юродивых» («Горцев»), провидцев («Слепой», «Три горшка»), родителей рекрута («Ванюшины волосы»), крестьянских ребятишек («Ребята»), женщин («Семь рассказов»), революционеров («Горцев»), солдат («Ударник», «Полынь», «Встреча», «Бой»). Особое место в книге занимают те очерковые произведения, в которых присутствует автобиографический рассказчик – человек, изучающий русскую древность и быт русских крестьян уже в 30-е годы ХХ века. К этому ряду произведений относится и «Обитель», которая вводит в повествование тему отечественной истории прошлых веков. Рецензенты отмечали, что изображение России в сборнике зиждется на хорошем знании предмета и не имеет ничего общего с фальшивой лубочной «русскостью». Действительно, материалом для художественного осмысления в книге послужили преимущественно личные впечатления Зурова, полученные им как до эмиграции, так и во время экспедиций на Псковщину в 1920–1930-е годы. Поэзию русского Северо-Запада в сборнике «Марьянка» хорошо почувствовал Н.И. Ульянов, который писал Зурову: «Книга оказалась для меня больше, чем литературным произведением, от неё веет моим родным чудским-ильменскимладожским краем. Ни у кого другого не встречал я такого, воистину “химического” соединения писателя с этой землей. Аромат её Вы умеете передавать одним словом. Но не думайте, что эти интимные переживания заслонили от меня драматизм Ваших рассказов. Образ растерзанной, бессильной России, тоска приближающейся гибели, поданы так остро и волнующе, что воспринимаются как документ эпохи» [38]. В отзывах читателей прослеживается единая мысль о том, что чувство России у автора сборника «многоуровневое», слагающееся из художественного памятования о русской природе, русской старине, религии, истории, революции. В этом плане заслуживает внимания отзыв о книге Зурова Е. Старовой в письме, адресованном В.Н. Буниной: «Я была поражена, что человек, выехавший из России мальчиком, так помнит все – русскую природу, воздух первых дней революции, 115 так чувствует русскую старину. Из молодого поколения он единственный, устремленный в вечное и прекрасное, что было в старой России. Изгнание как бы прошло мимо него, но вместе с тем рассказы его иные, чем то, что писали люди Вашего поколения, он как бы на последней грани между ними и нами. И в русской природе он лучше всего чувствует и передает зиму, запахи, цвет снегов. Поразило меня и то, что он помнит, как говорили и чувствовали мужики первых дней революции» [33]. Несмотря на обращённость автора к одной теме, ему удалось разносторонне осветить предмет своего художественного исследования. Н.Е. Андреев писал о сборнике: «Чудесная, благоуханная и – при своей внутренней собранности и духовном единстве – столь многообразная книга» [4]. Благодаря многосторонности освещения реальности, каждый читатель мог выбрать в сборнике произведения, наиболее близкие себе. Действительно, большинство рецензентов отметили лучшие, с их точки зрения, произведения, но этот перечень у читателей различен. Обычно произведения выделялись группами: либо повествования о жизни русского дворянства («Русская повесть», «Дозор»), либо рассказы о войне, составляющие как бы противоположный идейнохудожественный полюс сборника, так как они отличаются темой, образом героярассказчика и жанровой формой. Многие выделяли «Обитель» как произведение духовно-религиозной направленности. Самого автора впечатлил отзыв некоей А.Ф. Рязяновской, чьё письмо ему переслала О.Н. Емельянова: «Читать начала с рассказа “Обитель” – и не двигаюсь дальше – читаю третий раз. Нравится мне безмерно, словно душа у себя дома. Среди наших предков был один канонизированный святой, также монахи, игуменьи и священники. Мне этот рассказ говорит родным языком» [30]. Сборнику «Марьянка» свойственно жанровое и повествовательное многообразие, но преобладают в нём малые прозаические жанры: очерковые рассказы, притчи, миниатюры, рассказы в сказовой форме. Некоторые произведения, например, «Обитель», с трудом поддаются жанровой классификации. Ю. Большухин обозначил её жанр со знаком вопроса: «рассказ (очерк?)» [7], а 116 А. Шик предложил для неё определение «сказ» [41]. Необычность художественных форм ощутил и Н.П. Смирнов, который отмечал в сборнике Зурова «разнообразие тематики, что говорит, конечно, о широте авторского кругозора, о его свободном владении самыми разнообразными формами и жанрами – от подлинной (зачёркнуто – поэмы) баллады (“Русская повесть”) до простонародного сказа (“Полынь” и др.), от эпической “Обители” до чудесной лирически-философской поэмы “Гуси-лебеди”» [31: лл. 2–2, об.]. В целом у Зурова проявляется тяга к малым формам, тенденция к сжатию художественного материала и лаконизму языка. Всем произведениям присущ малый объем: даже тексты, обозначенные автором как «повести», занимают в книге не более двадцати страниц. Некоторые из них делятся на маленькие главки и подчас напоминают цикл миниатюр. Остановимся на одной характерной особенности творческой манеры писателя. Многим произведениям сборника присущ очерковый характер, отсутствие фабульной завершенности. По мнению Ю. Большухина, Зуров пишет о России, «не заботясь о развитии и завершении сюжета, а как бы живописуя то, что попало в его поле зрения, как бы отдавая все свое внимание художника естественному течению жизни» [7]. Б.К. Зайцев в письме к автору сборника заметил: «Зарисовки партизан, немцев, вообще войны <…> производят впечатление записей, т.<о> е.<сть> более сырого материала» [8]. Попробуем проследить, за счет чего создается «впечатление записей». В структуре многих произведений Зурова центральное место занимает «разорванный монолог» (цепь реплик одного персонажа) или диалог, сопровожденный минимальными авторскими комментариями. В повествовательной экспозиции, как правило, обозначается место действия, даётся краткое описание персонажа и далее передаётся его речь. Например: «Василий худ, мал <…> Он стар и прост, как ребенок. <…> Давно примерли его одногодки, ходившие с ним на Балканы, давно истлели тела солдат, закопанных меж дальних гор. – Как мы там гуляли, – вспоминал он, сидя со мной на берегу <…>» [15: с. 131] («Земля»). 117 Иногда рассказ делится на фрагменты, тогда отдельные фрагменты могут начинаться с реплики персонажа: «– Родименький, да как же не рассказать, – начала она» [15: с. 145] («Ванюшины волосы»). При отсутствии экспозиции нельзя сразу догадаться, кто этот «он», или «она», ведущие рассказ, и лишь постепенно вырисовывается облик персонажа, проясняется его возраст, иногда он наделяется именем собственным. Подобные фрагменты входят как составные части и в более сложные жанровые структуры, например, в повествование «Обитель», которое включает также отрывки мемуарного характера и цитаты из старинных исторических источников. Рассказ «Партизанская могила» состоит из двух композиционно-смысловых частей: первая строится как полилог (реплики нескольких персонажей, сообща рассказывающих о боях во время гражданской войны), вторая содержит эмоционально-лирическое описание партизанской могилы, данное от лица авторарассказчика. Подобное построение особенно характерно для произведений, в которых присутствует автобиографический рассказчик. Такие тексты местами напоминают полевые записи этнографа, фиксирующего высказывания информантов, или даже магнитофонные записи. В сборнике есть рассказы, в которых автор устраняется принципиально: это произведения сказовой формы («Бой», «Полынь»). Очень показательна маленькая дилогия «Полынь» и «Встреча», объединенная образом главного героя – крестьянского парня Фёдора, ушедшего солдатом на Первую мировую войну и попавшего в германский плен. В первом рассказе повествование ведётся от его лица и состоит из отдельных фрагментов, описывающих эпизоды «хождения по мукам». Некоторые фрагменты носят повествовательный характер, другие основаны на диалоге. Начало рассказа напоминает также киносценарий: «– Русс! Ком! Я обернулся к своим и говорю: – Ребята, теперь мы пропали» [15: с. 70]. 118 По мере развёртывания повествования мы видим, как здоровый молодой парень превращается в больного, бессильного старика: «Пока здоров был, был силен, а после болезни стала горька моя жизнь, горька, как полынь» [15: с. 72]. Фабульно это произведение не завершено, но оно дополняется следующим рассказом – «Встреча». В нём повествование ведётся уже объективно, Фёдор показан со стороны: «У него было землистое лицо с карими лихорадочно блестевшими глазами, широкоскулое лицо больного мужика. <…> Он вынес все – окопы, лагерь, отбился от захватившей его в лагере смерти, – чтобы вернуться домой. Он уже не верил, что снова начнется радостная, прерванная войной жизнь. <…> Но в исцеляющую силу полей верила его крестьянская кровь» [15: с. 78]. Финал этого рассказа также остаётся открытым, автор не решается показать возвращение Фёдора в родной дом, как сам герой не решается спросить у встреченной односельчанки про своих родных. Ударная сцена рассказа – встреча Фёдора с бабой, которая не узнаёт его: «– Ай, яй, – посмотрев на него, сказала она, – Василия Архипова сын? Ведь ты ж молодым на войну пошел? – Молодым. – Да, – вздохнув, сказала она. – Большим стариком ты сделался» [15: с. 84]. Герой возвращается уже другим человеком, как будто побывав в ином мире – мире смерти, изменившем его. Этот мотив усиливается введением архетипических образов реки (границы миров) и моста (символизирующего опасный переход): по пути к дому Фёдор ночью переходит реку по мосту в свете далёкого зарева. Общий эмоциональный тон рассказа (нарастание чувства страха) также позволяет предположить драматическую развязку. В целом впечатление «документальности», установка на достоверность повествования дополняется обобщённосимволическими образами и мотивами. Показывая русских людей в трудных жизненных ситуациях, Зуров стремится понять сущность национального характера, что было отмечено и критикой. Например, А. Шик считал, что писатель изображает людей, чьи поступки просты и решительны, а переживание горя – затаённее, но глубже. [40]. А. Петрункевич 119 писала автору сборника: «Особенно запали в душевную память рассказы военные и монастырские: и тут и там именно сказалась “русскость”, характерное, инстинктивное, логически необъяснимое покорное и мудрое отношение к жизни» [29]. Отмеченные черты поэтики присущи также миниатюрам, объединённым под заглавием «Семь рассказов». Н.П. Смирнов выделил их, написав автору сборника: «Нельзя не отметить и Ваше искусство маленького рассказа (“Семь рассказов”, “Три горшка” и др.) – искусство, наиболее трудное в нашей литературной работе» [31: л. 2., об.]. Миниатюры – сверхмалые прозаические тексты – заключают в себе многообразные жанровые потенции и распадаются на несколько основных первичных типов (соответствующих родам литературы): 1) маленький повествовательный текст (уменьшенный рассказ), иногда сжатый до одного эпизода; 2) лирическая зарисовка; 3) зафиксированный как бы «со стороны» монолог или диалог. В цикле Зурова преобладают произведения первого и третьего типов. Все семь рассказов объединены местом действия (русские районы Псковщины) и в совокупности призваны дать картину жизни этого древнего края. Как и в большинстве рассказов сборника, центром художественного исследования становятся люди, разнообразные человеческие характеры. Ю. Большухин заметил, что Зурову успешно удаётся развернуть характер героя на малом пространстве рассказа (добавим – и миниатюры), что, безусловно, сделать сложнее, нежели в романе или повести [7]. Художественные приёмы, применённые в миниатюрах, раскрывают основную идею автора о том, что жизнь русских крестьян отличается органичностью, естественностью, неразрывно слита с природой, которая формирует у людей представление о красоте, свободе, доброте и щедрости. Так, старик из первой миниатюры похож на «борового медведя» [15: с. 141], Надя, рассказывающая о диких козах, сама напоминает весёлую молодую козочку. Отступление от законов природной жизни воспринимается как нравственное преступление. Например, вторая и третья миниатюры цикла рисуют два противоположных женских характера, а соседство этих фрагментов значительно усиливает их эмоциональное воз120 действие на читателя. Для безымянной рыбачки из второй миниатюры её дети – «самое дорогое живое рощение»: «Веселым солнечным утром я проходил через рыбачью деревню, и меня обрадовало множество игравших на озерном берегу и на широкой песчаной дороге детей. – Ну, благословил вас Господь, – глядя на них, сказал я идущей от озера молодухе. – А как же, – остановившись, сияя голубыми глазами, ответила она. – Живые люди. Самое дорогое живое рощение» [15: с. 141]. В противоположность этой щедрой матери Грепа из третьего фрагмента посылает своих детей в избы к больным, в надежде, что они заразятся и умрут: «А вот в деревне Рагозино была скарлатина. Дети везде помирали. Грепа, Грепа, была такая несчастная баба, детей у нее было много, голодных, босых. Нарочно посылала их по избам, где дети другие болели – думала: заразятся, помрут. Но ребята не помирали. Раз пришла она к соседке в избу, перекрестилась, стала у порога и говорит горько: – Сватьюшка, да и что ж это, Господи! Людским смерть, моим нет!» [15: с. 141] Бесчеловечность ситуации усилена тем, что Грепа в своих жалобах апеллирует к Богу. Четвёртый фрагмент, таким образом, оказывается тематически связан с предыдущим, но ситуация «моления о смерти» здесь реализована в противоположном, гуманистическом варианте. Этот фрагмент может рассматриваться как сюжетный, то есть повествовательный текст о девяностолетней слепой старухе, которая от всего сердца молилась о смерти, и Бог услышал её. Её кончина не производит впечатления трагического или дисгармоничного. Финал миниатюры свидетельствует о том, что жизнь и смерть этой женщины были равно естественны: «А высокое кладбище вкруг Лисейской церкви в тот день широко под озерным ветром шумело березами, под солнцем сияли озерные воды, и с великим торжеством над древним краем вздымались белые облака» [15: с. 142]. 121 Следующая миниатюра – зарисовка характера другой старухи, жизнелюбивой и отчаянной, «бедохи», которая хотя и сравнивает себя с «пустым лесом, сухим деревом», но не жалеет о прожитых годах: «Не зря говорила Ельчиха покойная – хоть не красивы были, а молоды были!» [15: с. 142]. В миниатюрах часто присутствует завершающая реплика, которая стягивает на себя смысл, акцентируется. Такая фраза есть и в финальной миниатюре, рисующей прощание автора с озёрным краем: «– У вас хорошо, высоко, – говорю женщинам. – А вот молодухам не нравится, – ответила мне та, что постарше, – в лесу лучше жить. Дороги весной заливает, никак не подъедешь. – Зато весь ветер наш! – ответила молодая» [15: с. 143]. Рассмотренная на примере рассказов и миниатюр структура отражает сближение повествовательного текста с драматическим произведением или даже киносценарием. Выдвижение на первый план «самопрезентующихся» в монологах или диалогах персонажей и минимизация от-авторского текста создает иллюзию непосредственно зафиксированных живых сцен, «впечатление записей», тем более что многие произведения и возникли из полевых записей Зурова. Очерковость, сюжетная незавершённость и фрагментарность композиции – характерные черты большинства произведений Зурова, по складу своего дара явно тяготевшему к малой прозе. Хотя писатель и обращался ранее к крупным повествовательным формам, но критика сомневалась в правомерности отнесения таких его произведений, как «Древний путь» и «Поле», к жанру романа. Большинство читателей воспринимало Зурова как мастера преимущественно малых жанровых форм. Показательно признание редактора журнала «Грани» Н.Б. Тарасовой: «Мне очень любопытно взглянуть на Вас, на романиста. До сих пор мне кажется, что Ваша судьба – рассказ» [37]. Сам автор придерживался традиционных жанровых определений для своих художественных форм. Например, оброненное Е.Э. Малер применительно к произведениям сборника определение «эскиз» [25], вызвало неожиданно бурную реакцию Зурова, который писал в ответном письме: «<…> Меня чрезвычайно заин122 тересовало, почему Вы мои повести и рассказы называете “книгой эскизов”, а потом пишете и об очерках». Перечисляя далее произведения, которые ранее уже были опубликованы, Зуров (ссылаясь на отзывы критики) настаивает на их вполне традиционной жанровой классификации: «Дозор» – повесть, «Марьянка», «Гусилебеди», «Ксана» – рассказы. Завершается письмо следующим пассажем: «”Обитель” я выделяю, т.к. форма “Обители” необычная. Но это не очерк и, конечно, не эскиз» [18]. Из этого письма следует, что Зуров воспринимал термин «эскиз» в его прямом значении – как «набросок», то есть незаконченное произведение, такое же значение придавал он слову «очерк». Повести и рассказы, включённые в сборник «Марьянка», он рассматривал как обработанные, завершённые художественные произведения. Е.Э. Малер в ответном письме вынуждена была объяснять, что слово «эскиз» было употреблено ею не в буквальном смысле и даже случайно, что это лишённое всякой оценки её любимое слово для обозначения краткого рассказа [26]. Отмеченному выше стремлению к драматизации как одной из особенностей поэтики малой прозы Зурова отчасти противоречат другие устойчивые тенденции: во-первых, детальность описаний и, во-вторых, лиризация повествования, присутствие автора-рассказчика, который не только описывает окружающую обстановку, но и передаёт свои чувства и мысли по поводу увиденного и услышанного. Присущее прозе Зурова внимание к деталям («вещность, стереоскопичность письма» [7]) рассматривалось критиками как наследование чеховско-бунинской традиции, но оценивалось неоднозначно. Например, Ф.А. Степун в письме к Зурову высказал критические замечания относительно авторского стиля: перечислил недочеты в употреблении отдельных слов, выражений и синтаксических конструкций, отметил неоправданную, на его взгляд, перегруженность деталями в ряде описаний и сцен. Степун писал: «Мне кажется, что детальность описания должна быть связана с важностью описываемого <…> В Вашей манере есть какая-то назойливая равномерность густых описаний и это мешает иерархическому построению художественного произведения» [35: л. 3, об.]. (Выделено Ф.А. Степуном. – А.Г.). Позже разрозненные наблюдения были обобщены в ре123 цензии на сборник «Марьянка», где критик фактически повторил высказанные ранее мысли о прозе писателя: «Читая Зурова, невольно вспоминаешь Бунина. <…> Как Бунин, так и Зуров прежде всего мастер детальных описаний – пейзажей, вещей и людей, иерархической разницы между которыми он почти не чувствует. Принцип его творчества – это перенесенный в сферу искусства принцип дифференциального исчисления: бесконечно большого значения бесконечно малых величин» [34]. Заметим, что отмеченная особенность свойственна преимущественно произведениям большего объема («Русская повесть», «Дозор»); в малых формах автор идет по пути очищения текста от излишней описательности. Другая черта творчества Зурова – лиризация прозы – отразила глобальную тенденцию межжанрового взаимодействия, обозначившуюся на рубеже XIX–XX веков и ярко проявившуюся в творчестве многих писателей этого периода: А. Белого, Бунина, Зайцева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, С.Н. СергееваЦенского и др. Лирическое начало пронизывает всю прозу Зурова, но в отдельных произведениях становится доминирующим, как, например, в финальном рассказе сборника «Гуси-лебеди». В нём повествуется о том, как автор-рассказчик, «закончив археологическую работу» [15: с. 152], собирается покинуть русские земли. В пути он наблюдает, как дикие гуси, улетая на юг, «в полете сбились и потеряли свой строй» [15: с. 156]. Помогла им простая русская крестьянка, которая, «обращаясь к ним, как своим родным братьям или детям, сказала: – Гуси-лебеди, – путьдороженька, – шелковый пояс!» [15: с. 156]. И, выровнявшись «греческим священным углом» [15: с. 157], гуси полетели «над нашей землей, оставляя позади себя и политую в дни гражданской войны человеческой кровью станцию, и погост с церковью древней и сырой от подпочвенных вод» [15: с. 158]. Повествовательный строй рассказа приближается к стихотворному: в нём преобладают сложные синтаксические конструкции, обилие инверсий и повторов приводит к ритмизации. Это типичное произведение лирической прозы, в котором создаваемый всеми художественными средствами эмоциональный настрой «преодолевает» сюжет: рассказчик прощается с родиной, но испытывает при этом прилив небывалого 124 счастья: «Я шел по пустынному шоссе, и мне казалось, что для сердца моего теперь открыты все пути. А провода гудели, серые вдаль уходили столбы, а впереди из облаков каким-то будущим неведомым счастьем над русскими полями проливался солнечный свет» [15: с. 161]. Отмеченная ранее у Зурова тенденция к лаконизму в художественной прозе увеличивает смысловую нагрузку на отдельные образы и детали, что, в свою очередь, ведёт к их символизации. Не случайно некоторые произведения сборника воспринимались как глубоко символические, причём это относится не только к рассказам притчевого характера, в которых выражена вера автора в торжество мира и милосердия на родной земле («Три горшка», «Слепой», «Партизанская могила»). В. Унковский и А. Шик, например, увидели в финальном рассказе сборника «Гуси-лебеди» символ заблудшей России, способной возродиться в будущем. Характерной особенностью отзывов на сборник «Марьянка» является стремление рецензентов обозначить содержание книги одной ёмкой и выразительной фразой. Так, В. Унковский предлагал озаглавить книгу по названию финального рассказа – «Гуси-лебеди» [39: с. 129]. П. Калинин остановился на словах крестьянки из «Семи рассказов» о детях – «живое рощение». Он писал: «”Живое рощение” – вот ключ к творчеству Л. Зурова» [23]. С.И. Шаршун выбрал для символического заглавия сборника фразу «От всего сердца» [40]. Это стремление свидетельствует, на наш взгляд, о художественной ёмкости отдельных образов книги. Ещё одной особенностью сборника, отмеченной практически всеми читателями и критиками, был своеобразный стиль. Специфика авторского языка определялась по-разному, но почти все выделяли лаконизм – «словам тесно» [27] (В. Мамченко), музыкальность, поэтичность и образность речи (Г.Н. Кузнецова, Н.Б. Тарасова), «необычное расположение слов во фразе» [8], то есть оригинальный синтаксис (Б.К. Зайцев), употребление малоизвестных и «областных» слов (Б.К. Зайцев, В.П. Никитин, А. Петрункевич и др.). Многие корреспонденты отметили в сборнике обилие непривычных слов, в том числе диалектных и просторечных, что было связано с введением в некоторые произведения сказового повествования. Например, Б.К. Зайцев писал, что в 125 книге «разнообразно дан народный говор» [8]. Интересен в этом отношении отзыв ученого-востоковеда В.П. Никитина, который, по его собственному признанию, привык при чтении отмечать интересующие его слова. Он выписал «областные» слова и выражения: «журавы», «пожня», «стукан» (вместо истукан), «рука стеряна» (вместо потеряна), «обоз большинный» и др., а также неизвестные ему археологические термины: «голосники», «керамиды». Помимо слов его заинтересовали «обычаи, верования» и «история». Некоторые из его выписок сопровождались комментариями, например: «Кирпичи (8)=kermesse, фламандское слово – mass d’eglise»; «Какой это язык – сетский? Угро-финской семьи?»; «сорок церквей (число сорок имеет значение тоже у персов и турок)»; «деревьев, таинственно связанных с землей и небом (59) отсюда дендролатрия (дуб, друиды), значение омелы»; «Бутыржук (131), где-то в Болгарии?, я её прошел пешком с Севера на Юг, в 1907 году, но не догадываюсь» [28: л. 17, об.]. (Орфография и пунктуация автора. – А.Г.). Заслуживает внимания и такое признание В.П. Никитина – как человека, длительное время общавшегося с А.М. Ремизовым: «И.А. Бунин как-то обмолвился по адресу Алексея Михайловича, что его любят те, кто не знает русского языка. Не могу с этим согласиться. Алексей Михайлович исповедывал какой-то культ к языку и искал исконную русскую речь. Ваша книга ему бы очень понравилась» [28: л. 17]. (Орфография автора. – А.Г.). Многие рецензенты ставили в заслугу Зурову хорошее владение русским языком (вероятно, в конце 1950-х годов эмигрантам первой волны этот факт уже казался редким достоинством), а также бережное отношение писателя к родному слову. Например, Г.Н. Кузнецова писала: «Дорогой Леня, сейчас в литературе такой разнобой, такая небрежность к слову и понятиям, что Ваше чувство ценности этого слова и вообще ответственности за свое ремесло – мастерство – кажется редкостью» [24: л. 2]. Отметив родственность того, что ей уже было известно из более ранних произведений Зурова, Кузнецова добавляет: «Но есть и новое, в ритмах и построениях фраз, в эпитетах – чувство России – прежней России Вы 126 все углубляете и даже тогда когда она уже уходит у Вас – Вы еще находите ее вечные следы во всем – и это пленяет» [24: л. 2]. Эмоциональный отзыв, характеризующий стиль сборника, прислала Н.Б. Тарасова: «Знаете, я когда читала “Марьянку”, то ощущала каждое слово. Каждое слово – образ. Вижу, ощущаю, обоняю, – и так странно – прекрасно, сказочно это звучит. Не могу выразить Вам, как я устала от бездарности, от “бесслухости” (можно так сказать?) наших авторов. Музыка ушла из прозы. <…> И вот у Вас музыка, музыка, музыка… Музыка Слова. И сразу вспоминается Евангелие от Иоанна» [36]. (Выделено Н.Б. Тарасовой, пунктуация автора. – А.Г.) Типично для восприятия прозы Зурова сравнение его стиля с «летописным повествованием». Сознательная ориентация на поэтику русских летописей проявилась в одном из ранних произведений писателя – «Отчина» – и затем отчасти актуализировалась в «Обители», также посвящённой Псково-Печёрскому монастырю. Но сопоставление художественного языка Зурова с летописным чаще носит условный характер, равно как сравнение его образов с былинными, иконописными и другими обобщёнными образами русской древности. Например, А. Шик заметил о сборнике «Марьянка», что книга написана «совершенно особым <…> иконописным языком, прозрачным, как северная природа, в которой происходят почти все рассказываемые Зуровым события, и исполненным той благодати, которая чарует нас в картинах Васнецова, Нестерова или Рериха» [41: с. 244]. Отмечая особенности авторской художественной манеры, рецензенты стремились обозначить место Зурова в истории русской литературы и – шире – русской и мировой культуры. В этой связи нельзя не остановиться на двух отзывах, которые можно рассматривать и как рецензии на книгу, и как своеобразные художественные произведения. Один из них принадлежит В.А. Мамченко: «Дорогой мой Леня, я и прежде всегда любил Твой творческий стиль письма, Твою поэтическую манеру обращения со словом (“словам тесно”!), постоянную Твою сюжетную линию (Родина в народном образе, овеянная северным небом!), этот Твой строй речи – когда он в 127 повествовании звучит как бы прохладой жаркого сердца, – сдержанностью сильных чувств!.. Теперь, читая Твой сборник “Марьянка”, много раз взволнованность моя невольно билась зажатой в руке птицей, особенно – в “Гуси-Лебеди”! Спасибо Тебе, мой дорогой! Спасибо за книгу, а с ней – за радостную боль. Твоя “Полынь”, например, говорит мне о этой силе русского человека, и с болью смешана радость и гордость русского сознания в творчестве! И такая свежесть образов: “город по-гречески жил в песнях”! <…> “небо было переполнено жемчужно-серыми неясными облаками”! Или эстетическое в психологии: “Поколотят Марьянку, – она уйдет, забьется в угол, шепчет кукле и утешает её в своем собственном горе”! И в такой прелести вся книга. А по складу (ладу!) русской речи Ты дружен моей любви, – Тургеневу, Чехову, Бунину. Но и трагичен судьбой: в сутолоке эмигрантского прóпада не будет Тебе широкой общественной поддержки, которой Ты достоин» [27]. (Выделено В.А. Мамченко, пунктуация автора. – А.Г.). Не менее эмоциональный отзыв прислал С.И. Шаршун. Эта своеобразная рецензия с элементами творческой игры напоминает его экспериментальные лирические произведения, написанные ритмизованной прозой: «От всего сердца шлю Тебе благодарность за Марьянку. …И, от всего сердца – провозглашаю Тебя лучшим русским писателем! Ты наилучший русский лирик. Ты – прекрасный северный беспримесный славянский писатель Русский Кнут [в письме ошибочно Гнут] Гамсун. <…> От, допустим, Пришвина, Шишкова, Куприна, Бунина, Паустовского, Ты отличаешься тем, что они: охотники и выученики Тургенева и Толстого, – Ты: былинник, сказитель-гусляр. Ты – цыганский барон… то есть – сказителей: создатель легенд. Да, Ты – беспримесный славянин – …может быть викинг и Твои литературные друзья – финская литер<атура> и скандинавская. 128 От Толстого, у Тебя – не только Казаки, но и Три старца (Твои “Три горшка”). Твой диапазон шире, чем у вышеперечисленных писателей: Гамсун, Толстой, русские былины, с одной стороны, с другой же – зайцевская (и тургеневская) акварельность и нежность и чеховский “декаданс”, шопеновски-метерлинковская “недоговоренность”. Обнимаю Тебя от всего сердца (я так бы и назвал Твою книгу). Исполать Тебе, многая лета» [40]. (Пунктуация автора. – А.Г.) В приведённых отзывах важное место занимает сопоставление творчества Зурова с традицией. В отзыве Шаршуна намечен очень широкий контекст – от былин и саг, Толстого, Тургенева и Чехова до Метерлинка и Гамсуна, Бунина и Зайцева, Паустовского и Пришвина. И если некоторые предположения в этом преувеличенно эмоциональном отзыве представляются, мягко говоря, спорными, то другие совпадают с мнениями большинства рецензентов, а некоторые, вероятно, стоят серьезного рассмотрения. Н.П. Смирнов увидел в прозе Зурова родство с Лесковым, а в военных рассказах – с Гаршиным [30]. Наиболее частым и расхожим является сравнение Зурова с Буниным, которое могло трактоваться как «зависимость», «подражательность» или «принадлежность к бунинской школе» [30]. И хотя сопоставительный анализ творчества двух писателей – дело будущего, даже при поверхностном взгляде очевидно, что по целому ряду признаков Зуров может быть отнесен к «бунинской школе». У них есть общее в выборе тематики и предмета для художественного исследования (например, русская жизнь и характер русского человека), Зурову свойственны близкие Бунину эксперименты с жанром и композиционно-повествовательной структурой, лиризация прозы, поиск сжатых прозаических форм, в описаниях – внимание к деталям. Итак, сборник «Марьянка» демонстрирует характерные особенности малой прозы Зурова. Это, прежде всего, сочетание двух разнонаправленных тенденций: с одной стороны, преобладание в структуре многих рассказов монологов и диало129 гов персонажей, вытесняющих автора, с другой стороны – лиризация повествования, вплоть до сближения прозаического текста со стихотворным. Обе эти тенденции обусловлены, на наш взгляд, стремлением Зурова к предельному сближению искусства с правдой жизни, опорой на собственные впечатления и другие документальные источники (в данном случае – дневниковые и полевые записи). Обращение к жанру миниатюры, дробление более крупных форм на небольшие фрагменты, стремление к лаконизму свидетельствуют о том, что малые жанры – наиболее органичные формы в художественном мире этого писателя. Примечания 1. Адамович Г. Л. Зуров. «Марьянка» [Рец.] / Г. Адамович // Русская мысль. – Париж, 1958. – 11 авг. – С. 8. 2. Андреев Н.Е. Л.Ф. Зуров / Н.Е. Андреев // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1971. – Кн.105. – С. 274–276. 3. Андреев Н.Е. «Отчина» и её автор / Н.Е. Андреев // Новый журнал. – НьюЙорк, 1971. – Кн.105. – С. 139–147. 4. Андреев Н.Е. Письмо к Л.Ф. Зурову от 20.06.1958 г. / Н.Е. Андреев // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 130. – Л. 1. 5. Белобровцева И. «Видно, моя судьба, что меня оценят после смерти» / И. Белобровцева // Звезда. – СПб., 2005. – № 8. – С. 52–60. 6. Белобровцева И.З. Леонид Зуров – писатель-эмигрант, которого нельзя назвать «эмигрантским писателем» / И.З. Белобровцева // «В рассеянии сущие…»: Культурологические чтения «Русская эмиграция ХХ века». – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. – С. 180–188. 7. Большухин Ю. Л. Зуров. «Марьянка» [Рец.] / Ю. Большухин // Новое русское слово. – Нью-Йорк, 1958. – 12 окт. – С. 8. 8. Зайцев Б.К. Письмо к Л.Ф. Зурову от 29.07.1958 г. / Б.К. Зайцев // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 131. – Л. 1. 9. Зуров Л. Бой. Ребята. Партизанская могила. Слепой. Земля. Град. Семь рассказов / Л. Зуров // Новоселье. – 1947. – № 33 / 34. – С. 46–49. 130 10. Зуров Л. Деревня Исмери / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 587. 11. Зуров Л. Дорожная тетрадь / Л. Зуров // Последние новости. – Париж, 1932. – 23 июля. 12. Зуров Л. Ксана. Гуси-лебеди / Л. Зуров // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1955. – Кн. 43. – С. 20–32. 13. Зуров Л. Латгалия / Л. Зуров // Сегодня. – Рига, 1931. – № 133 (14 мая). – С. 4. 14. Зуров Л. Марьянка [Рассказ] / Л. Зуров // Последние новости. – 1932. – 25 сентября. 15. Зуров Л. Марьянка. [Сб.] / Л. Зуров. – Париж, [б. и.], 1958. – 164 с. 16. Зуров Л. О чем мечтают. Из записной книжки / Л. Зуров // Слово. – 1927. – № 490. 17. Зуров Л. Письмо к Н.Е. Андрееву от 12.08.1958 г. (машинописная копия) / Л. Зуров // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр.130. – Л. 9. 18. Зуров Л. Письмо к Е.Э. Малер [б.д.] (машинописная копия) / Л. Зуров // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 136. – Л. 9. 19. Зуров Л. Полынь. Встреча. Павловский парк. Обитель / Л. Зуров // Новоселье. – Нью-Йорк, 1946. – № 29 / 30. – С. 35–54. 20. Зуров Л. Псковщина [«Клад», «Три горшка»] / Л. Зуров // Наша газета. – 1932. – № 10. 21. Зуров Л. Рождение героя [Горцев] / Л. Зуров // Последние новости. – 1937. – 10 апреля. 22. Зуров Л. Русская повесть / Л. Зуров // Новоселье. – Париж; Нью-Йорк, 1950. – № 42–44. – С. 90–101. 23. Калинин П. Письмо к Л.Ф. Зурову от 24.07.1958 г. / П. Калинин // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 135. – Л. 11. 24. Кузнецова Г.Н. Письмо к Л.Ф. Зурову от 07.08.1958 г. / Г.Н. Кузнецов // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 136. – Лл. 1–4. 25. Малер Е.Э. Письмо к Л.Ф. Зурову от 06.07.1958 г. / Е.Э. Малер // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 136. – Л. 7. 131 26. Малер Е.Э. Письмо к Л.Ф. Зурову от 11.08.1958 г. / Е.Э. Малер // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 136. – Л. 10. 27. Мамченко В.А. Письмо к Л.Ф. Зурову от 15.07.1958 г. / В.А. Мамченко // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 136. – Л. 12. 28. Никитин Б.П. Письмо к Л.Ф. Зурову от 20.07.1958 г. / Б.П. Никитин // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 136. – Л. 17. 29. Петрункевич А. Письмо к Л.Ф. Зурову от 04.11.1958 г. / А. Петрункевич // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 137. – Л. 3. 30. Рязановская А.Ф. Письмо к О.Н. Емельяновой [б.д.] / А.Ф. Рязановская // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 137. – Л. 9. 31. Смирнов Н.П. Письмо к Л.Ф. Зурову от 23.05.1959 г. / Н.П. Смирнов // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 105. – Лл. 1–3. 32. Смирнов Н.П. Письмо к Л.Ф. Зурову от 20.07.1959 г. / Н.П. Смирнов // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 105. – Лл. 4–6. 33. Старова Е. Письмо к В.Н. Муромцевой-Буниной от 23.08.1958 г. / Е. Старова // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 137. – Л. 20. 34. Степун Ф.А. Л. Зуров. «Марьянка» [Рец.] / Ф.А. Степун // Библиографический бюллетень (Советская и зарубежная литература). – Мюнхен, 1959. – Май. (№ 15). – С. 15. 35. Степун Ф.А. Письмо к Л.Ф. Зурову от 14.04.1959 г. (авторизованная машинопись) / Ф.А. Степун // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 132. – Л. 3. 36. Тарасова Н.Б. Письмо к Л.Ф. Зурову от 12.08.1958 г. / Н.Б. Тарасова // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 133. – Л. 2. 37. Тарасова Н.Б. Письмо к Л.Ф. Зурову от 01.09.1958 г. / Н.Б. Тарасова // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 133. – Л. 3. 38. Ульянов Н.И. Письмо к Л.Ф. Зурову от 27.07.1958 г. / Н.И. Ульянов // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 138. – Л. 3. 39. Унковский В.Н. Л. Зуров. «Марьянка» [Рец.] / В.Н. Унковский // Возрождение. – Париж, 1958. – Тетр. 84. – С. 129–130. 132 40. Шаршун С.И. Письмо к Л.Ф. Зурову от 19.07.1958 г. / С.И. Шаршун // ДРЗ. – Ф. 3. – Ед. хр. 138. – Л. 9. 41. Шик А. Л. Зуров. «Марьянка» [Рец.] / А. Шик // Грани. – Франкфурт-наМайне, 1958. – № 38. – С. 244–245. 42. Heywood Anthony J. Catalogue of the I.A. Bunin, V.N. Bunina, L.F. Zurov and E.M. Lopatina Collections / A.J. Heywood; Leeds russian archive. University of Leeds / Edited by Richard D Davis with the assistance of Daniel Riniker. – Leeds: Leeds University Press, 2000. – P. 291–351. 133 Заключение Сегодня очевидно, что литература русской эмиграции, постепенно возвращающаяся на Родину, органически вливается в русло коренных духовных и художественных традиций русской словесности. Наследие Зурова, с одной стороны, тесно связано с художественными и мировоззренческими открытиями рубежа XIX–XX веков. В творчестве писателя отразилась глубоко прочувствованная религиозными философами начала века идея созерцания, в поэтике отчётливо прослеживаются черты неореализма. В религиозном осмыслении созерцание всегда связывалось с интуитивным постижением онтологических проблем, сакральной сущности бытия. В этом отношении Зуров близок тем писателям эмиграции, творчество которых глубинно сопряжено с православно-христианскими основами бытия и о которых современный литературовед сказал: «Именно в ХХ веке свершилось событие, значение которого трудно переоценить: русская художественная литература, светская по духу, открыла мир русского православия. Произошло это в России зарубежной. Нужны были потрясения революционных лет, тяготы изгнанничества, чтобы художники, навсегда разлученные с родиной земной, обрели родину духовную – Святую Русь»1. Творческий феномен Леонида Фёдоровича Зурова только приоткрывается современному читателю. Далеко не все периоды жизни писателя освещены документальными материалами, остаются белые пятна в его биографии. Нуждаются в научном комментировании и переиздании произведения. Не введена в оборот большая часть архивных материалов. Творчество Зурова не рассмотрено в целостности и динамике внутреннего развития, не установлено его место в литературе русского зарубежья. Глубокое изучение его наследия – дело ближайшего будущего. Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев / А.М. Любомудров. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – С. 48. 1 134