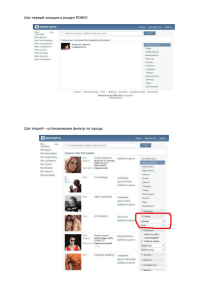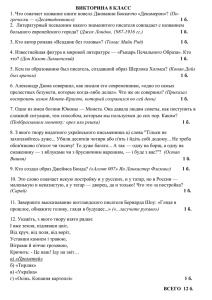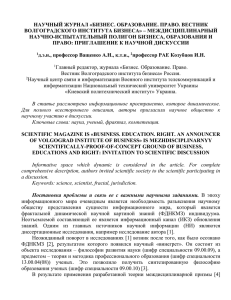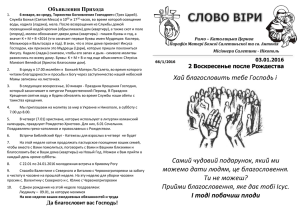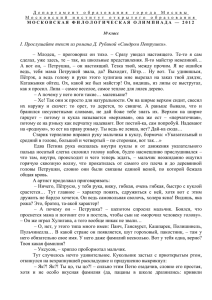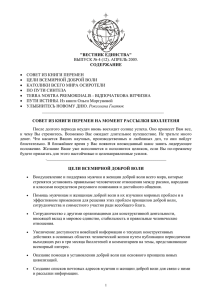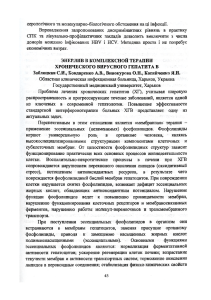СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
реклама
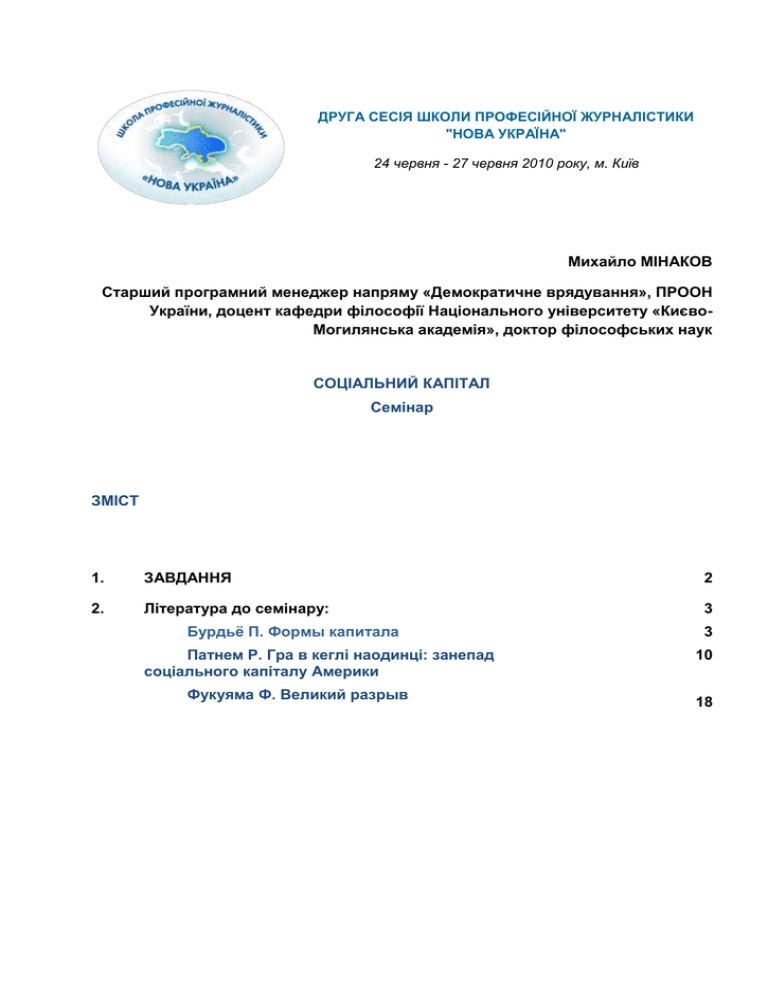
ДРУГА СЕСІЯ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ "НОВА УКРАЇНА" 24 червня - 27 червня 2010 року, м. Київ Михайло МІНАКОВ Старший програмний менеджер напряму «Демократичне врядування», ПРООН України, доцент кафедри філософії Національного університету «КиєвоМогилянська академія», доктор філософських наук СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ Семінар ЗМІСТ 1. ЗАВДАННЯ 2 2. Література до семінару: 3 Бурдьё П. Формы капитала Патнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки Фукуяма Ф. Великий разрыв 3 10 18 1. Завдання Мета: познайомити учасників семінару з концепцією «соціального капіталу» та її можливостей для застосування в аналізі суспільних подій в Україні Безпосередні завдання: 1) Дати можливість оцінити свої власні установки, що зумовлюють можливість функціонування соціального капіталу; 2) Проаналізувати концепцію «соціальний капітал» та її застосовність для розуміння суспільних процесів в Україні; 3) Розглянути процеси прийняття рішень на основі компромісу та консенсусу, а також їх застосовності для аналізу процесів колективного прийняття рішень; 4) Оцінити власний соціальний досвід та обговорити, чи потрібна для нього корекція. 2. Література до семінару: Бурдьё П. Формы капитала Капитал, в зависимости от области, в которой он функционирует, и ценой более или менее серьезных трансформаций, являющихся предпосылкой его эффективного действия в данной области, может выступать в трех основных обличиях: экономического капитала, который непосредственно и напрямую конвертируется в деньги и институционализируется в форме прав собственности; культурного капитала, который при определенных условиях конвертируется в экономический капитал и может быть институционализирован в форме образовательных квалификаций; социального капитала, образованного социальными обязательствами («связями») [connections], который при определенных условиях конвертируется в экономический капитал и может быть институционализирован, например, в форме аристократического титула.2 Сноска 2. Символический капитал - как капитал в любой его форме, представляемой (т.е. воспринимаемой) символически в связи с неким знанием или, точнее, узнаванием или неузнаванием - предполагает влияние хабитуса как социально сконструированной когнитивной способности. … Социальный капитал Социальный капитал представляет собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью [durable networks] более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания - иными словами, с членством в группе9. Последняя дает своим членам опору в виде коллективного капитала [collectively-owned capital], «репутации» [credential], позволяющей им получать кредиты во всех смыслах этого слова. Эти отношения могут существовать только в практическом состоянии, в форме материального и/или символического обмена, который способствует их поддержанию. Они также могут быть оформлены социально [socially instituted] и гарантированы общим именем (именем семьи, класса, племени, школы, партии и т. д.) или целым набором институционализирующих актов [instituting acts], призванных одновременно формировать и информировать тех, кто через них проходит; в этом случае они более или менее реально приводятся в действие, а затем поддерживаются и контролируются в процессе обмена. Будучи основанными на устойчивых [indissoluble] актах материального и символического обмена, возникновение и поддержание которых предполагает подтверждение близости [reacknowledgment of proximity], они также частично несводимы к объективным отношениям близости в физическом (географическом) или даже в данном экономическом и социальном пространстве10. Сноска 9. И здесь понятие социального капитала также не выведено путем простого теоретизирования и еще в меньшей степени - на основе расширенной аналогии экономических понятий. Оно сложилось в результате необходимости выявить принцип социальных воздействий, которые несводимы к набору свойств, принадлежащих данному агенту на индивидуальном уровне (хотя их и легко заметить на уровне отдельных агентов, на котором проводятся статистические исследования). Эти воздействия, в которых спонтанная социология с готовностью признает работу «связей» [connections], особенно заметны в тех случаях, когда различные индивиды получают слишком неравные прибыли при практически равном капитале (экономическом или культурном), - в зависимости от степени, в какой они способны мобилизовать капитал через свою близость к группе (семье, выпускникам элитной школы, клубам для избранных, аристократии и т.д.), как таковой более или менее сложившейся и более или менее богатой этим капиталом. Сноска 10. Конечно, соседские отношения могут принимать элементарную форму институционализации - как в Беарне или стране басков, где соседи, lous besis (слово, которым в старинных текстах обозначаются законные обитатели деревни, полноправные члены ассамблеи), четко определены в соответствии с ясно кодифицированными правилами и где им согласно их рангу («первый сосед», «второй сосед» и т.д.) отводятся дифференцированные функции, особенно в важных социальных церемониях (на похоронах, свадьбах и т.д.). Однако даже в этом случае реальные отношения ни в коей мере не совпадают с социально оформленными отношениями. Таким образом, объем социального капитала, коим располагает данный агент, зависит от размера сети связей, которые он может эффективно мобилизовать, и от объема капитала (экономического, культурного или символического), которым, в свою очередь, обладает каждый из тех, кто с ним связан11. Это означает, что хотя социальный капитал относительно несводим к экономическому и культурному капиталам того или иного конкретного агента или даже группы связанных с ним агентов, он никогда не остается полностью независимым от этих форм капитала, поскольку обмены, порождающие взаимное признание, предполагают подтверждение некоторого минимума объективной однородности и поскольку он (социальный капитал) оказывает мультипликативное воздействие на капитал, которым уже обладает данный агент. Сноска 11. Манеры (умение держать себя, произношение и т. д.) могут быть включены в социальный капитал, поскольку, указывая на способ своего приобретения, они свидетельствуют об изначальном членстве в более или менее престижной группе. Прибыль, приносимая членством в группе, лежит в основе солидарности, которая делает возможным ее получение12. Это не означает, что агенты сознательно преследуют цели получения прибыли как таковой, даже если речь идет о клубах для избранных, организуемых именно для того, чтобы концентрировать социальный капитал, а в результате получать полную выгоду от мультипликативного эффекта концентрации и сохранять прибыль от членства в них (материальную - как, скажем, все виды услуг, которые приносят полезные знакомства, и символическую например, прибыль от связи с редкой, престижной группой). Существование сети связей не является естественной или даже социальной данностью, сконструированной раз и навсегда в результате первоначального акта институционализации [initial act of institution] и представленной (как в случае семейной группы) генеалогическим определением родственных связей, характеризующих то или иное социальное образование. Эти связи являются продуктом нескончаемой работы по институциональному оформлению, ключевые моменты которого обозначаются соответствующими обрядами институционализации [institution rites] (часто неверно описываемыми как обряды, связанные с изменением социального статуса). Сети связей необходимы для построения и воспроизведения длительных, полезных отношений, позволяющих сохранять материальную или символическую прибыль [см. Bourdieu 1982]. Иными словами, сеть отношений является продуктом инвестиционных стратегий - индивидуальных или коллективных, сознательно или бессознательно нацеленных на установление или воспроизводство социальных отношений. Эти отношения могут непосредственно задействоваться в кратко- или долгосрочном периодах времени, когда происходит трансформация случайных связей (например, в случае отношений на рабочем месте, отношений соседства или даже родства) в связи, которые одновременно и обязательны, и избирательны и предполагают длительные обязательства, ощущаемые на субъективном уровне (например, чувства благодарности, уважения, дружбы и т. д.) или гарантированные институционально (права). Это происходит посредством таинства посвящения [consecration] - символического установления связи [constitution], производимого социальным институтом (представленным родственниками -братом, сестрой, кузеном и т.д., или рыцарем, наследником, старейшиной и т.д.). Эти связи бесконечно воспроизводятся в ходе и посредством обмена (дарами, словами, женщинами и т. д.), который этот институт стимулирует и предопределяет, производя взаимное знание и признание. Обмен трансформирует обмениваемые предметы в знаки признания [signs of recognition] и воспроизводит данную группу посредством подразумеваемого им взаимного признания членов группы и признания членства в ней. Таким же образом переутверждаются границы группы - т. е. границы, за пределами которых уже не может происходить конститутивный (порождающий связи) обмен [constitutive exchange] (торговля, совместные трапезы или свадьба). Таким образом, каждый член группы получает институционально оформленное место как страж групповых границ: поскольку критерии вхождения в группу определяются применительно к каждому новому ее члену, это может изменять группу, передвигая границы легитимного обмена посредством той или иной формы мезальянса. И совершенно логично, что в большинстве обществ подготовка и заключение браков является делом всей группы, а не только тех, кого он касается непосредственно. Введение новых членов в семью, клан или клуб влияет на определение группы в целом, на принятые в ней запреты, на ее границы и идентичность, может подвергнуть группу переопределению, изменению, трансформации [adulteration]. Когда в современных обществах семьи теряют монополию на осуществление обменов, которые могут вести к длительным отношениям (социально санкционированным, как браки, или не санкционированным), они могут сохранять контроль над этими обменами, оставаясь при этом в русле логики laissez-faire -свободного обмена. Это делается при помощи всех институтов, призванных поощрять легитимные и запрещать нелегитимные обмены посредством проведения специальных мероприятий (публичных собраний, круизов, охоты, вечеринок, приемов и т. д.), предоставления мест (в престижных жилых районах, элитных школах, клубах и т.д.) или использования занятий (престижными видами спорта, проведения комнатных игр, культурных церемоний и т.д.), которые объединяют (на первый взгляд, случайным образом) индивидов, чьи характеристики максимально близки друг другу по всем параметрам, имеющим значение для существования и выживания группы. Сноска 12. Национальные освободительные движения или националистические идеологии нельзя объяснять, ссылаясь на сугубо экономические мотивы, - ожидание прибыли, которую может принести перераспределение доли богатства в пользу граждан (национализация) и восстановление высокооплачиваемых рабочих мест [см. Breton 1962]. К этой специфически экономической ожидаемой выгоде (способной объяснить лишь национализм привилегированных классов) следует добавить совершенно реальную и непосредственную прибыль, которую приносит членство в определенной группе (социальный капитал). Она пропорционально более велика для групп, находящихся на более низких ступенях социальной иерархии («бедных белых» [poor whites]) или, точнее, для тех, кому грозит экономическое и социальное падение. Воспроизводство социального капитала предполагает непрекращающуюся работу по установлению социальных связей [sociability], непрерывные серии обменов, в ходе которых признание постоянно утверждается и подтверждается. Эта работа, предполагающая затраты времени и сил, а следовательно (прямо или косвенно), и экономического капитала, не приносит прибыли и даже не замечается, пока она не подкрепляется особой компетенцией (знанием генеалогических и реальных связей, а также навыками их использования и т.д.) и диспозицией к обретению и удержанию этой компетенции, которые сами являются неотъемлемыми частями данного капитала13. Это один из факторов, объясняющих, почему прибыльность труда по накоплению и поддержанию социального капитала увеличивается пропорционально общему размеру капитала. Поскольку социальный капитал, проистекающий из тех или иных отношений, значительно больше в том случае, если человек - субъект данных отношений - богато наделен капиталом (прежде всего социальным, но также культурным и экономическим), то обладатели унаследованного социального капитала, символизируемого известным именем, могут превращать все свои случайные знакомства в продолжительные связи. Знакомства с ними ищут именно из-за принадлежащего им социального капитала, и в силу их известности считается важным знать их лично («Я хорошо его знаю»); таким людям нет необходимости «завязывать знакомства» со «случайными лицами»; их знает большее число людей, чем знают они сами, и их усилия по установлению социальных связей [work of sociability] оказываются высокопродуктивными. Сноска 13. Есть все основания полагать, что общение [socializing] или (в более общем виде, на уровне отношений) диспозиции в очень разной мере присущи социальным классам, а в рамках того или иного класса - группам разного происхождения. Каждая группа имеет свои более или менее институционализированные формы делегирования прав [delegation], что позволяет ей концентрировать весь объем социального капитала, лежащего в основе существования группы (в первую очередь семьи или нации, но также ассоциации или партии), в руках одного агента или небольшой группы агентов и наделять их полномочиями представлять всю группу, полноправно действовать и выступать от ее имени. Они, следовательно, могут при помощи подобного коллективного капитала реализовывать властные отношения, несопоставимые с личным вкладом агента. Таким образом, на самом элементарном уровне институционализации глава семьи, отец семейства, старейший, самый уважаемый ее член негласно признается единственным человеком, наделенным правом говорить в официальных обстоятельствах от имени всей семьи. В этом случае передача прав требует, чтобы первые лица выходили вперед и защищали честь всего коллектива, когда честь самых слабых его членов оказывается под угрозой. Институционализированное делегирование прав, обеспечивающее концентрацию социального капитала, также ограничивает последствия индивидуальных ошибок, четко определяя границы ответственности и уполномочивая признанных представителей группы защищать ее как целое от дискредитации путем исключения или отлучения индивидов, нарушающих установленный порядок. Если сохранению и накоплению капитала, лежащего в основе группы, не угрожает внутренняя конкуренция за монополию ее легитимного представительства, то члены группы должны регулировать условия доступа к праву объявлять себя таковым и, более того, называться представителем всей группы (делегатом, уполномоченным, выразителем мнения и т.д.) и, тем самым, присваивать ее социальный капитал. Аристократический титул являет собой чистую форму институционализированного социального капитала, гарантирующего определенную форму длительных социальных отношений. Один из парадоксов делегирования прав состоит в том, что уполномоченный агент может осуществлять по отношению к группе (и до определенного момента против нее) ту самую власть, которую она позволяет ему сконцентрировать. (Возможно, в особенности это касается тех накладывающих ограничения ситуаций, когда уполномоченный агент формирует группу, которая, в свою очередь, создает его самого, но существует только при его посредстве.) Механизмы делегирования и репрезентации (и в театральном, и в юридическом смыслах), которые становятся явными (и проявляются более сильно, когда группа большая, а ее члены - слабы) в качестве одного из условий концентрации социального капитала (в силу того, что, помимо прочего, они позволяют многочисленным, разнообразным, рассеянным в пространстве агентам действовать в единстве, преодолевая ограничения времени и пространства), заключают в себе также и элементы хищения [embezzlement] или незаконного присвоения [misappropriation] накопленного ими капитала. Это хищение скрыто присутствует в том факте, что группа как целое может быть представлена (в различных смыслах этого слова) подгруппой, четко определенной и совершенно очевидной для всех, всем известной, всеми признанной. Речь идет о знати [nobiles], людях, «которых все знают», которые, будучи представлены посредством аристократической парадигмы, могут говорить и реализовывать властные отношения от имени всей группы. Представитель знати - это персонифицированная группа. Он носит имя группы, которой он сам дает имя (метонимия, связывающая знать с ее группой четко прослеживается, когда Шекспир называет Клеопатру «Египтом», короля Франции -«Францией», а Расин называет Пирра «Эпиром»). Именно через этого человека, через его имя и провозглашаемые им различия становятся известными и признанными члены его группы, его вассалы, а также земли и замки. Аналогично, такие явления, как «культ личности», отождествление партий, профсоюзов или движений с их лидерами, незримо присутствуют в самой логике представительства. Все складывается таким образом, чтобы обозначающий [signifier] занял место обозначаемого [signified], выразитель мнения группы -место группы, чье мнение он должен выражать. Не в последнюю очередь это происходит потому, что отличие (представителя группы), его «особенность», его заметность образуют существенную часть (если не саму сущность) его власти, которая (всецело определяясь логикой знания и признания) в основе своей является властью символической. Это происходит также и потому, что представитель - знак, эмблема - может являть собой мир этой группы и создавать миры, эффективное социальное существование которых возможно 14 только в процессе представительства и при его посредстве. Сноска 14. Само собой очевидно, что социальный капитал настолько всецело подчинен логике знания и признания, что всегда функционирует как символический капитал. Конвертации [conversions] Различные виды капитала могут проистекать из экономического капитала, однако это возможно только ценой более или менее серьезных усилий по трансформации, необходимых для производства типа власти, которая была бы эффективной в рассматриваемом поле. Например, к одним товарам и услугам экономический капитал обеспечивает непосредственный доступ без каких бы то ни было вторичных затрат. Другие можно получить только при посредстве отношений социального капитала (или социальных обязательств), которые не могут возникать мгновенно в какой-то подходящий момент до тех пор, пока не сложатся и не будут поддерживаться в течение длительного времени - как бы являясь самоцелью (и, значит, не будучи привязанными к периоду своего использования). Это достигается ценой инвестиций в общение [sociability], которое с необходимостью является долгосрочным (так, задержка с уплатой долга - один из факторов превращения чистой формы простого долга в признание не конкретизируемого чувства обязанности по отношению к кому-либо, называемого благодарностью15). В отличие от циничной (но и экономичной) прозрачности экономического обмена, в котором эквиваленты одномоментно переходят из одних рук в другие, сущностная неоднозначность социального обмена, предопределяющая неузнавание [misrecognition] (иными словами, некоторую форму доброй или дурной веры, понимаемой как самообман), предполагает гораздо более тонкую экономику времени. Сноска 15. Чтобы избежать возможного недопонимания, следует пояснить, что рассматриваемое инвестирование вовсе не обязательно воспринимается как расчетливая погоня за выгодой. Есть высокая вероятность того, что оно будет восприниматься согласно логике эмоционального инвестирования, т.е. как действие, одновременно неизбежное и бескорыстное. Это не всегда понималось историками (даже такими внимательными к символическим воздействиям, как Э.П. Томпсон [E.P. Thompson]), которые склонны рассматривать символические практики - напудренные парики и все атрибуты службы -как явные стратегии доминирования, имеющие целью преподнести себя (тем, кто стоит ниже) и представить щедрое или филантропическое поведение в качестве «расчетливых актов классовых уступок». Эти наивные рассуждения в духе Макиавелли упускают из виду то, что самые искренние, бескорыстные акты вполне могут соответствовать объективному интересу. Некоторые поля, особенно те, в которых более всего отрицаются личный интерес и всякие формы расчета (например, поля культурного производства), полностью признают (и вместе с признанием осуществляют акт [институционального] посвящения, гарантирующий успех) только тех, чье инвестирование адекватно данному полю и служит сигналом искренней преданности его основополагающим принципам. Было бы совершенно неверно описывать выбор хабитуса, который определяет истинное место художника, писателя или исследователя (предмет, стиль, манеру и т.д.), с точки зрения рациональной стратегии и циничного расчета. И это несмотря на тот факт, что, например, смену жанра, школы или специальности, квазирелигиозные переходы (совершаемые «со всею искренностью») можно интерпретировать как конвертацию капитала, направление и время совершения которой (а от них часто и зависит успех) определяются «чувством инвестирования», - чем более развитым [skillful], тем менее воспринимаемым в качестве такового. Наивность - это привилегия тех, кто чувствует себя в своем поле как рыба в воде. Одновременно следует отметить, что экономический капитал образует основу всех других типов капитала, что эти трансформированные, видоизмененные (и никогда полностью к нему не сводимые) типы экономического капитала оказывают собственное специфическое воздействие лишь в той степени, в какой они могут скрыть (в том числе и от своих обладателей) факт наличия в своей основе и в конечном счете у истоков своего воздействия экономического капитала. Реальная логика функционирования капитала, превращения одного его типа в другой и движущий ими закон сохранения [conservation] нельзя понять без того, чтобы не преодолеть два противоположных (и в равной степени неполновесных) взгляда. На одной стороне находится экономизм, игнорирующий специфическое действие других типов капитала на том основании, что любой из них в конечном итоге сводится к экономическому капиталу. На другой стороне - семиологизм (ныне представленный структурализмом, символическим интеракционизмом и этнометодологией), сводящий социальные обмены к коммуникативным явлениям и игнорирующий жесткий факт универсального сведения всех форм к экономическому основанию16. Сноска 16. Чтобы понять привлекательность данной пары противоположных позиций (каждая из которых служит оправданием для существования), требуется проанализировать неосознаваемую прибыль и прибыль неосознавания, которую они приносят интеллектуалам. Кто-то обнаружит для себя в экономизме средство обретения собственной свободы путем нивелирования роли культурного капитала и всех связанных с ним специфических видов прибыли, которые этот вид капитала приносит господствующему классу; в то время как другие могут избегать отталкивающей сферы экономического (где все напоминает о том, что их могут оценить, причем, в конечном итоге, в экономических терминах) в пользу символической сферы. (Последние просто воспроизводят в царстве символического свою стратегию, посредством которой интеллектуалы и художники пытаются заставить признать свои ценности (а тем самым, и свою собственную ценность), переворачивая закон рынка, согласно которому то, что человек имеет или зарабатывает, целиком определяет то, чего он стоит и чем является. Это показывает практика работы банков (например, такие операции, как персонализированная выдача кредита), когда выдача ссуд и фиксирование процентных ставок предваряются тщательным изучением нынешних и будущих ресурсов заемщика. Согласно определенному принципу (эквивалентному принципу сохранения энергии), прибыль в одной области неизбежно оборачивается затратами в другой. Так что понятие пустых трат [wastage] лишено смысла в рамках общей науки о хозяйстве практик. Универсальный эквивалент, мера всех эквивалентностей есть не что иное, как время, затраченное на труд (в самом широком смысле); а сохранение социальной энергии во всех видах происходит, если в каждом случае мы принимаем во внимание рабочее время, как накопленное в форме капитала, так и необходимое для трансформации одного типа капитала в другой. Так, например, было показано, что трансформация экономического капитала в социальный предполагает специфические трудовые затраты, т.е. очевидно неоплачиваемые затраты времени, внимания, заботы, участия, которые (как это видно при попытке преподнести кому-то личный подарок) ведут к трансформации сугубо денежного понимания обмена и, тем самым, самого смысла обмена в целом. С узко экономических позиций эта попытка неизбежно рассматривается как совершенно бесполезная трата. Однако с точки зрения логики социального обмена это серьезная инвестиция, прибыль от которой в конечном итоге проявится в денежной или какой-то иной форме. Аналогично, если лучшей мерой культурного капитала, несомненно, является количество времени, посвященного его приобретению, то это происходит потому, что трансформация экономического капитала в культурный предполагает затраты времени, возможные благодаря обладанию экономическим капиталом. Точнее, это происходит потому, что культурный капитал, который эффективно передается в рамках семьи, сам зависит не только от его величины (накапливаемой при помощи времени, имеющегося у домочадцев), но и от времени, которое можно использовать (в частности, в форме свободного времени матери) на его приобретение (при помощи экономического капитала, позволяющего покупать время других). Это обеспечивает передачу данного капитала и откладывает выход на рынок труда путем продолжения образования - вложения, приносящего плоды в лучшем случае в очень долгосрочной перспективе17. Сноска 17. Среди преимуществ, которые приносит капитал во всех своих видах, наиболее ценным является все увеличивающийся объем полезного времени; это становится возможным благодаря различным методам присвоения в форме услуг времени других людей. Данное преимущество может проявляться либо в форме увеличения продолжительности свободного времени (появляющегося за счет сокращения времени на производство средств существования членов домохозяйства), либо в форме более интенсивного использования этого времени. В результате последнее потребляется через обращение к труду других людей (или к средствам и методам, имеющимся только у тех, кто потратил свое время, обучаясь их использованию), что позволяет экономить время - так же, как это происходит в случае более удобного транспортного сообщения или расположения жилья поблизости от места работы. (Противоположный пример - сбережение денег бедняками: они расплачиваются за него своим временем - что-то делают своими руками, покупают вещи на распродажах и т. д.). Ни то, ни другое не относится к экономическому капиталу; именно обладание культурным капиталом позволяет извлекать большую прибыль не только из времени труда [labor-time] (путем повышения его отдачи за единицу времени), но и из свободного времени, тем самым наращивая одновременно и экономический, и культурный капитал. Возможность конвертации [convertability] различных типов капитала служит основой стратегий, направленных на обеспечение воспроизводства капитала (и позиции, занимаемой его обладателем в социальном пространстве) посредством превращений, минимизирующих затраты и потери, с которыми сопряжено само превращение (при данном состоянии отношений социальной власти). Можно дифференцировать различные типы капитала в зависимости от их способности к воспроизводству или, точнее, в зависимости от того, насколько легко они передаются (т. е. с какими затратами и насколько явно или скрыто). Объем затрат и степень открытости, как правило, изменяются в обратной пропорции. Все, что помогает скрывать экономический аспект, как правило, также увеличивает риск потери (особенно в случае передачи капитала между поколениями). Таким образом, (кажущаяся) несоразмерность различных типов капитала ведет к высокой степени неопределенности разных типов трансакций между их владельцами. Аналогично, провозглашаемый отказ от расчетов и гарантий, характеризующий обмены, нацеленные на производство социального капитала в форме более или менее долгосрочных обязательств [obligations] (обмены подарками, услугами, визитами и т. д.), неизбежно влечет за собой риск столкнуться с неблагодарностью, с отказом от признания негарантированных долгов, которые такой вид обмена призван порождать. И соответственно, высокая степень скрытости в передаче культурного капитала имеет тот недостаток (в дополнение к свойственным ему рискам потери), что академическая квалификация - его институционализированная форма - может не передаваться (подобно аристократическому титулу) и не являться предметом договоренности (подобно акциям или паям). Точнее, культурный капитал, рассеянный, непрерывный процесс передачи которого внутри семьи осуществляется без наблюдения и контроля (в результате чего кажется, что образовательная система одаривает своими наградами исключительно на основании природных способностей) и который все чаще достигает своего наиболее действенного состояния (по крайней мере, на рынке труда), только когда он валидирован образовательной системой, т.е. когда он превращен в капитал квалификаций, является предметом более скрытой, но и более рискованной формы передачи, чем экономический капитал. Когда образовательная квалификация, наделенная силой официального признания, становится условием легитимного доступа ко все большему числу позиций, особенно господствующих, образовательная система все в большей степени стремится лишить семью [domestic group] монополии на передачу власти и привилегий, а также, помимо прочего, и возможности выбора своих законных наследников из числа детей разного пола и данного при рождении статуса18. А сам экономический капитал порождает совершенно другие проблемы своей передачи - в зависимости от конкретной формы, которую он принимает. Так, согласно Р. Грассби, ликвидность торгового капитала, которая обеспечивает непосредственную экономическую власть и благоприятствует его передаче, одновременно делает его позиции и более уязвимыми, чем позиции земельной собственности (или даже недвижимости), и не способствует созданию «длинных» династий [Grassby 1970]. Сноска 18. Нет нужды объяснять, что господствующие группы [fractions], которые, как правило, придают большее значение инвестициям в образование в рамках общей стратегии диверсификации активов и инвестиций, призванной соединить безопасность с высокой отдачей, располагают множеством путей избежать школьных вердиктов [scholastic verdicts]. Прямая передача экономического капитала остается одним из основных средств воспроизводства, и воздействие социального капитала («дружеское участие», «закулисные игры», «приятельские связи»), как правило, корректирует воздействие академических санкций. Образовательные квалификации никогда не функционируют так же гладко, как денежные единицы. Они никогда полностью не отделимы от своего владельца: их ценность увеличивается пропорционально ценности владельца, причем особенно это касается наиболее гибких областей социальной структуры. Поскольку вопрос спорности присвоения встает наиболее остро именно в процессе передачи капитала (особенно в момент смены владельца - т.е. в момент, критический для любой власти), всякая стратегия воспроизводства одновременно является и стратегией легитимации, нацеленной на признание [consecrating] как эксклюзивного присвоения, так и его воспроизводства. Когда сокрушительная критика позиций господствующего класса (и принципов поддержания этих позиций), подчеркивающая произвольность передаваемых титулов и самого процесса их передачи (например, критика философов эпохи Просвещения, объяснявших произвольность данного при рождении статуса и его несоответствие естественным законам), инкорпорирована в институционализированных механизмах (например, законах наследования), нацеленных на контролирование официальной, прямой передачи власти и привилегий, владельцы капитала как никогда заинтересованы в том, чтобы обратиться к стратегиям воспроизводства, которые могут обеспечить более скрытую его передачу, используя для этого возможность взаимной конвертации различных типов капитала, хотя бы и ценой большей его потери. Таким образом, чем более затруднена официальная передача капитала, чем больше препятствий она встречает, тем более важными для воспроизводства социальной структуры оказываются последствия его скрытого оборота в форме культурного капитала. Границы образовательной системы как инструмента воспроизводства, способного скрывать собственную функцию, как правило, расширяются, а вместе с этим возрастает и степень унификации рынка социальных квалификаций, дающих право занимать редкие позиции. Примечания Becker, Gary S. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. N.Y.: National Bureau of Economic Research, 1964a. Becker, Gary S. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964b. Bourdieu, Pierre. Les rites d'institution, Actes de la recherche en sciences socials, Vol. 43 (1982). P. 58-63. Breton, A. The Economics of Nationalism, Journal of Political Economy, Vol. 72 (1962). P. 376386. Grassby, Richard. English Merchant Capitalism in the Late Seventeenth Century: The Composition of Business Fortunes, Past and Present, Vol. 46 (1970). P. 87-107. Перевод М.С. Добряковой. Научное редактирование — В.В. Радаев. Патнем Р. Гра в кеглі наодинці: занепад соціального капіталу Америки Багато дослідників нових демократій, що з’явилися упродовж останніх п’ятнадцяти років, наголошували на важливості сильного і активного громадянського суспільства для консолідації демократії. Зокрема, коли йдеться про посткомуністичні країни, і вчені, і демократичні діячі нарікали на відсутність або відмирання традицій незалежної громадської активности та на поширену тенденцію до пасивного сприйняття держави. Ті, кого хвилювала слабкість громадянських суспільств у посткомуністичному світі чи у країнах, що розвиваються, зазвичай сприймали передові західні демократії, передусім США, як альтернативну модель. Однак існують вражаючі свідчення того, що упродовж останніх кількох десятиліть резонанс американського громадянського суспільства помітно послабшав. Від часів публікації “Демократії в Америці” Алексіса де Токвіля Сполучені Штати відігравали центральну роль у систематичному вивченні зв’язків між демократією і громадянським суспільством. Почасти це наслідок того, що тенденції американського життя нерідко розглядають як провісників соціальної модернізації, але водночас також через те, що Америку традиційно вважають надзвичайно “громадянською” країною (ця репутація, як ми пізніше побачимо, не цілком безпідставна). Коли в 1830-х роках Токвіль відвідав Сполучені Штати, саме пристрасть американців до об’єднання в громадські асоціації справила на нього найбільше враження як ключ до їхньої безпрецедентної здатности зробити демократію дієвою. “Американці різного віку, із різним життєвим досвідом і характерами, – зауважував він, – завжди формують асоціації. Існують не лише комерційні та виробничі асоціації, до яких належить широкий загал, але й тисячі найрозмаїтіших об’єднань – релігійних, моральних, серйозних, пустопорожніх, дуже широких і вкрай вузьких, надзвичайно великих і дуже маленьких... Ніщо, на мій погляд, не заслуговує більшої уваги, ніж інтелектуальні та моральні асоціації в Америці” [1]. Останнім часом американські соціологи неотоквілівського спрямування виявили широкий спектр емпіричних доказів того, що на якість громадського життя і діяльність соціальних інституцій (і не лише в Америці) дійсно потужно впливають норми і мережі громадської активности. Дослідники таких сфер, як освіта, бідність у містах, безробіття, контроль за злочинністю та зловживанням наркотиками, охорона здоров’я, виявили, що у громадськи активних суспільствах можна досягти кращих результатів. Подібним чином, дослідження різноманітних економічних досягнень у різних етнічних групах в Сполучених Штатах продемонстрували важливість соціальних зв’язків усередині кожної групи. Ці результати узгоджуються з дослідженнями широкого спектру середовищ, що демонструє життєву важливість соціальних мереж для працевлаштування і багатьох інших економічних наслідків. Водночас, на перший погляд далека від цієї проблематики, сукупність досліджень із соціології економічного розвитку також зосереджує увагу на ролі соціальних мереж. Частина цих досліджень стосується країн, які розвиваються, інші висвітлюють особливо успішний “мережевий капіталізм” у Східній Азії [2]. Однак, навіть у менш екзотичних західних економіках дослідники відкрили надзвичайно ефективні, надзвичайно гнучкі “індустріальні райони”, які базуються на мережі співпраці між робітниками і малими підприємцями. Далекі від того, щоби бути палеоіндустріальними анахронізмами, ці густі міжособистісні та міжорганізаційні мережі пронизують ультрамодерні виробництва, від високотехнологічної Силіконової Долини до високої моди Бенетону. Норми і мережі громадської активности також серйозно впливають на роботу чинного уряду. Таким, принаймні, був основний висновок мого власного двадцятирічного квазі-експериментального вивчення локальних органів влади у різних реріонах Італії [3]. Хоча всі ці реріональні уряди на папері виглядали ідентичними, їхні рівні ефективности драматично різнилися. Систематичне дослідження показало, що якість управління визначалася давніми традиціями громадської активности (або її відсутністю). Виборча авдиторія, коло читачів газет, членство в хорових товариствах і футбольних клубах – такими були критерії успішного реріону. Фактично, історичний аналіз наводив на думку, що передумовою для цього були мережі організованої взаємности та громадської солідарности, далекі від епіфеномену соціоекономічної модернізації. Безсумнівно, що механізми, завдяки яким громадська активність і соціальні зв’язки дають такі результати – кращі школи, швидший економічний розвиток, нижчий рівень злочинности і ефективніший уряд – мають складну структуру. Ці стисло викладені відкриття ще вимагають подальшого підтвердження, а можливо й пояснення, але паралелі між сотнями емпіричних досліджень у десятках різних дисциплін і сфер вражають. Соціологи, які провадять дослідження у низці різних сфер, для кращого розуміння цих явищ нещодавно запропонували єдину структуру, яка спирається на поняття соціального капіталу [4]. Аналогічно до понять фізичного і людського капіталу – засобів і умінь, які підвищують індивідуальну продуктивність – “соціальний капітал” стосується рис соціальної організації, як-от мережі, норми і соціальне довір’я, що полегшують координацію і співпрацю задля взаємної вигоди. Через цілу низку причин легшим є життя в громаді, яка диспонує великим фондом соціального капіталу. По-перше, мережі громадської активности сприяють здоровим нормам взаємности та заохочують прояви соціального довір’я. Такі мережі полегшують координацію і комунікацію, посилюють довір’я і, таким чином, дозволяють вирішувати дилеми колективної дії. Коли розв’язання економічних і політичних проблем засновується на густих мережах соціальної взаємодії, зменшуються стимули для опортунізму. Водночас, мережі громадської активности втілюють у собі попередній успіх співпраці, який може служити культурним шаблоном для майбутньої співпраці. Зрештою, густі мережі взаємодії потенційно розширюють самоусвідомлення учасників, перетворюючи “я” у “ми”, або (мовою раціональних теоретиків) підсилюючи “смак” учасників до колективного блага. Я не маю наміру робити тут огляд (і ще меншою мірою додавати щось нового до) теорії соціального капіталу. Натомість, я скористаюся основною передумовою цієї стрімко зростаючої сукупности досліджень – що соціальні зв’язки і громадська активність тотально впливають на наше громадське життя, а також на наші приватні перспективи – як точку відліку для емпіричного огляду тенденцій в соціальному капіталі сучасної Америки. Тут я цілком зосереджуюсь на американському випадку, хоча тенденції, які я зображаю, можуть до певної міри бути характерними для багатьох сучасних суспільств. Що сталося з громадською активністю? Почнемо з добре знаного свідчення про змінні моделі політичної участи, насамперед тому, що воно має безпосереднє відношення до питань демократії у вузькому сенсі. Розгляньмо відомий факт спаду кількости учасників національних виборів упродовж останніх трьох десятиліть. Від стосовно високої позначки на початку 1960-х, кількість виборців до 1990 року спала приблизно на чверть; десятки мільйонів американців знехтували традиційною готовністю своїх батьків долучитися до найпростішого акту громадського волевияву. Подібні тенденції також притаманні учасникам виборів у окремих штатах і місцевостях. Але американці не лише дедалі частіше оминають кабінку для голосування. Серія ідентичних опитувань, які Організація Роупера проводить упродовж останніх двох десятиліть десять разів на рік, виявили, що починаючи від 1973 року кількість американців, які повідомляють, що “в минулому році” вони “відвідали громадські збори у справах міста або школи”, знизилася більш ніж на третину (від 22% у 1973 до 13% у 1993 році). Подібні (або й більші) стосовні спади активности очевидні у відповідях на запитання про відвідування політичних мітингів або промов, допомогу в діяльності комітетів якихось місцевих організацій та роботу для політичної партії. Майже за кожним показником безпосередня залученість американців у політику і уряд стабільно і стрімко спадає упродовж життя останнього покоління, незважаючи на той факт, що середній рівень освіти – найкращий стимулятор політичної участи на індивідуальному рівні – за цей період стрімко зріс. Щороку упродовж одного, а то й двох, десятиліть чергові мільйони американців самоусунулися від справ своїх громад. Не випадково американці впродовж цього ж періоду психологічно вивільнилися від політики та уряду. Відсоток громадян, які відповідають, що вони “вірять урядові у Вашинртоні” тільки “іноді” або “майже ніколи” невпинно зростав, сягнувши від 30% у 1966 до 75% у 1992 році. Ці тенденції, звичайно ж, добре відомі, і, коли розглядати їх поодинці, то може видатись, що їх легко витлумачити суто політичними причинами. Можливо, що ціла низка політичних трагедій і скандалів 1960-х (убивства, В’єтнам, Вотерґейт, Іранрейт тощо) спровокувала в американців зрозумілу огиду до політики та уряду, а це, в свою чергу, мотивувало їхнє самоусунення. Я не сумніваюся, що ця звична інтерпретація заслуговує належної поваги, але її обмеженість стає очевидною, коли ми вивчатимемо тенденції громадської активности ширшого характеру. Наше дослідження членства американців у різних організаціях варто почати з побіжного огляду сукупних результатів Загального Соціологічного Огляду, проведеного із використанням наукової методології на загальнонаціональній вибірці; це дослідження повторювали 14 разів упродовж останніх двох десятиліть. Церковні громади складають найпоширеніший тип організацій, в які об’єднуються американці; такі групи особливо популярні серед жінок. Інші типи організацій, до яких часто входять жінки, – шкільні батьківські комітети (здебільшого асоціації батьків і учителів), спортивні групи, фахові та літературні товариства. Серед чоловіків стосовно популярні спортивні клуби, профспілки, фахові товариства, братства, групи ветеранів і службові клуби. Релігійна приналежність – найпоширеніший чинник асоціативного членства серед американців. І дійсно, за багатьма показниками Америка залишається (навіть більшою мірою, аніж у часи Токвіля) надзвичайно “церковним” суспільством. Скажімо, Сполучені Штати мають більше культових споруд на душу населення, ніж будь-яка інша нація на Землі. Однак схоже, що релігійні почуття в Америці стають дещо меншою мірою прив’язаними до інституцій, а більшою – до самоідентифікації. Як змінилися ці складні перехресні течії упродовж останніх трьох або чотирьох десятиліть з точки зору залучености американців в організовану релігію? Загальна модель зрозуміла: у 1960-х відбувся значний спад фіксованого щотижневого відвідування церкви – від близько 48% наприкінці 1950-х до близько 41% на початку 1970-х років. Відтоді спад припинився або (згідно з деякими дослідженнями) триває й надалі. Водночас, дані Загального Соціального Огляду свідчать про поміркований спад упродовж останніх 20 років кількости членів усіх церковних громад. Можна констатувати, що від 1960-х років мережева участь американців у релігійних службах і в церковних громадах дещо знизилася (ймовірно, на одну шосту частину). Упродовж багатьох років членство у профспілках було одним з найпоширеніших у середовищі американських робітників. Проте кількість членів спілок в останні чотири десятиліття скорочується, а найстрімкіший спад спостерігався між 1975 і 1985 роками. Від середини 1950-х, коли кількість членів спілок була найвищою, частка організованих несільськогосподарських робітників у Америці знизилася більш ніж наполовину, від 32,5% у 1953 до 15,8% у 1992 році. На сьогодні фактично увесь вибухоподібний приріст кількости членів спілок, пов’язаний із Новим Курсом Рузвелта, зійшов нанівець. Тепер спілчанська солідарність переважно живе у спогадах людей похилого віку [5]. Асоціація батьків і вчителів (PTA) була дуже важливою формою громадської активности в Америці XX століття через те, що участь батьків у освітньому процесі є особливо продуктивною формою соціального капіталу. Тому тривожить той факт, що кількість членів батьківсько-вчительських організацій корінним чином знизилася упродовж життя останнього покоління від більш ніж 12 мільйонів у 1964 році до заледве 5 мільйонів у 1982, а тепер знову дещо зросла до близько 7 мільйонів. Відтак повернемося до даних про кількість членів (і вступ до) громадських організацій і братств. Ці дані виявляють деякі разючі моделі. По-перше, членство в традиційних жіночих групах знижувалося більш-менш стабільно від середини 1960-х років. Наприклад, кількість членів національної Федерації Жіночих Клубів знизилася більш ніж наполовину (59%), починаючи від 1964 року, в той час як кількість членів Ліги Жінок-Виборців (LWV) від 1969 року зменшилася на 42% [6]. Подібні скорочення очевидні також, коли йдеться про кількість волонтерів у провідних громадських організаціях, як-от у бойскаутів (зменшення на 26% від 1970 року) і Червоному Хресті (зменшення на 61% від 1970 року). Але, може, волонтери просто перейшли до інших організацій? Факти щодо “регулярного” (на противагу до випадкового) волонтерства опубліковані в Оглядах Руху Населення Департаменту Праці за 1974 і 1989 роки. Вони дозволяють стверджувати, що за останні 15 років серйозне волонтерство знизилося приблизно на одну шосту, від 24% серед дорослих у 1974 до 20% у 1989 році. Маси помічників Червоного Хреста і лідерів бойскаутських загонів, яких тепер бракує в цих організаціях, звичайно ж, не були компенсовані рівним числом новобранців у іншому місці. Кількість членів братств також суттєво знизилася у 1980-90-х роках, зокрема в таких групах як Леви (на 12% від 1983 року), Лосі (на 18% від 1979 року), Святителі (на 27% від 1979 року), Простаки (на 44% від 1979 року) і Мулярі (на 39% від 1959 року). Загалом, після стійкого зростання упродовж більшої частини цього століття, багато найбільших громадських організацій зазнали за останні 10-20-ть років раптового, значного і майже одночасного спаду кількости членів. Один з найпримхливіших, а водночас шокуючих фактів щодо соціальної пасивности у сучасній Америці, про який я дізнався, такий: як ніколи багато американців грають у кеглі, але гра в організованих лігах упродовж останнього десятиліття різко скоротилася. Між 1980 і 1993 роками загальна кількість гравців у Америці зросла на 10%, тоді як кількість гравців у лігах зменшилася на 40%. (Аби цей приклад не видавався тривіальним, варто зауважити, що близько 80 мільйонів американців зіграли в 1993 році в кеглі принаймні один раз, це приблизно втричі більше, ніж голосувало в 1994 році на виборах до конгресу, і приблизно та ж кількість, яка заявляє, що регулярно вчащає до церкви. Навіть після спаду 1980-х років близько 3% дорослих американців регулярно грали в лігах.) Зростання кількости прихильників сольної гри поціляє в інтереси власників кегельбанів, позаяк ті, хто грають як члени ліг, споживають втричі більше пива і піци, ніж сольні гравці, а гроші в кеглях заробляються на пиві і піці, а не на м’ячах і черевиках. Однак, ширший соціальний сенс гри в кеглі полягає у соціальній взаємодії, ба навіть у випадкових розмовах за пивом і піцою, чого сольні гравці позбавлені. Не так важливо, чи більшість американців уважають гру в кеглі важливішою за голосування на виборах, але становище у кеглярських командах яскраво ілюструє ще одну вмираючу форму соціального капіталу. Зустрічні тенденції Однак на цій стадії ми зіштовхуємося із серйозним контрарґументом. Можливо, на зміну традиційним формам громадських об’єднань, чий занепад ми простежили, прийшли нові, сповнені життя організації? Скажімо, національні екологічні організації (як-от Клуб Гірського Пасма) та феміністичні групи (Національна Жіноча Організація) стрімко розрослися впродовж 1970-80-х років і тепер налічують сотні тисяч членів, які регулярно сплачують внески. Ще яскравішим прикладом є Американська Асоціація Пенсіонерів (AART), яка дуже показово зросла від 400 тис. членів у 1960 році до 33 мільйонів у 1993, ставши (після Католицької Церкви) найбільшою громадською організацією у світі. Загальнонаціональні лідери цих організацій належать до тих лобістів, яких найбільше бояться у Вашинґтоні, значною мірою завдяки величезним спискам адрес їхніх відданих членів. Ці нові організації масового членства безумовно мають велику політичну вагу. Однак, з точки зору суспільних зв’язків вони настільки відмінні від класичних “вторинних асоціацій”, що нам вочевидь доведеться вигадувати нову наліпку – можливо, “третинні асоціації”. Для переважної більшости їхніх членів єдиний акт членства полягає у виписуванні чека для внесків або в нерегулярному читанні інформаційного бюлетеня. Мало хто відвідує збори таких організацій, більшість вважає за мало ймовірне коли-небудь зумисно зустрітися з іншими членами. Стосунки між будьякими двома членами Клубу Гірського Пасма мало нагадують стосунки між двома членами клубу садівників, вони радше схожі на зв’язок між двома фанами Червоних Шкарпеток (чи будь-яких двох відданих власників Хонди): обидва вболівають за одну й ту ж команду і мають подібні інтереси, але вони навіть не підозрюють про існування один одного. Коротше кажучи, вони асоціюють себе із спільними символами, спільними лідерами, може навіть спільними ідеалами, але аж ніяк не один із одним. Теорія соціального капіталу твердить, наче асоціативне членство повинно, скажімо, збільшувати соціальну довіру, але таке припущення дуже малою мірою стосується членства у третинних асоціаціях. З точки зору суспільної пов’язаности, Екологічний Фонд Захисту і ліга гравців у кеглі належать до різних категорій. Якщо зростання третинних організацій є першою потенційною (але не обов’язково вагомою) антитезою до моїх констатацій, то друга зустрічна тенденція виявляється у дедалі більшій вазі неприбуткових організацій, особливо неприбуткових сервісних агентств. Цей т.зв. третій сектор включає все: від Оксфаму і Столичного Музею Мистецтв до Фундації Форда та Клініки Майо. Іншими словами, хоча більшість вторинних організацій є неприбутковими, більшість неприбуткових агентств не є вторинними асоціаціями. Ідентифікувати тенденції розростання неприбуткового сектора із тенденціями розширення соціальних зв’язків було б іще однією фундаментальною концептуальною помилкою [7]. Третя потенційна зустрічна тенденція набагато доречніша для оцінювання соціального капіталу і громадської активности. Деякі компетентні дослідники стверджують, що за останні кілька десятиліть відбулося стрімке розширення “груп підтримки” різних типів. Роберт Вутнов повідомляє, що аж 40% усіх американців стверджують, наче вони “у даний момент входять до невеликої групи, яка регулярно зустрічається і підтримує або піклується про тих, хто до неї належить” [8]. Чимало таких груп мають відношення до релігії, але не обов’язково. Наприклад, близько 5% опитаних з національної вибірки стверджують, що регулярно беруть участь у групах “самодопомоги”, як-от групах анонімних алкоголіків, і приблизно стільки ж кажуть, що належать до груп обговорення книжкових новинок і клубів за інтересами. Групи, описані респондентами Вутнова, безперечно репрезентують важливу форму соціального капіталу, і на них варто зважати в будь-якому серйозному аналізі тенденцій суспільних пов’язаностей. З іншого боку, вони, звичайно, не відіграють такої ж ролі, як традиційні громадські асоціації. Як наголошує Вутнов, “малі групи не можуть настільки ж ефективно зміцнювати громаду, як того б хотіли їхні захисники. Деякі малі групи лише створюють нагоду для окремих осіб зосередити на собі увагу в присутності інших. Соціальна угода, яка пов’язує членів групи разом, є лише найслабшим із обов’язків. Приходьте, коли матимете час. Говоріть, якщо вам цього хочеться. Поважайте думку кожного. Ніколи не критикуйте. Ідіть без галасу, якщо вас щось не влаштовує... Нам може видатися, що [ці малі групи] насправді підмінюють сім’ї, сусідство і приналежність до ширшої громади, які можуть вимагати довічних зобов’язань, коли, фактично, вони цього не роблять” [9]. Усі ці три потенційні зустрічні тенденції – третинні організації, неприбуткові організації та групи взаємопідтримки – необхідно якось співставити із розмиванням традиційних громадських організацій. Один зі шляхів – проконсультуватися із Загальним Соціальним Оглядом. У межах усіх освітніх категорій загальна кількість членів асоціацій суттєво знизилась між 1967 і 1993 роками. Серед студентів коледжів середня кількість групових членств на особу впала від 2,8 до 2,0 (26% спад); серед випускників вищої школи – впала від 1,8 до 1,2 (32%); а серед тих, хто має менш ніж 12 років освіти – впала від 1,4 до 1,1 (25%). Іншими словами, на всіх освітніх (а отже й соціальних) рівнях американського суспільства, якщо брати до уваги усі види групових членств, середня кількість членів асоціацій зменшилась за останні чверть століття приблизно на чверть. Без даних про рівень освіти ця тенденція не настільки виразна, але основна ідея така: більше, аніж будь-коли раніше, американці перебувають у таких соціальних обставинах, які заохочують асоціативну активність (вища освіта, середній вік тощо), проте виявляється, що загальна кількість асоціативних членів стоїть на місці або спадає. Якщо ми поділимо групи за різновидами, то низпадаюча тенденція буде найвиразніше помітна у церковних громадах, профспілках, братствах, організаціях ветеранів і групах допомоги школі. Натомість, кількість членів у фахових асоціаціях піднялася за ці роки, хоча й менше, ніж можна було очікувати, якщо взяти до уваги різке зростання освітнього та професійного рівня. По суті аналогічні тенденції притаманні і для чоловіків, і для жінок. Коротше кажучи, наявні докази підтверджують наш попередній висновок: за життя останнього покоління американський соціальний капітал у формі громадських асоціацій зазнав суттєвої руйнації. Добросусідство і соціальна довіра Вище я зазначив, що найдостовірнішим кількісним свідченням про тенденції суспільних пов’язаностей є формальні інституції, як-от кабіна для голосування, збори профспілки чи PTA. Але один яскравий виняток настільки широко обговорюється, що не потребує великих коментарів: найфундаментальнішою формою соціального капіталу є сім’я і багато свідчень про послаблення зобов’язань всередині сім’ї (як розширеній, так і малій) добре відомі. Звичайно, ця тенденція повністю узгоджується із нашою тезою соціальної декапіталізації і може допомогти її пояснити. Інший аспект неформального соціального капіталу, щодо якого ми маємо доволі надійні дані за часовими зрізами, – відносини між сусідами. У кожному Загальному Соціальному Огляді від 1974 року респондентів запитували: “Як часто ви влаштовуєте вечірки з вашим сусідом?” Пропорція американців, які спілкуються зі своїми сусідами частіше ніж один раз на рік, повільно, але неухильно знижується останні два десятиліття: від 72% у 1974 до 61% у 1993 році. (З іншого боку, виявляється, що спілкування з “друзями, які не живуть з вами по сусідству” зростає; ця тенденція може відображати зростання соціальних зв’язків, які виникли на робочому місці). Американці також стали менш довірливими. Відсоток американців, які переконані, що більшості людей можна довіряти, зменшився більш ніж на третину між 1960 роком, коли 58% обирали цю відповідь, і 1993 роком, коли зголосилися тільки 37%. Подібна тенденція очевидна для усіх освітніх груп; дійсно, через те, що соціальна довіра також корелюється з освітою, і через те, що освітній рівень різко піднявся, загальний спад соціальної довіри є навіть ще очевиднішим, якщо ми візьмемо освіту за точку відліку. Обговорюючи тенденції в суспільних пов’язаностях та громадській активності, ми припускали, що всі перелічені форми соціального капіталу сприяють налагодженню відносин між окремими особами, і це справді так. Члени асоціацій, на противагу тим, хто не входить до громадських об’єднань, більше схильні до участи в політиці, до проведення вільного часу із сусідами, до демонстрування соціальної довіри тощо. Тісна взаємозалежність між соціальною довірою і асоціативним членством вірна не тільки в різні періоди і для різних індивідів, але й у різних країнах. Дані Огляду Світових Цінностей за 1991 рік демонструють наступне [10]: 1) У 35 країнах з цього огляду тісно взаємопов’язані соціальна довіра і громадська активність; чим більша щільність асоціативного членства в суспільстві, тим більшою є довіра громадян. Довіра і активність – дві грані того самого базового принципу – соціального капіталу. 2) Америка все ще займає стосовно високе місце за перехресними національними стандартами на обох цих вимірах соціального капіталу. Навіть у 1990-х, після кількох десятиліть занепаду, американці є більш довірливими і активнішими, аніж мешканці більшости інших країн світу. 3) Однак тенденції минулої чверті століття призвели до явного зниження рівня Сполучених Штатів у міжнародному табелі соціального капіталу. Нещодавній спад рівня американського соціального капіталу був настільки серйозним, що, коли тим часом якась інша країна не змінить своєї позиції, ще чверть століття змін у тому ж темпі поставлять Сполучені Штати приблизно на один рівень із такими країнами, як Південна Корея, Бельгія чи Естонія. Занепад американського соціального капіталу упродовж двох наступних поколінь поставить США поруч із сучасними Чилі, Портуґалією та Словенією. Чому занепадає американський соціальний капітал? Як ми побачили, в Америці за останні 2-3 десятиліття трапилося щось таке, що зменшило громадську активність і суспільну пов’язаність. Чим би могло бути оте “щось”? Тут є кілька можливих пояснень, але спершу низка цифр. Перехід жінок у виробничу сферу. Упродовж останніх 2-3-х десятиліть мільйони американських жінок полишили домашню працю задля оплачуваної роботи. Це найперша, однак не єдина, причина того, чому за останні роки суттєво зріс робочий тиждень середнього американця. Видається надзвичайно правдоподібним, що ця соціальна революція зменшила кількість часу і енергії, необхідних для розбудови соціального капіталу. Для деяких організацій, як-от PTA, Ліга Жінок-Виборців, Федерація Жіночих Клубів і Червоний Хрест, це безсумнівно стало однією з найважливіших проблем. Схоже, що найрізкіший спад у громадській участі жінок відбувся в 1970-х роках; кількість членів у таких “жіночих” організаціях, як вищезгадані, фактично зменшилася наполовину у порівнянні з кінцем 1960-х. І навпаки, найбільший спад участи в чоловічих організаціях відбувся приблизно через десять років; загальне зменшення членства пересічної організації сьогодні становить приблизно 25%. З іншого боку, цифрові дані наштовхують на думку, що сукупний спад для чоловіків фактично такий сам, як і для жінок. Теоретично, звичайно, можливо, що зменшення кількости чоловіків-членів громадських організацій зумовлене наслідками жіночої емансипації, скажімо необхідністю мити посуд, який назбирався в хаті, але вивчення співвідношення часу і бюджету дозволяє виснувати, що більшість чоловіків, у яких дружини працюють, взяли на себе лише незначну частину хатньої роботи. Коротше кажучи, схоже на те, що ерозія соціального капіталу зумовлена іще чимось, окрім жіночої революції. Мобільність: гіпотеза “пересаджування”. Численні дослідження організаційної активности показали, що житлова стабільність і такі пов’язані з нею явища, як власність на дім, явно асоціюються з більшою громадською активністю. Мобільність, як і у випадку частого пересаджування рослин, призводить до руйнування кореневищ, і потрібен час для того, щоб викорінена особа пустила нове коріння. Схоже, що й справді автомобіль, субурбанізація та рух у напрямку Сонячного Поясу зменшили соціальну вкоріненість середнього американця, але фундаментальна складність цієї гіпотези очевидна: найпереконливіші дані свідчать, що житлова стабільність і кількість власників будинків у Америці стабільно зростали від 1965 року, і тепер вони безумовно вищі, аніж упродовж 1950-х, коли громадська активність і суспільна пов’язаність за нашими мірками були явно вищими. Інші демографічні перетворення. Починаючи з 1960-х років американську родину трансформувала низка додаткових змін – менше одружень, більше розлучень, менше дітей, нижчі реальні заробітні плати тощо. Кожна з цих змін могла би пояснити певне послаблення громадської активности, оскільки одружені батьки із середнього класу загалом більше залучені у суспільне життя, аніж інші люди. Окрім того, зміни в рівні життя, зумовлені розвитком американської економіки у ці роки (ілюстрацією цих трансформацій може послужити заміна бакалійної крамниці на розі супермаркетом, а віднедавна супермаркету – електронною крамницею в Інтернеті, куди можна навідатися, не виходячи з дому; чи заміна підприємств, розташованих на терені громади, аванпостами далеких транснаціональних корпорацій) безумовно розмили матеріальну і навіть фізичну основу для громадської активности. Технологічна трансформація дозвілля. Існують причини вважати, що глибинні технологічні тенденції радикально “оприватнюють” або “індивідуалізують” наше використання вільного часу і таким чином руйнують багато можливостей для формування соціального капіталу. Найочевидніший і можливо наймогутніший інструмент цієї революції –це телебачення. Дослідження часу і бюджету в 1960-х роках показало, що зростання кількости годин, проведених біля телевізора, завадило усім іншим змінам, коли йдеться про те, як американці проводять дні та ночі. Телебачення зробило наші громади (або радше те, що ми вважаємо нашими громадами) ширшими і плиткішими. Якщо говорити мовою економіки, електронна технологія дає змогу повніше задовольнити індивідуальні смаки, але коштом позитивних соціальних феноменів, пов’язаних із примітивнішими формами розваги. Та ж логіка спрацювала, коли на зміну водевілю прийшло кіно, а на зміну кіно – VCR. Нові шоломи “віртуальної реальности”, які ми незабаром одягнемо, розважаючись у повній ізоляції, є всього лиш дальшим продовженням цієї тенденції. Чи вбиває технологія клин між нашими індивідуальними і нашими колективними інтересами? Це питання, яке, здається, варто дослідити більш систематично. Що робити? Останній притулок для соціолога-негідника – вимагати подальших досліджень. Проте, я не можу утриматися і не запропонувати деяких подальших контурів студій. Ми повинні класифікувати виміри соціального капіталу, який, безумовно, не є одномірною концепцією, незважаючи на мову (навіть в цьому есе), яка має на увазі протилежне. Які типи організацій і мереж найефективніше втілюють – або витворюють – соціальний капітал, в сенсі взаємної обопільности, розв’язання дилем колективної дії та розширення соціальних ідентичностей? У цьому есе я наголошував на щільності асоціативного життя. У попередній праці я зосереджував увагу на структурі мереж, переконуючи, що “горизонтальні” зв’язки представляли продуктивніший соціальний капітал, аніж вертикальні зв’язки [11]. Інший набір важливих питань включає макросоціологічні перехресні течії, що можуть перетинатися з тенденціями, які тут описані. Як впливатимуть, наприклад, електронні мережі на соціальний капітал? Як на мене, збори в електронному форумі не є еквівалентом зборів у кегельбані – або навіть у барі, – але серйозне емпіричне дослідження все ж необхідне. А як щодо розвитку соціального капіталу на робочому місці? Чи зростає він у контрапункті до спаду громадської активности, відображаючи певну соціальну аналогію до першого закону термодинаміки – соціальний капітал ані не створюється, ані не знищується, тільки перерозподіляється? Чи тенденції, описані у цьому есе, являють собою втрату ваги? Завершена оцінка змін у американському соціальному капіталі за останню чверть століття повинна також враховувати як витрати, так і користь від залучення у життя громади. Ми не повинні романтизувати містечкове громадське життя середнього класу в Америці 1950-х років. На додаток до згубних тенденцій, згаданих у цьому есе, нещодавні десятиліття дали нам свідчення помітного зменшення нетерпимости, а можливо й відвертої дискримінації, а ці сприятливі тенденції можуть бути тісно переплетені із розмиванням традиційного соціального капіталу. Окрім того, збалансований розгляд праць на тему соціального капіталу покликаний примирити візію цього підходу із безперечною візією, яку пропонують Манкур Олсон та інші, які наголошують, що тісно переплетені соціальні, економічні та політичні організації схильні до непродуктивної монополізації й до того, що політекономи називають “пошуками прибутку”, а звичайні люди – корупцією [12]. Зрештою, можливо насамперед, нам потрібно творчо дослідити, яким чином державна політика впливає (або могла би вплинути) на формування соціального капіталу. У деяких відомих випадках державна політика знищила надзвичайно ефективні соціальні мережі і норми. Американська політика очищення міських нетрів у 1950-60-х роках, наприклад, відновила фізичний капітал, але завдала важкого удару існуючому соціальному капіталові. Консолідація сільських поштових відділень і малих шкільних районів обіцяла адміністративні та фінансові вигоди, але повний обрахунок наслідків цих політичних курсів для соціального капіталу дає негативніший вердикт. З іншого боку, такі ініціативи, як система окружних сільськогосподарських посередників, громадські коледжі та податкові пільги для добродійних вкладів, ілюструють, що уряд може заохотити формування соціального капіталу. Навіть нещодавня пропозиція в Сан Луїс Обіспо в штаті Каліфорнія вимагати, щоб усі нові будинки мали веранди, ілюструє прагнення уряду впливати на те, де і які мережі формуються. Поняття “громадянського суспільства” відігравало центральну роль у нещодавніх всесвітніх дебатах про передумови демократії та демократизації. У нових демократіях це поняття дозволило належним чином зосередити увагу на потребі заохочувати активне громадське життя на землях, за традицією несхильних до самоврядування. У сформованих демократіях, як на сміх, дедалі більше число громадян ставить під сумнів ефективність їхніх громадських установ у той сам час, коли ліберальна демократія перемогла і ідеологічно, і ґеополітично. Принаймні в Америці є причина підозрювати, що це демократичне безладдя може бути пов’язане із широким і тривалим розмиванням громадської активности, яке почалося чверть століття тому. Першим на нашому науковому порядку денному повинно постати питання, чи аналогічне розмивання соціального капіталу може відбутися в інших передових демократія, можливо в різних інституційних і поведінкових формах? Першим на порядку денному Америки повинно постати питання про те, як перетворити ці ворожі тенденції в суспільну пов’язаність, таким чином відновлюючи громадську активність і громадське довір’я. Переклала Олена Фешовець Опубліковано у: World Politics. - Vol. 49, Nr 3. - 1997. - P. 65-78. Зноски та посилання: [1] Alexis de Tocqueville. Democracy in America, ed. J.P.Maier, trans. George Lawrence.– Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1969.– P. 513-17. [2] Про соціальні мережі та економічний розвиток див.: Milton J. Esman and Norman Uphoff. Local Organizations: Intermediaries in Rural Development. – Ithaca: Cornell University Press, 1984. – P. 15-42, 99-180; Albert O. Hirschman. Getting Ahead Collectively: Grassroots Experiences in Latin America. – Elmsford, N.Y.: Pergamon Press, 1984. – P. 42-77. Про Схід Азії див.: Gustav Papanek. The New Asian Capitalism: An Economic Portrait // Peter L. Berger and Hsin-Huang Michael Hsiao eds. In Search of an East Asian Development Model. – New Brunswick, N.J.: Transaction, 1987. – P. 27-80; Peter Evans. The State as Problem and Solution: Predation, Embedded autonomy and Structural Change // Stephan Haggard and Robert R. Kaufman eds. The Politics of Economic Ajustment. – Princeton: Princeton University Press, 1992. – P. 139-181; Gary D. Hamilton, William Zeile and Wan-Jin Kim. Network Structure of East Asian Economies // Steart R. Clegg and S. Gordon Redding eds. Capitalism in Contrasting Cultures. – Hawthorne, N.Y.: De Gruyter, 1990. – P. 105-129. [3] Robert D. Putnam. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.– Princeton: Princeton University Press, 1993. [4] Джеймс Коулмен [James S. Coleman] зробив найбільший внесок у розвиток теоретичної концепції “соціального капіталу”. Див. його Social Capital in the Creation of Human Capital // American Journal of Sociology. Supplement. – 94. – 1988. – P. S95S120; його ж The Foundations of Social Theory. – Cambridge: Harvard University Press, 1990. – P. 300-321. Див. також: Mark Granovetter. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness // American Journal of Sociology. – 91. – 1985. P. 481510; Glenn C. Loury. Why Should We Care About Group Inequality? // Social Philosophy and Policy. – 5. – 1987. – P. 249-271; Robert D. Putnam. The prosperous Community: Social Capital and Public Life // American Prospect. – 13. – 1993. – P. 35-42. Наскільки мені відомо, першим ученим, котрий ужив термін “соціальний капітал” у сучасному сенсі була Джейн Джекобс [Jane Jecobs] у книзі The Death and Life of Great American Cities. – N.Y.: Random House, 1961. – P. 138. [5] Було б надто спрощено пояснювати колапс американського профспілкового руху лише політичними причинами, оскільки таке трактування виразно суперечить фактові, що неухильне скорочення членства почалося за шість років до початку нападок адміністрації Рейґана на PATCO. Дані Загального Соціального Огляду свідчать про більш ніж 40% зниження задекларованого членства у профспілках у період між 1975 і 1991 роками. [6] Дані LWV, доступні упродовж тривалого періоду часу, демонструють цікаві моделі: стрімкий спад у часи Великої Депресії, стійке і неухильне зростання після II Світової війни, коли у 1945-1969 роках відбулося потроєння кількости членів, та занепад після 1969 року. [7] Cf. Lester M. Salamon. The Rise of the Nonprofit Sector // Foreign Affairs. – 73. – 1994. – P. 109-122. Див. також: Salamon. Partners in Public Service: The Scope and Theory of Government-Nonprofit Relations // Walter W. Powell ed. The Nonprofit Sector: A Research Handbook. – New Haven: Yale University Press, 1987. – P. 99-117. [8] Robert Wuthrow. Sharing the Journey: Support Groups and America’s New Quest for Community.– N.Y.: The Free Press, 1994.– P. 45. [9] Ibid. – P. 3-6. [10] Я вдячний Роналдові Інґлгартові, координаторові цього унікального кроснаціонального проекту, котрий надав мені для ужитку надзвичай корисні відомості. Див. його The Impact of Culture on Economic Development: Theory, Hypotheses and Some Empirical Tests (неопублікований рукопис, Мічиґанський університет, 1994). [11] Див. мою працю Making Democracy Work, особливо розд. 6. [12] Див.: Mancur Olson. The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. – New Haven: Yale University Press, 1982. – P. 2. Фукуяма Ф. Великий разрыв Часть вторая. О генеалогии морали Глава 12 Технология, сети и социальный капитал Конец иерархии? Макс Вебер утверждал, что рациональная иерархическая власть в форме бюрократии является квинтэссенцией современности. Однако вместо этого в конце XX века мы наблюдали, как бюрократическая иерархия приходит в упадок и в политике, и в экономике, а ее место занимают менее официальные самоорганизующиеся формы взаимодействия. Политической версией иерархии было авторитарное или, в более экстремальной форме, тоталитарное государство, в котором диктатор или небольшая элита, стоящая во главе, обладали властью над всем обществом. Авторитарные государства всех типов — от Испании Франко и Португалии Салазара до Восточной Германии и Советского Союза — претерпевают радикальные изменения начиная с 1970-х годов. Им на смену приходят если не хорошо функционирующие демократии, то по крайней мере государства, которые готовы допускать высокий уровень политического соучастия населения. Сами демократии также организованы иерархически. Президент США в настоящее время в некоторых отношениях имеет больше власти, чем о том мог бы мечтать восточный деспот, включая возможность уничтожить большую часть мира при помощи ядерного оружия. Разница не столько в иерархии, сколько в том факте, что власть в демократическом обществе делается законной благодаря народному согласию и ограничена в своих правах относительно индивидов. Демократическим иерархиям присущи те же несовершенства, что и их авторитарным аналогам, и в результате фактически все современные демократии испытывают сильное давление, направленное на децентрализацию, федерализацию, приватизацию и делегирование власти. Корпоративные иерархии также находятся под ударом. Известные случаи неудач больших, чрезмерно иерархических и негибких компаний — AT&T и IBM, в начале 80-х годов начавших сдавать позиции более мелким, быстрым и гибким конкурентам, стали классическим примером этого. Профессора бизнес-школ, консультанты по управлению и специалисты по информационным технологиям все подчеркивают достоинства сильно децентрализованных фирм, и некоторые утверждают, что в наступающем веке большие иерархические корпорации уступят место новой форме организации — сетям. Централизованные авторитарные корпорации терпят неудачи по тем же причинам, что и централизованные и авторитарные государства, — они не справляются с информационными потребностями стремительно усложняющегося мира, в котором живут. Не случайно, что иерархичность начала давать сбои именно в тот момент, когда общества по всему миру совершали переход от индустриальных способов производства к высокотехнологичным и информационным. Трудности, которые приходится преодолевать централизованным иерархиям в отношении информации, описаны в классической статье Фридриха фон Хайека еще пятьдесят лет назад. Сама статья основана на критике социализма Людвигом фон Мизесом. Чтобы контролировать все в своих владениях, авторитарный правитель нуждается в информации и знаниях, необходимых, чтобы принимать решения. В сель скохозяйственном обществе, где лорды правили крестьянами, навыков верховой езды, владения мечом и некоторых знаний политики, а также благословения местного епископа было, видимо, достаточно для обеспечения монополии на власть. Однако с развитием и усложнением экономики информационные потребности управления росли экспоненциально. Современная власть нуждается в технологических знаниях, которыми ни один из правителей не может надеяться владеть в полной мере; таким образом, он должен во всем полагаться на технических экспертов — от создания оружия до управления налоговой системой. Более того, подавляющий объем информации, касающейся экономики, по своей природе является местным. Если некто поставляет заклепки плохого качества, то именно заклепщик знает об этом, а не чиновник в министерстве или вице-президент корпорации в главном офисе 2 . Но делегирование власти вниз — техническим экспертам или тем, кто имеет доступ к информации о ситуации на местах — начинает ослаблять власть диктатора. Подобный процесс имел место в СССР и был одной из причин, почему социалистическая система там рухнула. Сталин полагался на технических экспертов — так называемых «красных директоров», — так же как и на множество ученых, инженеров и других специалистов 3 . Он управлял ими с помощью страха (прославленный авиаконструктор Туполев разрабатывал самолеты, находясь в тюремной камере), однако его преемникам делать это было все труднее. Технические эксперты могли утаивать знания и торговаться с теми, в чьих руках находилась политическая власть. Это давало им автономию и тем самым свободу думать самостоятельно. Кроме того, несмотря на тот факт, что все решения относительно цен и перемещения материалов теоретически принимались в московском министерстве, у центра не было возможности отслеживать всю информацию, возникавшую на периферии. В результате чиновники более низкого ранга — провинциальные партийные секретари и директора предприятий, — находившиеся ближе к местным источникам информации, начали забирать в свои руки значительную власть. Ко времени Горбачева, наступившему в 80-х годах, тоталитарная модель власти потерпела неудачу. Такой же процесс имеет место в компаниях, где директора обладают подобной авторитарной властью над подчиненными. Некоторые директора, особенно предприниматели в первом поколении, которые построили свои компании с нуля, стремятся контролировать все, что происходит в их компаниях, и относятся к подчиненным так, как будто те являются роботами, созданными для выполнения их приказов. Однако по мере того как их компании становятся больше и проблемы, с которыми они сталкиваются, усложняются, этот вид принятия решений оказывается слишком негибким, а начальник становится «узким местом». Предприятия не меньше, чем правительства, нуждаются в передаче власти экспертам и тем, кто принимает решения, находясь ближе к источникам частной информации. Некоторые современные специалисты по управлению представляют дело так, будто идеи децентрализации и наделения властью подчиненных являются новыми, но историк экономики Альфред Чандлер показал, что большие фирмы передавали власть на более низкие уровни организации на протяжении по крайней мере последних ста лет 4 . Большие, имеющие много подразделений фирмы — такие, как «Дженерал Моторс» и «Дюпон Кемикл» — были организованы иерархически, но все же децентрализованы в управленческой сфере, если их сравнивать, скажем, с маленьким семейным предприятием. Проблемы, встающие перед большими иерархическими организациями, вовсе не являются тривиальными, и следует ожидать, что передача власти и ответственности в них будет продолжаться и дальше. Однако тогда возникает новая проблема — как координировать действия всех игроков в децентрализованной организации, в которой сотрудники низшего звена недавно получили власть. Одним из решений является рынок, где не управляемые централизованно покупатели и продавцы достигают эффективного результата. Мания «внешних источников» в американском бизнесе в 90-х годах — это попытка заменить иерархический контроль рыночными отношениями. Однако рыночный обмен порождает расходы на ведение переговоров, и в любом случае предприятия не могут организовать свои основные функции таким образом, чтобы разные подразделения взаимодействовали по принципу «все конкурируют со всеми». Другим решением проблемы координации сильно децентрализованных организаций является сеть — форма спонтанного порядка, который возникает в результате действий децентрализованных агентов, а не создается какой-либо централизованной властью. Чтобы сети действительно были способны преуспеть в создании порядка, они неизбежно должны зависеть от неформальных норм, занимающих место формальной организации, — другими словами, от социального капитала. Происхождение сетей Классическая теория предприятия, заложенная Рональдом Коузом в 1937 году, утверждает, что иерархии существуют из-за существования расходов на ведение переговоров 5 . Сложная деятельность — такая, как производство автомобилей — может теоретически осуществляться небольшими децентрализованными фирмами, заключающими друг с другом контракты на производство комплектующих, и отдельными компаниями, разрабатывающими дизайн, интеграцию систем и маркетинг. Причина, почему автомобили производятся не таким образом, а гигантскими, с вертикальной структурой предприятиями, заключается в том, что стоимость всех переговоров, контрактов и судебных издержек, необходи- мых для взаимодействия с внешними поставщиками, намного больше, чем стоимость самостоятельного осуществления всех операций видов деятельности, когда фирмы могут контролировать все внутренние поставки при помощи управленческих приказов 6 . Существует обширная литература о происхождении сетей как промежуточной формы организации между традиционным рынком и иерархиями, которая считается более подходящей для развития технологии, чем большие иерархические организации 7 . Томас Мэлоун и Джоан Йейтс доказывают, что появление дешевой и общедоступной информационной технологии должно уменьшить стоимость ведения переговоров, необходимых при рыночных отношениях, и таким образом уменьшить стимул для создания управленческих иерархий 8 . Многие поборники информационной революции рассматривают Интернет не только как новую полезную технологию коммуникации, а как предвестника совершенно новой, неиерархической формы организации, в совершенстве удовлетворяющей потребности сложного, информационно насыщенного экономического мира. Большая часть современной литературы учитывает происходящий сдвиг в терминах относительно формальной организации. Классическая вертикально структурированная иерархическая организация имеет вид пирамиды, а схема 12.1 показывает последствия более горизонтального построения организации. Горизонтальная организация в конце концов остается централизованной и иерархичной; все, что было изменено, — это число уровней управления между вершиной и основанием. Горизонтальные организации создают увеличенные сферы ответственности; правильно выстроенные, они не должны перегружать главных менеджеров незначительными решениями, а скорее должны передавать власть вниз, на более низкие уровни организации. Социологи используют концепцию сетевой организации в течение многих лет и иногда высказывают свое раздражение тем фактом, что профессора бизнес-школ сегодня изобретают велосипед. Определение сети, обычно используемое социологами, слишком широко и включает в себя и рынки, и иерархии — как они понимаются экономистами 9 . Однако наблюдается поразительная неточность в использовании термина «сеть» специалистами по управлению. Сети обычно понимаются как организации, отличные от иерархий, но часто не ясно, как они отличаются от рынков. Действительно, Мэлоун не использовал термина «сеть», когда говорил об упадке иерархий; координация должна была осуществляться при помощи классического рыночного механизма 10 . Некоторые люди трактуют сеть как класс формальных организаций, в которых нет формального источника высшей власти, в то время как другие понимают ее как комплекс неформальных взаимоотношений или альянсов между организациями, каждая из которых может быть иерархической, но связанной с другими вертикальными договорными отношениями. Японские группы кейрецу, альянсы маленьких семейных фирм в центральной Италии и взаимоотношения фирмы «Боинг» со своими поставщиками равно понимаются как сетевые. Если мы будем рассматривать сеть не как вид формальных организаций, но как социальный капитал, мы гораздо лучше поймем то, чем в действительности является ее экономическая функция. С этой точки зрения сеть — это моральные взаимоотношения доверия: Сеть — это группа индивидуальных агентов, которые разделяют неформальные нормы или ценности, помимо тех, которые необходимы для обычных рыночных операций. Нормы и ценности, упомянутые в этом определении, могут простираться от простого принципа взаимности между двумя друзьями до сложных ценностных систем, созданных организованными религиями. Неправительственные организации — такие, как Международная Амнистия и Национальная организация женщин — осуществляют координированные действия на основе общих ценностей. Как в случае с друзьями или членами религиозной общины, поведение членов организации не может быть объяснено на основе лишь экономических интересов. Та-кие общества, как США, характеризуются плотным и сложным набором накладывающихся друг на друга сетей (см. схему 12.2). Большой эллипс представляет США в целом, население которых разделяет определенные политические ценности, связанные со свободой и демократией. Пересекающийся с ним эллипс изображает группу иммигрантов, например, американцев азиатского происхождения/которые частично разделяют американские ценности, а частично стоят вне мейнстрима американской культуры. Эллипсы, полностью находящиеся внутри большого эллипса, могут представлять собой что угодно — от религиозных сект до компаний с особенно сильной корпоративной культурой. Обратим внимание на две особенности данного определения. Сеть отличается от рынка тем, что ее участники разделяют определенные нормы и ценности. Это означает, что экономический обмен внутри сети будет осуществляться на ином основании, чем экономические взаимоотношения на рынке. Пурист может утверждать, что даже рыночные взаимоотношения требуют некоторых разделяемых норм (готовность, к примеру, принимать участие в обмене, а не в насилии), но число норм, необходимых для экономического обмена, относительно невелико. Обмен может происходить между людьми, которые не знают или не любят друг друга, или между говорящими на разных языках; более того, он может иметь место между анонимными агентами, не знающими друг друга. Другое дело обмен между членами сети. Ценности, которые они разделяют, дают им большую целеустремленность, которая меняет рыночные отношения. Следовательно, члены одной семьи, или клуба «Сьерра», или этнической ассоциации взаимопомощи, разделяющие определенные общие нормы, не взаимодействуют друг с другом таким же образом, как анонимные индивиды, встречающиеся на рынке. Они гораздо более охотно занимаются взаимным обменом в дополнение к рыночному — к примеру, передают некоторое преимущество без ожидания немедленного получения какоголибо преимущества в ответ. Хотя они могут ожидать выгоды в долгосрочной перспективе, обмен не является одновременным и не подчинен аккуратному подсчету затрат и доходов, как это происходит в рыночных отношениях. С другой стороны, сеть отличается от иерархии, потому что основана на разделяемых неформальных нормах, а не на' формальных властных отношениях. Сеть, понимаемая таким' образом, может сосуществовать с формальной иерархией. Члены иерархической структуры не обязаны разделять общие нормы или ценности, кроме тех, что оговорены в контракте, оп-' ределяющем их служебное положение; формальные организации тем не менее могут пересекаться с неформальными сетями различных видов, основанными на покровительстве, землячестве или общей корпоративной культуре. Когда сети накладываются на верхний слой формальной организации, то результат не обязательно является благотворным, поскольку это может быть причиной нарушения функционирования организации. Каждый знаком с сетями приятельских отношений и покровительства, основанными на родственных связях, принадлежности к одному социальному классу, дружбе, любви или каких-либо других факторах. Члены таких сетей разделяют друг с другом важные общие нормы и ценности (в частности, взаимность), которые не разделяют с другими членами организации. В сети покровительства информация охотно передается, но внешние границы сети образуют фильтр, через который информация распространяется в гораздо меньшей степени. Сети покровительства являются источником проблем в организациях, так как их структура не ясна тем, кто находится вне их, и они часто нарушают формальные властные отношения. Общая национальность может облегчать установление отношений доверия и обмена между членами одной этнической группы, но она сдерживает обмен между членами различных групп. Если начальник не хочет критиковать или увольнять некомпетентного подчиненного, так как последний является его протеже, личным другом или любовником, взаимная выгода для этих двоих членов сети становится лишь помехой для организации. Другая проблема, связанная с неформальными сетями, — это обратное взаимоотношение между значимостью ценностей и норм, связывающих сообщество (и следовательно, уровнем координации, который может быть в нем достигнут), и его открытостью для людей, идей и влияний извне. Чтобы быть членом Корпуса морской пехоты США или церкви мормонов, необходимо гораздо больше, чем для того, чтобы быть членом формальной организации. Морские пехотинцы или мормоны вовлекаются в действенную и отчетливо выраженную организационную культуру, которая создает высокий уровень внутренней солидарности и потенциала совместных действий. С другой стороны, культурный разрыв между морскими пехотинцами и гражданскими лицами или между мормонами и немормонами намного значительнее, чем аналогичный для членов организаций с меньшим уровнем морального единства. Непроницаемость общественных стен вокруг таких групп зачастую может делать их нетерпимыми, вырождающимися, медленно адаптирующимися и нечувствительными к новым идеям. Появилась обширная литература, основанная на работе социолога Марка Грановеттера", о важности «слабых связей» для эффективности информационных сетей. Как раз люди с отклонением от норм, входящие в различные сообщества, часто ответственны за внесение еретических идей, которые в конечном итоге необходимы, если группа хочет успешно адаптироваться к изменениям в окружающем ее мире. Сети, понимаемые как образования, основанные на неформальных этических отношениях, ассоциируются поэтому с такими феноменами, как непотизм, фаворитизм, нетерпимость, близкородственные браки и непрозрачные личные договоренности. В этом смысле сети так же стары, как и сами человеческие сообщества, а в некоторых аспектах они являлись преобладающей формой социальных отношений в обществе на более ранних этапах его развития. В каком-то смысле многие из институтов, которые мы ассоциируем с современ ной жизнью — договорные отношения, власть закона, конституционализм и принцип разделения властей, — были созданы для исправления недостатков неформальных сетевых отношений. Вот почему Макс Вебер и другие исследователи современности доказывали, что ее сущность в замене неформальной власти законом и открытыми институтами 12 . Так почему же в таком случае кто-то должен верить, что человеческие организации в будущем будут основаны не столько на формальных иерархиях, сколько на неформальных сетях? На самом деле утверждение о том, что формальные иерархии должны вскоре потерять свое значение, вызывает большие сомнения. Какое бы значение ни приобрели сети, они будут сосуществовать с формальными иерархиями. Но почему неформальные сети не исчезнут вообще? Один ответ связан с проблемами координации в иерархиях в условиях увеличивающейся экономической сложности. Изменение методов координации Значение социального капитала в иерархической организации может быть понято в связи со способами распространения в ней информации. В промышленной компании иерархия обеспечивает координацию перемещения материальных ресурсов в производственном процессе. Однако если распределение материальных продуктов определяется формальной структурой субординации, информация распространяется совершенно другим способом. Информация является специфическим предметом потребления. Ее производство может быть крайне сложным и дорогим, но — когда она уже существует — ее дальнейшее распространение происходит практически бесплатно 13 , тем более в цифровой век, когда, кликнув «мышью», можно создать бесконечное количество копий компьютерного файла. Это означает, что любая информация, создаваемая в организации, должна в теории свободно доходить до всех остальных частей организации, где она может быть полезной. Так как организация в принципе владеет правами на всю информацию, создаваемую своими работниками, не должно быть расходов при передаче информации из одной части организации в другую. К сожалению, информация никогда не распространяется внутри организации так свободно, как того хотело бы ее руководство. Причина в том, что организации должны делегировать власть на нижние уровни иерархии. Это создает то, что экономисты называют проблемой «руководитель—исполнитель», где подчиненный, нанятый начальником, имеет свою собственную программу, которая не всегда совпадает с такой, как у начальника или организации в целом. Многие менеджеры думают, что решение проблемы заключается в создании у исполнителей тех же побудительных мотивов, как и те, что движут организацией, чтобы подчиненные работали в интересах начальника. Чаще это легче сказать, чем сделать. Временами индивидуальные интересы и интересы организации противоречат друг другу. Менеджер среднего звена, который обнаруживает новое применение информационной технологии или создает план более экономичной структуры управления, делающие излишней его собственную должность, не имеет стимулов осуществлять свою разработку 14 . В других случаях, когда сложно оценить качество продукции — например, советов терапевта, консультирующего пациента, или созданной художником картины, — отслеживание индивидуальной производительности становится чрезмерно дорогим. Таким образом, хотя способствовать свободному движению информации полностью в интересах организации, часто личные интересы многих людей в иерархии противоречат этому. Знание, как известно, — сила, и передача или удерживание информации становится одним из важных инструментов, при помощи которых различные индивиды в организации стремятся максимально увеличить свою власть относительно других. Каждый, кто работал в иерархической организации, знает, что там идет постоянная борьба между начальниками и подчиненными или между Соперничающими подразделениями за контроль над информацией. В дополнение к проблемам «руководитель—исполнитель» иерархические организации страдают от другого рода неэффективности, связанной с их внутренним обменом информацией. Мы все знакомы с бюрократическими учреждениями, в которых отдел Х не знает, что делает отдел У на соседнем этаже. Некоторые решения требуют контроля сверху и, таким образом, создают внутренние расходы, необходимые для того, чтобы осуществлять такой контроль. В других случаях организации обязывают своих сотрудников осуществлять контроль без необходимости, неправильно или неэффективно. Формальность иерархий может также создавать проблемы при работе со сложной информацией. Иерархический характер управления обычно влечет за собой создание системы формальных правил и стандартных рабочих процедур — такова сущность веберовской бюрократии. Формальные правила становятся проблематичными в случае, когда необходимо принимать решение на основании информации, имеющей сложную природу или трудной для оценки. На рынках рабочей силы номенклатура формальных требований к претендентам используется для установления соответствия спроса и предложения для простой, неквалифицированной работы 15 ; неформальные сети задействуются, когда университеты и фирмы нуждаются в экономистах или системных администраторах высокого класса, поскольку их квалификацию и производительность гораздо сложнее оценить формально. Вопросы занятия должности в американских университетах решаются не на основе подробных и жестких формальных критериев, но на основе общих, достаточно расплывчатых суждений уже работающих профессоров относительно качества работ кандидата. Наконец, иерархии могут быть менее способными к адаптации. Формализованные системы контроля обладают гораздо меньшей гибкостью, чем неформальные; когда условия во внешнем мире изменяются, это зачастую бывает более заметно на нижних уровнях организации, чем та высших. Следовательно, чрезмерная централизация может быть особой помехой в областях, где наблюдаются быстрые перемены внешних условий, — таких, как индустрия информационных технологий. Причина важности сетей, определяемых как группы, разделяющие неформальные нормы и ценности, заключается в том, что они обеспечивают альтернативные каналы для потоков информации внутри организации и сквозь нее. Друзья обычно не держатся за право интеллектуальной собственности, когда делятся друг с другом информацией, и поэтому здесь не возникает расходов на взаимодействие. Дружба, таким образом, содействует свободному распространению информации внутри организации. Друзья также обычно не тратят времени на размышления о том, как им максимально улучшить свои сравнительные властные позиции во взаимоотношениях друг с другом. Кто-то в отделе маркетинга знает кого-то в отделе производства и говорит ему за ленчем о жалобах клиентов на качество продукции, таким образом минуя формальную иерархию и в кратчайшее время передавая информацию в то место, где она наиболее полезна. Корпоративная культура идеально обеспечивает индивидуального работника как групповой, так и личной идентичностью, поощряя его усилия по достижению групповых целей, что вновь облегчает движение информационных потоков в организации. Социальный капитал также является важнейшим параметром управления высококвалифицированными работниками, оперирующими сложными, диффузными, плохо поддающимися выражению или трудно передающимися знаниями и процессами. Организации — начиная от университетов и заканчивая инженерными, бухгалтерскими и строительными компаниями, не пытаются управлять своим квалифицированным персоналом при помощи подробных бюрократических правил работы и стандартных рабочих процедур. Большинство системных администраторов знают гораздо больше о своей работе, чем те люди, которые ими руководят; только они сами способны квалифицированно оценить свою собственную продуктивность. Таким работникам обычно доверяют самим управлять собой на основе усвоенных профессиональных стандартов. Врач, вероятно, не поступит неэтично в отношении своего пациента, даже если кто-то ему заплатит за это; он давал клятву служить интересам пациента прежде, чем своим. Профессиональное образование, следовательно, является главным источником социального капитала в любом передовом обществе информационного века и обеспечивает основу для децентрализованной, горизонтальной организации. Действительно, социальный капитал важен для определенных секторов и определенных форм сложного производства именно потому, что обмен, основанный на неформальных нормах, может устранить внутренние расходы на координацию для больших иерархических организаций, так же как и внешние расходы на ведение переговоров при более удаленных рыночных взаимодействиях. Потребность в неформальном, основанном на нормах обмене становится более важной, по мере того как товары и услуги становятся более сложными, трудно поддающимися оценке и дифференциации. Возрастающая важность социального капитала особенно заметна при переходе от производства, основанного на низком доверии, к производству, основанному на высоком доверии. От производства с низким доверием к производству с высоким доверием Производство в начале XX века, примером которого могут служить огромные фабрики Генри Форда, представляло собой иерархическую организацию, характеризующуюся высоким уровнем формализации. Другими словами, имело место резкое разделение на руководителей и подчиненных, управляемых и контролируемых централизованной бюрократической иерархией, которая создавала большое число формальных правил относительно того, как индивидуальные члены организации должны себя вести. Принципы научного управления, сформулированные промышленным инженером Фредериком Уинслоу Тейлором и осуществленные Фордом, содержали в себе неявную предпосылку, что за счет масштабов производства достигается экономия интеллектуального потенциала управленческого персонала и что организацией можно управлять более эффективно, если информация сосредоточена в управленческой иерархии белых воротничков, а не распределена по всей организации. При такой системе не было необходимости в доверии, социальном капитале или неформальных социальных нормах — каждый работник получал указания о том, где он должен стоять, как двигать руками и ногами, когда делать перерывы; от него вообще не требовалось ни в малейшей мере проявлять творческий или оценочный подход. Мотивация рабочих была чисто индивидуальной и определялась поощрениями или наказаниями; исполнители легко заменялись друг другом. Реагируя на эту систему через свои профсоюзы, рабочие требовали формальных гарантий своих прав и как можно более точного определения обязанностей — отсюда рост профсоюзного контроля за производственным процессом и контракты рабочих, толстые, как телефонные книги 16 . Тейлоризм был эффективным способом — возможно, единственным — координации деятельности низкоквалифицированной рабочей силы в промышленности. В течение первых двух десятилетий века половина синих воротничков Форда были иммигрантами первого поколения, которые не говорили по-английски, а к 50-м годам 80 % нз них не получили образования в средней школе 17 . Но тейлоризм столкнулся со всеми трудностями больших, иерархических организаций — с медленным принятием решений, негибкими правилами на рабочем месте и неспособностью адаптироваться к новым обстоятельствам. Переход от тейлоровской иерархической организации к, горизонтальной или сетевой предполагает переход функций координации от формальных бюрократических правил к неформальным социальным нормам, В горизонтальной или сетевой организации власть не исчезает; скорее она преобразуется таким способом, который позволяет существовать самоорганизации и самоуправлению. Небольшая автомобильная фабрика, на которой организовано бесперебойное производство, не предполагающее складирования продукции, является примером горизонтальной, постфордовской организации. Многие из функций, которые ранее были закреплены за менеджерами среднего уровня, теперь передаются рабочим сборочного конвейера, самостоятельно образующим команды. Персонал нижнего уровня сам управляет расписанием ежедневных работ, настройкой оборудования, рабочей дисциплиной и контролем качества. Степень, до какой власть оказалась передана на нижний уровень организации, символизируется знаменитым шнуром, который есть на всех рабочих местах сборочных заводов Тойота Такаоки и который позволяет рабочему остановить весь конвейер, если он заметил какую-либо неполадку в производственном процессе. Шнур воплощает то, что теоретики игр назвали бы «единоличным вето», которым каждый участник может заблокировать усилия всей группы. Такой вид власти может быть безопасно делегирован только при определенных, условиях: персонал должен быть адекватно обучен, чтобы быть в состоянии взять на себя обязанности управления, ранее лежавшие на белых воротничках среднего звена, и иметь чувство ответственности, чтобы использовать свою власть в общих интересах, а не в личных. Такая передача власти не может осуществляться в сферах, где отношения между исполнителями и руководством носят напряженный характер. Пост фордовская фабрика требует, другими словами, более высокого уровня доверия и социального капитала, чем тейлоровское рабочее место с его всеобъемлющими рабочими правилами. Как показывают многие исследования 18 , гибкая организация производства в автомобильной промышленности заметно повысила производительность, равно как и качество продукции. Причина в том, что частная информация обрабатывается гораздо ближе к своему источнику — если дверная панель от поставщика не подогнана должным образом, то рабочий, ответственный за ее прикрепление к кузову, имеет и власть, и стимул, чтобы решить эту проблему, вместо того чтобы позволить информации потеряться во время путешествия вверх и вниз по длинной бюрократической лестнице. Регионы и социальные сети Следующим примером важности социального капитала для горизонтальной или сетевой формы организации является американская электронная промышленность. Силиконовая долина может на первый взгляд казаться частью американской экономики с низким уровнем доверия и низким социальным капиталом, где нормой является конкуренция, а не кооперация, и не эффективность достигается работающими на основе рациональной утилитарности максималистами, взаимодействующими на не предполагающем личные контакты рынке, как это описывается в неоклассической экономической науке. Фирм много, они маленькие, постоянно отделяются одна от другой; они рождаются и умирают в результате жесткой конкуренции. Трудоустройство ненадежное; пожизненный наем и лояльность какой-либо компании — неслыханная вещь. Относительно нерегулируемый характер индустрии информационных технологий в сочетании с хорошо развитыми рынками капитала, вложенного в рискованное предприятие, допускает высокую степень предпринимательского индивидуа-шчма. Эта картина ничем не ограниченного конкурентного индивидуализма, впрочем, опровергается многочисленными более летальными социологическими исследованиями истинной природы технологического развития в Силиконовой долине — такими, например, как «Преимущества регионов» Аннали Саксениан 19 . В современной экономике социальный капитал не должен существовать только в границах отдельных компаний или быть воплощенным в таких практиках, как пожизненный наем 20 . Саксениан сопоставляет производительность Силиконовой долины и окрестностей бостонского шоссе 128 и отмечает, что одна из важных причин успеха Силиконовой долины заключается в особенностях культуры. Под поверхностью кажущейся неограниченной индивидуалистической конкуренции скрывается широкий спектр социальных сетей, связывающих сотрудников различных компаний в полупроводниковом и компьютерном бизнесе. Эти социальные сети имеют различные источники — общее образование (например, инженера электроники, полученное в Беркли или Стэнфорде) и общее профессиональное прошлое (многие ключевые игроки в полупроводниковой промышленности, например, Роберт Нойс и Энди Гроув, работали вместе в начале компьютерной эры в компании «Фэйргайлд Семикондактор») — или возникли из норм существовавшей в окрестностях Залива в конце 60-х и в 70-е годы контркультуры. Неформальные сети являются решающим фактором технологического развития по нескольким причинам. Большое количество информации трудно поддается выражению и не может быть легко превращено в товар, который может продаваться и покупаться на рынке интеллектуальной собственности 21 . Огромная сложность основных технологий и процесса интеграции системы в единое целое означает, что даже самые крупные фирмы не могут создавать адекватное техническое знание отдельно от других. Технология передается от фирмы к фирме в результате поглощений и слияний, поставок, перекрестного лицензирования и формального партнерства, и литература по технологическому развитию в Силиконовой долине подчеркивает неформальную природу значительной части научноисследовательской работы в ней. По словам Саксениан, Неформальная социализация, которая выросла из этих квазисемейных отношений, поддерживала повсеместные практики сотрудничества и распределения информации среди местных производителей. Бар «Вэгон Вил» в Маунтин-Вью — популярная пивная, в которой встречаются инженеры для того, чтобы обмениваться идеями и болтать—был назван первоисточником полупроводниковой индустрии... По общим отзывам, эти неформальные разговоры касались многого и служили важным источником новейшей информации о конкурентах, клиентах, рынках и технологиях... В индустрии, характеризующейся быстрыми технологическими изменениями и интенсивной конкуренцией, подобные неформальные коммуникации были зачастую более ценны, чем более традиционные, но менее оперативные формы обмена информацией—такие, как специальные журналы 22 . Она утверждает, что собственническая позиция фирм региона 128-го шоссе — таких, как «Диджитал эквипмент» — оказывается помехой. Эта фирма оказалась не способна действовать как независимый самодостаточный производитель технологий с вертикальной структурой, а нехватка неформальных связей и доверия, необходимых для обмена технологиями с конкурентами, лишает ее этого источника информации. То, что такие технологические сети имеют этическое и социальное измерение, важное для их экономического функционирования, ясно из следующего замечания: «Местные инженеры осознают, что качество обратной связи и информации, полученной через их сети, зависит от надежности и добросовестности поставщика информации. Такое качество гарантируется лишь индивидами, с которыми вы разделяете общее образование и опыт работы» 23 . Эти разделяемые профессиональные и персональные нормы определяют, таким образом, важный вид социального капитала. Другие авторы анализируют рост так называемых сообществ практики в других областях технологического развития 24 . Иными словами, отдельные инженеры, работающие над развитием специфических технологий, обмениваются информацией друг с другом на основе взаимного уважения и доверия. Возникающие сообщества своеобразны; поскольку они могут основываться на общем образовательном или служебном прошлом, они часто перекрывают границы отдельных организаций и областей профессиональной специализации. Эти неформальные сети являются, возможно, более важными для индустрии информационных технологий, чем других видов производства. В химикоформацевтической промышленности, где большие финансовые интересы могут зависеть от знаний об одной молекуле, компании по понятным причинам более осторожно относятся к своей интеллектуальной собственности. Информационные технологии, напротив, гораздо более сложны и включают в себя интеграцию большого количества высокотехнологичных продуктов и процессов. Вероятность того, что часть собственного знания, разделенная с потенциальным конкурентом, приведет к прямым потерям, относительно мала. Социальный капитал, произведенный такими неформальными социальными сетями, позволяет Силиконовой долине достигать масштабной экономии в научных исследованиях, что невозможно в больших вертикально структурированных компаниях. Было много написано о кооперативном характере японских фирм и о том, как распределяется технология среди членов группы кейрецу. В определенном смысле вся Силиконовая долина может быть представлена как одна большая сетевая организация, которая может использовать знания и специальные навыки, недоступные даже для самых больших вертикально структурированных японских электронных фирм и их партнеров по кейрецу 25 . Важность социального капитала для технологического развития имеет некоторые парадоксальные следствия. Одно из них заключается в том, что, несмотря на глобализацию, географическая близость остается важной — возможно, даже более важной, чем ранее. Майкл Портер, как и другие авторы, отмечает, что, несмотря на достижения в коммуникационных и транспортных технологиях, многие из видов промышленности — и, в частности, высокотехнологичные научные исследования — остаются сконцентрированными в определенных географических регионах 26 . Если сегодня информация может быть легко передана по электронным сетям, почему не происходит дальнейшего географического распределения промышленности? Оказалось, что безличного распространения данных по электронным сетям недостаточно для создания взаимного доверия и уважения, проявляющихся в таких местах, как Силиконовая долина; для этого необходимы личные контакты и взаимные обязательства, которые являются результатом повторяющихся социальных взаимодействий. Таким образом, хотя производство предметов потребления может быть размещено в странах с дешевой рабочей силой, гораздо сложнее сделать это с отраслями, нуждающимися в изощренном технологическом развитии. Тот факт, что географическое местоположение остается важным, не означает, что мир возвращается к чему-то вроде замкнутости маленького городка. В глобальной экономике даже большие регионы с развитыми тонкими технологиями, такие, как область вокруг Прово, штат Юта, где расположены многие преуспевающие производители программного обеспечения, включая бедствующих сегодня гигантов «Новелл» и «Ворд Перфект», могут обнаруживать у себя недостаток масштаба, необходимого для того, чтобы удержаться на переднем крае разработок. «Слабые связи» остаются важными; сети должны пересекаться друг с другом, чтобы идеи и инновации могли свободно распространяться. С другой стороны, из идеи грудно извлечь выгоду при отсутствии социальных связей, которые в век Интернета все еще требуют большего, нежели широкополосная и высокоскоростная линия связи.