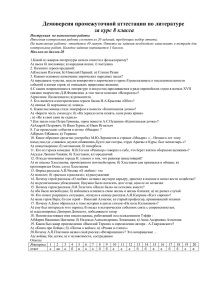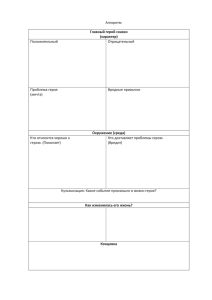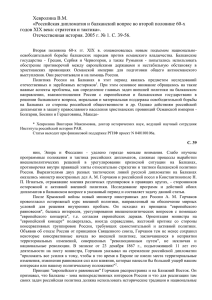ОПЫТ ИММАНЕНТНОГО АНАЛИЗА РАССКАЗА Т
реклама

УДК 821, 161, 1 Э.М. Свенцицкая (Донецк) ОПЫТ ИММАНЕНТНОГО АНАЛИЗА РАССКАЗА Т.ТОЛСТОЙ «ЧИСТЫЙ ЛИСТ». Имманентный анализ – анализ, не выходящий за пределы конкретного текста (английская «новая критика»). Нам представляется возможным конкретизирование данного термина. Вслед за М.М. Бахтиным определяя художественное произведение как саму ситуацию рождения смысла (1,248), мы предполагаем существование в нем некоторой единой смысловой интенции, соединяющей языковую данность слова со смыслом индивидуально-авторским и проявляющуюся на разных уровнях произведения. Но не в их автономности, а в их взаимодействиях и взаимопереходах. (Это, конечно, своеобразное ответвление целостного анализа, но с акцентом на смысловую ситуацию произведения, причем смысл – не только связь, но и внутренняя реальность слова.) Цель данной статьи – выявить данную смысловую интенцию, опираясь на анализ сюжетно-фабульной организации рассказа, а также соотношения в нем слова автора и слова героя. Смысловая интенция, о которой идет речь, сконцентрирована, на наш взгляд, в третьем предложении рассказа: « Игнатьев прикрыл ее пледом, потоптался, посмотрел на разинутый рот, изможденное лицо… пожалел ее, пожалел хилого, белого, опять вспотевшего Валерика, пожалел себя, ушел, лег и лежал теперь без сна, смотрел в потолок». Бросается в глаза, что при множестве слов, обозначающих действие, возникает впечатление полного его отсутствия именно благодаря этой множественности, а также замедляющим повторам («посмотрел на разинутый рот», «смотрел в потолок» и т.д.). Благодаря этим повторам и перечислению внешние действия приравниваются к внутренним, «пожалел себя, пожалел ее» здесь равнозначно «лег и лежал» (тем более, что «лежал» и «жалел» объединены и звуковым подобием). Обратим внимание сразу же, что весь текст объединен такими лейтмотивными повторами, повторяются базовые моменты состояния Игнатьева (боль, тоска, жалость). И собственно, основная смысловая интенция текста создается указанным выше приравниванием. С одной стороны, все обыденные действия проникаются этой жалостью, в них она, изначально чужеродный элемент. Благодаря такой синтаксической организации фразы органически входит, то есть все эти действия становятся выражением жалости. А с другой стороны, и жалость проникается этими мелкими обыденными действиями, оказывается просто одним из них, принижается и приземляется, становясь этим действиям сопричастной. Постоянно возвращающиеся боль, тоска, жалость создают ту безвыходность, которая заставляет героя решиться на операцию. Фабулу рассказа организует поверхностный и механистический парадокс: именно эти чувства, создающие в человеке Живое, не дают ему жить. Это понятно даже безымянному другу Игнатьева: «Потому и болит, что живое». Но когда человек избавляется от этих чувств – он избавляется от жизни. В сюжете же заложен еще один очень важный момент: эти чувства, усиливающие друг друга по принципу резонанса, создают параллельную реальность, которую буквально можно назвать внутренним миром Игнатьева. Процитируем наиболее показательный момент: «Тоска взмахнула рукавом – расстелила бескрайнюю каменистую пустыню – иней блестит на холодной скалистой равнине, равнодушно застыли звезды…». В мире, созданном тоской, она воплощена, все реалии этого мира ею проникнуты. Но, с другой стороны, эти пространства как бы в свернутом виде возникают в те моменты, когда герой пытается избавиться от тоски: во время прощания с женой («Скалистая изморозь, звяканье сбруи одинокого верблюда, озеро, промерзшее до дна»), в кабинете доктора Иванова («…только скрипело перо, и звякающая сбруя одинокого черного верблюда, и окоченевший всадник, и промерзшая равнина»). Получается, что тоской проникнуто именно то, что должно бы, наоборот, избавить от нее. Момент операции становится, как может показаться, и моментом разрешения мира героя – и реального, и созданного тоской. Действительно, после операции о мире нет ни единого упоминания. Механистичность данного противопоставления видна отчетливо: если тоскующий, жалостливый Игнатьев создает неисчислимое множество миров, иногда буквально на ровном месте (достаточно вспомнить описание дерева, которое тоже ведь оказывается отдельным миром), то Игнатьев исцелившийся, безжалостный способен лишь повторять шаблонные фразы типа «Будь здоров, не кашляй». Разрушение мира оказывается закономерным в ситуации механистического, опять-таки, противопоставления безвольной, бездеятельной, безрадостной человечности и волевой, деятельной, радостной бесчеловечности. Однако, осмыслив состояние Игнатьева после операции, можно убедиться в ином. В сущности, здесь та же парадоксальная ситуация, которую мы уже неоднократно наблюдали: именно в момент уничтожения мир как раз и становится реальным. Ведь все-таки в описании мира внутри Игнатьева постоянно подчеркивается сотворенность и даже искусственность этого мира. Самый характерный пример: «…под утро, когда Игнатьев спит, откуда-то из землянок выходит Живое… вырезает из промокашки розовых пучеглазых крабов и простым карандашом проводит темную извилистую черту прибоя». Совсем иного порядка тот мир, в котором Игнатьев оказывается во время операции, причем именно оказывается, так как для этого возникает необходимость в маркировании пространственной границы и ее пересечения («…и Игнатьева мягким толчком высосало из кресла»), этот мир отграничен («лязгнула решетка»), в нем Игнатьев не один и даже не главный. Этот мир действительно живой, тат как является еще и квинтэссенцией жалости (пятикратно повторенное «жаль»). Таким образом, точка разрушения становится точкой созидания, которое, однако, отнюдь не отменяет этого разрушения, но, безусловно, является тем пределом, в котором сосредоточено болевое усилие уже не только и не столько героя, но автора, создающего мир, отрывающего его от себя и тем самым дающего ему отдельное бытие, но одновременно разрушающего его в небытие ( словосочетание «цветущее небытие» квинтэссенция данной ситуации). После этой точки максимальной сцепленности разрушения и созидания, когда именно действительность и необходимость уничтожения и самой этой способности, и чувств, ее порождающих, стали основанием для осуществления творческих интенций, все должно быть начато сначала, причем в совершенно других условиях – в условиях небытия. Поэтому последний фрагмент рассказа ( Игнатьев после операции) – это, на наш взгляд, нащупывание возможности такого творчества, когда отсутствие мира и человека ощущается как минус-присутствие, и в этом плане перед нами действительно «чистый лист». Таковым становится герой, возникший после операции, дважды повторяя эти слова, он, по сути дела, выговаривает свою сущность – он действительно представляет собой полную неощутимость как индивидуальность, даже фамилия его под вопросом. Собственно, этот чистый лист – еще и точка короткого замыкания между бездеятельной человечностью и деятельной бесчеловечностью. Здесь они сталкиваются, и неизвестно, что будет, но может быть абсолютно все, что угодно. Одна из возможностей заключается в том, что точка короткого замыкания станет зоной их взаимообращенности, однако это может осуществиться в другом рассказе, который надо будет начать действительно с чистого листа. Все сказанное выше подводит нас к анализу соотношения слова автора и слова героя. Как и у многих современных писателей, у Т. Толстой в этом рассказе нет четкой границы: стороннее, объективное описание переходит в несобственно-прямую речь, а несобственно-прямая речь – в повествование от лица героя, причем без кавычек. Наиболее явный пример: « Кто-то в «Жигулях» нарочно прокатил по луже, облил Игнатьева мутной водой, забрызгал брюки. С Игнатьевым такое случалось часто…Совсем я болен». Тут, конечно, возникает проблематизация авторской позиции – такое впечатление, что автор не может выбрать между вненаходимостью и внутринаходимостью, между видением мира через героя и видением героя в мире. В результате, конечно, граница между «рассказываемым событием» и «событием рассказывания» (2, 163) смещается и даже разрушается. Хотя, с другой стороны, в этом постоянном движении вокруг границы, в постоянном пересечении ее, возможно, как раз и актуализируется ее наличие, и даже она делается более рельефной. Особенно если учесть, что движение от стороннего повествования к непосредственному выражению переживаний героя происходит через значимые точки их пересечения, через фразы, которые могут быть связаны и с той, и с другой позицией. Например, в начале рассказа: « Жена как прилегла в детской на диване – так и заснула (сторонняя характеристика). И хорошо, пусть там и спит (точка пересечения)». Аналогичным образом в конце рассказа в пределах одной фразы соединено повествование от третьего и от первого лица: «… и Игнатьева мягким толчком высосало из кресла, вперед и вверх ботинками, и бросило туда, на дорогу, и, уже торопясь – семь, восемь, девять, десять, пропадаю – побежал по каменным плитам…». Такое построение фразы, в принципе, также типично для данного произведения, и демонстрирует оно, прежде всего. Как в ситуации «смерти автора» автор находит новую жизнь в герое, как сознание героя буквально втягивает автора в себя, точнее, всетаки, не само это сознание, а боль, тоска, мука, им переживаемые и постоянно возвращаемые. Собственно, данные конструкции говорят, прежде всего, о сопричастности автора герою в боли, жалости, страдании. Но в чем еще один парадокс данного рассказа: такое соотношение между словом автора и словом героя сохраняется и после операции Игнатьева, когда уже сопричастным быть вроде бы нечему, когда ни боли, ни жалости уже не осталось: « Он уже придумал новые, хорошие остроты – голова-то быстро работает… Он теперь такой остряк, Игнатьев; не, я серьезно, без балды» ( эта фраза явно демонстрационно-конструктивного характера). И тут, пожалуй, вершинное проявление смысловой интенции, лежащей в основе рассказа, - в выработке особой пластики повествовательного слова, которое, оставаясь повествовательным, то есть описывающим и оценивающим, одновременно проникает в такое сознание, которое и сознанием-то не является, становится сопричастным не только боли и жалости, но и их отсутствию, то есть в полном смысле способно заговорить языком безъязыких. Конечно, в данном случае скорее можно говорить о возможности, чем о ее реальном осуществлении, однако боль от отсутствия боли, страдание от отсутствия страдания становятся основанием для поиска некоторой новой авторской позиции. Вряд ли можно ее назвать, вслед за М. М. Бахтиным, позицией причастной вненаходимости (2, 176), поскольку такая позиция предполагает зону контакта и очерченное целое героя – здесь же как раз происходит разрушение этого целого. И для того, чтобы авторскому «я» не разрушиться, оно, с одной стороны, продолжает быть внутри мира героя, когда никакого мира нет, а с другой – подчеркнуто переходит в слово, компенсируя духовное целое героя именно его словесной характерностью (отчего возникла необходимость в выражениях типа «ща», «эт», «шлендрают», в сказе). Таким образом, неожиданно возникшее в финале рассказа его заглавие относится не только к сущности героя, но и к возможности нового качества эпического повествования, перед которым действительно – чистый лист, в смысле вовлечения в слово, очеловечивания в слове того, что в жизни очеловечиванию не подлежит. ЛИТЕРАТУРА. 1. Волошинов В. Слово в жизни и слово в поэзии // Звезда. – 1926. - №6. – С.244-267. 2. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С.7-180. АНОТАЦІЯ. В статті виявляється головна смислова інтенція, яка поєднує різні рівні художнього світу оповідання Т. Толстої „Чистий аркуш”. Іманентний аналіз твору призводить до висновку, що в ньому постає можливість нової пластики оповідального слова, яке залучає в себе і олюднює те, що олюдненню не належить. SUMMERY. The article reveals the meaningful intention, which connect different levels of artistic world of Tolstoy’s short story “The blank page”. The immanent analysis of this literary work shows, there is that the possibility of new plasticity of the narrative word, which absorbs and humanises that which is not subject to humanisation.