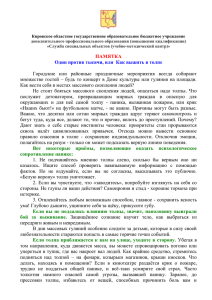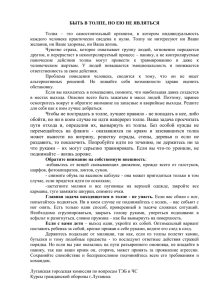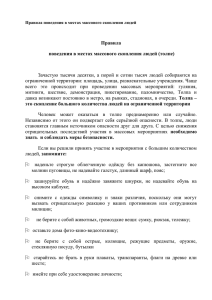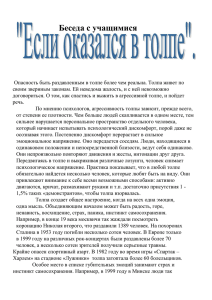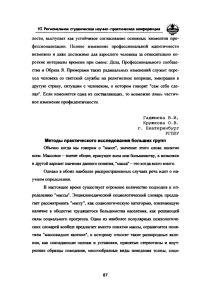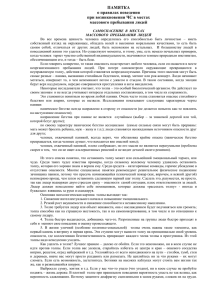Царство толпы
реклама
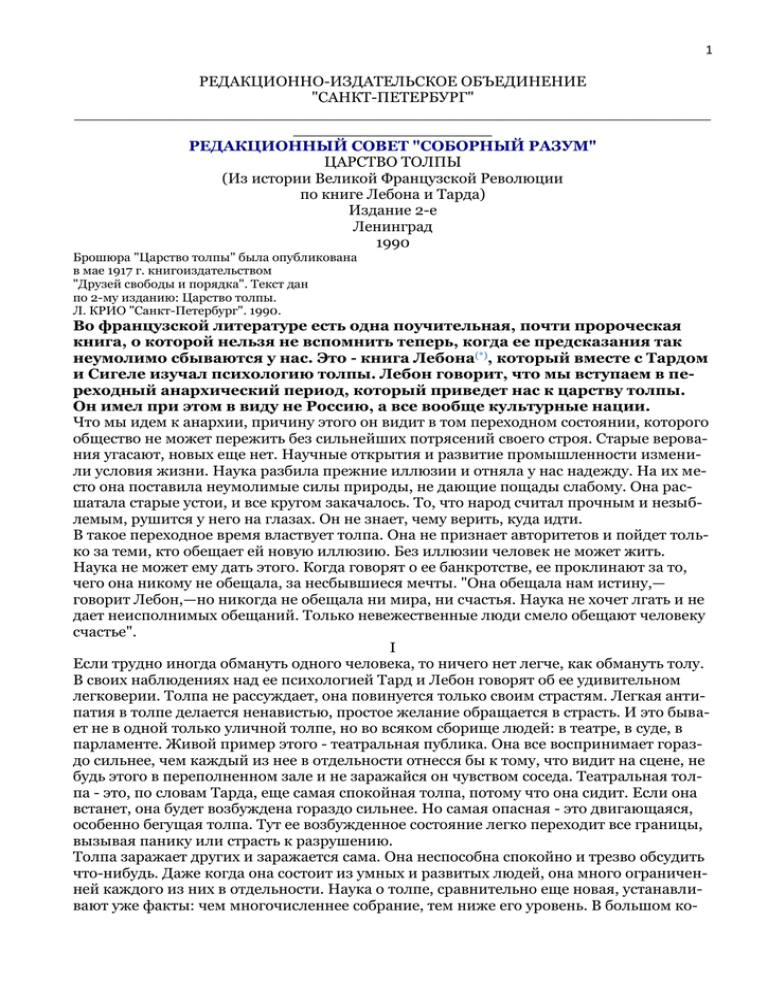
1 РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" ________________________________________________________________ ____________________ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ "СОБОРНЫЙ РАЗУМ" ЦАРСТВО ТОЛПЫ (Из истории Великой Французской Революции по книге Лебона и Тарда) Издание 2-е Ленинград 1990 Брошюра "Царство толпы" была опубликована в мае 1917 г. книгоиздательством "Друзей свободы и порядка". Текст дан по 2-му изданию: Царство толпы. Л. КРИО "Санкт-Петербург". 1990. Во французской литературе есть одна поучительная, почти пророческая книга, о которой нельзя не вспомнить теперь, когда ее предсказания так неумолимо сбываются у нас. Это - книга Лебона(*), который вместе с Тардом и Сигеле изучал психологию толпы. Лебон говорит, что мы вступаем в переходный анархический период, который приведет нас к царству толпы. Он имел при этом в виду не Россию, а все вообще культурные нации. Что мы идем к анархии, причину этого он видит в том переходном состоянии, которого общество не может пережить без сильнейших потрясений своего строя. Старые верования угасают, новых еще нет. Научные открытия и развитие промышленности изменили условия жизни. Наука разбила прежние иллюзии и отняла у нас надежду. На их место она поставила неумолимые силы природы, не дающие пощады слабому. Она расшатала старые устои, и все кругом закачалось. То, что народ считал прочным и незыблемым, рушится у него на глазах. Он не знает, чему верить, куда идти. В такое переходное время властвует толпа. Она не признает авторитетов и пойдет только за теми, кто обещает ей новую иллюзию. Без иллюзии человек не может жить. Наука не может ему дать этого. Когда говорят о ее банкротстве, ее проклинают за то, чего она никому не обещала, за несбывшиеся мечты. "Она обещала нам истину,— говорит Лебон,—но никогда не обещала ни мира, ни счастья. Наука не хочет лгать и не дает неисполнимых обещаний. Только невежественные люди смело обещают человеку счастье". I Если трудно иногда обмануть одного человека, то ничего нет легче, как обмануть толу. В своих наблюдениях над ее психологией Тард и Лебон говорят об ее удивительном легковерии. Толпа не рассуждает, она повинуется только своим страстям. Легкая антипатия в толпе делается ненавистью, простое желание обращается в страсть. И это бывает не в одной только уличной толпе, но во всяком сборище людей: в театре, в суде, в парламенте. Живой пример этого - театральная публика. Она все воспринимает гораздо сильнее, чем каждый из нее в отдельности отнесся бы к тому, что видит на сцене, не будь этого в переполненном зале и не заражайся он чувством соседа. Театральная толпа - это, по словам Тарда, еще самая спокойная толпа, потому что она сидит. Если она встанет, она будет возбуждена гораздо сильнее. Но самая опасная - это двигающаяся, особенно бегущая толпа. Тут ее возбужденное состояние легко переходит все границы, вызывая панику или страсть к разрушению. Толпа заражает других и заражается сама. Она неспособна спокойно и трезво обсудить что-нибудь. Даже когда она состоит из умных и развитых людей, она много ограниченней каждого из них в отдельности. Наука о толпе, сравнительно еще новая, устанавливают уже факты: чем многочисленнее собрание, тем ниже его уровень. В большом ко- 2 личестве публика, даже интеллигентная, легко опускается до уровня обыкновенной уличной толпы. За последнее время это можно было наблюдать у нас в разных собраниях, где все виды психоза, о которых говорит Лебон, проявлялись с удивительной силой. Его парадокс, что между голосованием сорока академиков и сорока водовозов нет никакой разницы, тут оправдывался вполне. Собравшись в большом количестве, публика, из кого бы она ни состояла, из профессоров или кочегаров, прежде всего теряет способность владеть собой. Толпа не мыслит, а чувствует. А в этом отношении кочегар и профессор ничем не отличаются. Оба чувствуют одинаково. Все отличительные свойства толпы - нетерпимость, раздражительность, неспособность хладнокровно что-нибудь обсуждать, бывают у нее на лице. Она много говорит о своих правах и ни слова о своих обязанностях. Желая вызвать ее одобрение, каждый старается сказать ей только приятное, только то, что соответствовало ее настроению, и, заражаясь им сам, говорит такие вещи, о которых он раньше не думал. Если в толпе говорили о конституции, находился оратор, который требовал немедленно демократической республики. Если один вызвал ее аплодисменты, другой, чтобы заслужить их, должен был сказать что-нибудь еще сильнее. Он мог повторить и сказанное раньше, но только сгустив краски. Бесконечное повторение одного и того же, невыносимое для отдельного лица, никогда не надоедает толпе, если это льстит ее самолюбию, если меняются ораторы, их интонации, жесты. Тард заметил, что у толпы есть свое мелочное самолюбие. Тут предпочитают одобрение ближайшей группы одобрению миллионов, но далеко стоящих. Чтобы иметь успех у толпы, надо бить ее по нервам, оглушить ее и, не дав ей времени опомниться, сейчас же собирать голоса. Так обыкновенно и делают, составляя тут же адресы, подписки, единогласные постановления и резолюции. Мнимое единодушие толпы, по словам Тарда, есть просто слепое подражание. Она повторяет одни и те же движения, одни и те же крики. А если кто-нибудь сохранил еще способность управлять своими мыслями, то не считает безопасным отделиться от стада и сказать, что он не согласен с ним. Толпа не шутит, оскорбить ее сомнением в мудрости ее решений, вызвать ее гнев - опасно. Критиковать ее нельзя, обращаться к ее разуму бесполезно, бороться с ней таким путем - это все равно, что бороться с циклопом. Опыт великой французской революции, этого царства толпы по преимуществу, показал, что даже ее избранники не могли образумить ее. Они управляли ею, пока разжигали ее страсти, но когда попробовали успокоить их, она не пошла за ними. Своим свободно избранным народным представителям она приставляла к груди штык или дуло пистолета, заставляя их голосовать под угрозами улицы. Они были только слугами и рабами толпы на галерее. Она криком, воем, топаньем заглушала тех, кто не умел угодить ей. Она диктовала законы, отменяла их, приводила в исполнение. Она и погубила свободу во Франции, привела к террору, потом к военной диктатуре. У нас скоро соберется Учредительное Собрание, но именно теперь, когда мы накануне его созыва, нам надо подумать о том, чтобы его права не захватили самозванцы, чтобы люди, никем не выбранные и не уполномоченные и ни перед кем не ответственные, не объявили себя истинными представителями России, выражающими ее волю гораздо лучше и полнее, чем те, кого она выберет и пошлет в собрание. Если мы действительно боремся за свободу, а не за новое рабство, худшее изо всех, потому что повелевать нами будет толпа, мы должны оградить народных представителей в Учредительном Собрании от ее угроз и насилия. Мы можем это сделать, если отнесемся к ним с доверием и предоставим свободно обсудить нужды России им, а не шумной, страстной толпе, которой русский народ никаких полномочий не давал. Ораторы из толпы всегда говорят с публикой от имени кого-нибудь, - "от русских женщин, от русского народа, от мыслящей части общества". Когда сам оратор ничего собой не представляет, никаких личных заслуг и талантов не имеет, чтобы импонировать толпе, он говорит с ней от имени народа. "Лучшая часть нашего общества... вся мыс- 3 лящая интеллигенция"... Оглушив ее таким началом он уже продолжает смелее, он уже не случайное, никому неизвестное лицо, он делегат, представитель целого класса населения. II То, что страстно обсуждается в собраниях, приводится потом в исполнение на улицах. Там уже не та хорошо одетая толпа, которая собирается в залах, освещенных электричеством, и, поговорив о политике, идет на другой день в театр или в загородные сады, там другая толпа, с мозолями на руках, вечными заботами о завтрашнем дне и часто голодной семьей дома” Новая идея, брошенная в нее и проложившая дорогу к ее сердцам, зажигает ее как костер. Она принимает ее на веру и не хочет ждать. Пока на собраниях обсуждают, как лучше устроить судьбу народа, народ, уставший ждать, берется устроить ее сам. Совершенно то же происходило 125 лет тому назад во Франции. Лучшую иллюстрацию к психологии толпы дает Тэн в своих "Origines de la France Contemporaine". Это превосходное сочинение, составляющее 8 томов о революции и 3 тома о Наполеоне (Regime Moderne), вышло недавно 24-м изданием. Благодаря архивным документам, которые явились у Тэна впервые, и глубокому анализу, событий, за которыми автор следил шаг за шагом, никому не льстя, ничего не преувеличивая, сочинение его пролило яркий свет на революцию. Он с первых дней революции последовательно развертывает картину повального безумия, охватившего страну, когда в решении вопросов, обдуманных в тиши кабинетов,приняла участие толпа под предводительством меньшинства крайних умов. То, что создали умы теоретиков, стала применять на практике жизнь.Тэн называет это грандиозным опытом переустройства быта 26-миллионного народа на чисто отвлеченных началах. Сначала за это взялись люди выдающегося ума и образования. Убедившись в невыносимом положении обедневшего, безграмотного народа, они решили, что так дальше продолжаться не может, что 15 веков гнета, насилия и бесправия приведут страну к гибели. Надо было спасти ее, дать ей возможность вздохнуть свободно. Над этим думали лучшие умы Франции. Потом к ним примкнула молодежь, начинающие адвокаты, журналисты,студенты. Молодежь никогда не довольна существующим порядком вещей. Она по природе своей революционна, это болезнь роста, говорит Тэн. "Общество создано не логикой, а историей, и двадцатилетний философ пожимает плечами при виде этих руин. Как бы ни были хороши учреждения,но они созданы до него, без его согласия". За молодежью к движению примкнули неудачники, все недовольные и обиженные, доктора без практики, адвокаты без клиентов, писатели, которых никто не читает, недоучившиеся ветеринары, вообще люди с большими требованиями и маленькими способностями. Из своей мансарды,где жена стирала ему рубашки, такой неудачник громил все и всех. Они участвовали во всех демонстрациях и уличных беспорядках в надежде, что при новом режиме страна их оценит, прогонит разных бездарностей, занимавших места по протекции, и на это место пригласит их. У них свой клуб неудачников, Пале-Рояль, где они говорили толпе зажигательные речи, приглашая ее расправиться без суда с теми, кто пил ее кровь, с казнокрадами, грабителями, врагами отечества. Там назывались имена этих врагов и выносились им смертные приговоры. Их приговаривала к казни толпа, которую уверили, что она самодержавна. Подстрекая ее к убийству, ей говорили, что это ее священное, законное право. Это правосудие народа, грозный, великий гнев его. Еще народные представители не успели собраться, как уже толпа захватила их права и чинила суд и расправу. Пока вырабатывалась программа и обсуждались их полномочия, на улицах уже бушевала чернь. Неудачники, зная, что им нет надежды попасть в депутаты, объявляли себя ее уполномоченными и от ее имени предъявляли разные требования. За ними шла праздная публика. Этой ничего, собственно, не было нужно, кроме новизны и сильных ощущений. Она любила зрелища, скандалы, вообще всякие происше- 4 ствия, ловила на лету слухи и спешила туда, где было что-нибудь занимательное. Когда брали приступом Бастилию, она бросилась посмотреть и на это. Хорошо одетая толпа смотрела, как толпа, плохо одетая, ломала подъемный мост, стреляла в кашу живых тел, перебила инвалидов, отворивших ворота крепости, и отрезала голову коменданту. Нарядные дамы выходили из экипажей, чтобы взглянуть на это. Выборы прошли сравнительно спокойно, все ждали, что занимается новая заря для Франции. Какие, собственно, будут права у депутатов, будет ли их голос решающим или совещательным, этого никто не знал. Но главное было сделано: народные представители созваны. Теперь должна была начаться новая жизнь. Что 26 миллионов сразу выйдут из тьмы и невежества и станут полноправными гражданами, этому верило тогда общество, читавшее Руссо и его Conrat Social. Оно не читало только Спенсера, который сто лет спустя писал, что недостатки социального строя уничтожаются лишь постепенным приспособлением и усовершенствованием людей. Париж ликовал. Народ, однако, ничем еще не выражал своих восторгов. Он, напротив, грозно напоминал о себе поджогами помещичьих усадеб и грабежом обозов с хлебом. Год был неурожайный, во многих местах был голод. Высшие сословия требовали свободы слова и печати, неприкосновенности личности, народ - только облегчения своей тяжелой доли. В деревнях о политике не думали и в своих наказах депутатам (cahiers) говорили только об экономических нуждах. Поменьше бы платежей в казну и помещикам, поменьше налогов да побольше земли. Хорошо бы запахать землю помещиков, выпускать скот на их луга, выловить рыбу в их прудах, порубить их леса. Когда в Париже заговорили о правах человека, до деревни это дошло в виде смутных слухов, что теперь господ не будет, король сам их разжаловал, не хочет больше ни бар, ни попов, и велел всем, у кого есть деньги и хлеб, делиться с другими. Реформы еще только были обещаны, а народ уже приводил их в исполнение. Отбирал хлеб у помещиков и арендаторов, у монастырей, из казенных магазинов. Начались насилия над личностью. Правительство, с которым общество было в открытой вражде, не могло остановить их. Власти бездействовали. В провинции уже начались аграрные беспорядки, а в Париже все были заняты борьбою с правительством. Чтобы повалить этого старого врага, все партии сплотились и не видели, что надвигается новый враг - анархия. Она шла победоносно, с барабанным боем, заревом пожаров и самосудом толпы. Когда собрание народных представителей вырывало у монархии уступку за уступкой и провозгласило неприкосновенность личности, эти неприкосновенные лица уже во многих местах качались на фонарях. Толпа хватала тех, на кого ей указывали вожаки, и волочила их по улице. Она высекла графиню, которая непочтительно говорила о популярном тогда Неккере, и окунула в бассейн людей, которые слишком почтительно говорили о правительстве. Она швыряла стульями и скамейками в офицеров, которые остались верны присяге, и лобызала, угощала вином солдат, изменивших ей. То, что создавали умы Руссо и Вольтеров, проникая в темную массу, в неподготовленные девственные мозги ее, долго там бродило, пока отвлеченная идея не переходила в образы. Тогда она сразу зажигала толпу. Когда народ услыхал, что земля принадлежит всем, он сказал: "все мое", и погнал помещиков из их имений. Когда ему сказали, что духовенство обирает его, он перестал платить ему. А бушевавшая на улицах толпа, когда с ней заговорили о правах человека, поняла это так, что теперь все можно. Безнаказанность утверждала ее в этой мысли. Когда она вздернула на фонарь несколько человек и ее стали с этим поздравлять, называя это правосудием народа, она объявила себя самодержавной. Первым ее делом было ограничить права народных представителей. Она держала их в осаде, посылая к ним с улицы буйную публику, чтобы без ее ведома и одобрения ни один закон не прошел. Все равно, кто бы ни сидел в галерее, - алкоголики, проститутки, содержатели игорных домов, - это был самодержавный народ, и противиться его воле не смел никто. III 5 В какие-нибудь два года Франция от абсолютной монархии перешла к анархии. Много содействовала этому печать. Вместе с революцией народилась газета и, проникая всюду, куда не доходила книга, заговорила страстным языком, понятным толпе. Свобода слова и печати — это первое, чего потребовали народные представители, вполне справедливо полагая, что где нет свободы мнения, там может быть только террор или диктатура. Но свободная печать тотчас же занялась розысками и доносами. Слово "denoncer" повторялось на все лады. Обличать, доносить, разыскивать неблагонадежных людей - стало девизом передовых органов. Только неблагонадежными назывались те, кто при старом режиме были благонадежными. Лестница перевернулась другим концом. На место тайной полиции, служившей монархии, явилась тайная полиция клубов, секций и демагогов. Она была тем опаснее, что занималась этим по призванию. Она не только не гнушалась этого ремесла, но ставила его в заслугу себе. Газеты стали похожи на полицейские участки, где производили дознание и тащили обывателей к допросу. То, что называлось печатью, было часто только печатной бумагой, на которой невежественные, бездарные люди, иногда даже психически расстроенные, как Марат, призывали толпу к бесчинству. "Разделите себе землю и богатства мерзавцев, которые закопали свое золото, чтобы вы голодали",— писал он в своем "Друге Народа". Он прямо звал ее на разбой. "Пора снять голову министрам, всем негодяям генерального штаба, батальонным командирам, всем изменникам в Национальном Собрании". Но вместо того, чтобы судить за подстрекательство к убийству, ему делали овации, как любимому писателю, газета его имела страшный успех. Свобода печати была полная, даже суды не смели преследовать газеты, которые были популярны. От такой журналистики, кроме простой грамоты, ничего не требовалось. Талант был тут лишним, даже опасным. Камилл Демулен заплатил за него головой. Против его иронии не только уличные листки были безоружны, но ее не вынес и друг его Робеспьер, и Демулен был казнен. Сам ярый республиканец, он узнал тогда на опыте, что "иронии в республике так же не любят, как в монархии". Сначала он оправдывал разнузданную печать тем, что нельзя не ошибаться, что может быть газета и нападает на людей несправедливо, "но всегда с энергией, характеризующей республиканские души". Только когда те же газеты стали клеветать на него и потащили его на эшафот, он понял, что такое свобода печати, когда она стоит выше суда и закона. "Как смеешь ты писать, когда большинство не смеет даже читать",—заметил он с горечью. Действительно, подписчики на его газету, узнав, что он в опале, кинулись к его издателю вычеркивать свои имена, чтобы не попасть в неблагонадежные за то, что читали его газету. Печать была свободна, это правда, но читатели не были свободны и боялись держать в руках газету, за которую можно было попасть на фонарь. В лице Демулена партия казнила одного из самых талантливых своих журналистов. Он был горячим сторонником свободы печати, конечно, в том виде, как ее понимали революционеры, т. е. с максимумом свободы для их партии и минимумом для противников. Он защищал в своей газете этот максимум и минимум, как необходимое условие, чтобы лучшая часть общества могла бороться с худшей. Под словом печать понималось одинаково все: и Руссо, и Вольтер, и Монтескье, и Мирабо, и уличные листки вроде Реге Duchen, занимавшиеся исключительно клеветой. Называя печатью все, что выходит из типографии, забывают выделить простую торговлю словом и отнести ее не в рубрику печати, а в отдел торговли и промышленности. У нас негодовал и жаловался на это Достоевский. При повальном безумии, овладевшем Францией, опасно было высказывать свое мнение, если оно не граничило с сумасшествием. Напротив, чем оно было чудовищнее, тем больше толпа аплодировала ему. Вот почему Марат с его психическим расстройством имел такой успех. Даже его приятели говорили: 6 — Дальше того, что предлагает Марат, уже начинается бред и неистовство. За пределами этого можно написать, как писали в древности на географических картах: "Тут нет больше жилья, тут только пустыня и дикари". Но бесноватые, эпилептики, юродивые, галлюцинаты имеют большую власть над толпой. В обыкновенное время их запирают, но в дни великих смут толпа выбирает их своими вожаками. Ко всему ненормальному, чудесному, таинственному у нее непреодолимое влечение. IV Когда разгораются страсти, в разрушении старых порядков участвуют не только те, которые могут от этого выиграть, но и те, которые при этом все теряют. В ночь на 4 августа в учредительном собрании все наперебой отказывались от своих титулов, богатств, наследственных привилегий, и каждый придумывал, от чего бы ему еще отказаться, чтобы не отстать от других. Это была какая-то азартная игра, в которой бросали на карту целые состояния без всякой надежды на выигрыш. Многие, бывшие до резолюции богачами, вышли из нее нищими. Как это случилось, что они всеми силами помогали ей, они и сами не могли сказать. Вначале думали, что это будет только перемена правительства, сменят верховную власть, сменят министров, и тем дело кончится. Но когда стали носить по улицам воткнутые на пики головы, разводить костры на паркетах, бросать в огонь мебель, а в окна - дорогие зеркала, тогда поняли, что опасность грозит не одним министрам. Толпа, которую выгнали на улицу, чтобы она там шумела и угрожала правительству, не хотела расходиться, когда ей сказали, что она больше не нужна. — Да, мы вам не нужны, - могла она ответить тем, кто выгнал ее на улицу, - вы свое получили, но что мы от этого выиграли? Разве мы стали богаче? Разве нам лучше живется от того, что мы срыли для вас Бастилию? Удовлетворите теперь наши нужды. Верните нам награбленное у нас в течение многих веков. Мы вам помогали, теперь ваша очередь, помогайте нам. Вы нас посылало грабить арсеналы и ружейные лавки, полагая, что мы удовольствуемся Бастилией? Нет, это игрушка в сравнении с тем, чего мы хотим. Уберите ваши суды, мы не признаем их, сожгите законы, мы им не подчиняемся. Смените все власти, мы будем назначать их сами, чтобы они служили народу, а не тем, кто живет за его счет. Распустите войско, мы вооружимся сами, и горе тому, кто пойдет против нас! Перед вооруженной толпой все растерялись. Сначала, назвав ее милицией, думали, что она будет охранять порядок. Все города завели милицию в надежде, что она оградит их от буйных элементов. Но оказалось, что буйные-то элементы главным образом и вошли в нее. Агитаторы это предвидели. Когда они требовали милицию, они вооружали ее против общества. Но добрые буржуа еще верили, что это их опора и защита. К тому же им лестно было надеть мундир национальной гвардии и хоть несколько часов в день быть военными. Сначала все охотно записывались в ее ряды. Но долго этим забавляться людям занятым было некогда. Бросать свою лавочку, свою пашню или мастерскую, чтобы идти на улицу ловить бунтовщиков, усмирять беспорядки, рискуя каждую минуту получить удар камнем в голову, или маршировать ночью с патрулем было вовсе не весело. Они стали нанимать за себя других. Тогда вся бродячая, бездомная Франция браконьеры, военные дезертиры, оборванцы с больших дорог, даже беглые каторжники пошли в милицию. Печать относилась к ним с уважением, потому что это было народное войско. Публика тоже должна была уважать или делать вид, что уважает ее. Даже, когда милиция грабила, никто не смел жаловаться, да и некуда было жаловаться. Судья, который решился бы вынести обвинительный приговор, рисковал своей жизнью. Однажды попробовали было приговорить грабителей к возвращению награбленного, но толпа так рассвирепела, что суд удалился для совещания, потом вернулся и отменил свой приговор. На самодержавный народ жалобы не принимались. Народ, конечно, был тут не при чем. Его именем разбойничали другие. Народ работал по-прежнему, получив от рево- 7 люции то, чего желал. Налоги были уменьшены, да и тех он не платил, потому что не было достаточно сильной власти,чтобы собирать их. Церковная десятина была уничтожена, разорительные платежи помещикам наполовину отменены, но и остальную половину народ не вносил. Он слишком долго платил всем и теперь не хотел платить никому. Значительная часть дворянских земель, на полтора миллиарда франков, перешла в его руки. Получив свое, народ успокоился и перестал ходить на выборы. Через год на выборы явилась только пятая часть избирателей, а в 1793 г. - одна десятая. Из 7 миллионов избирателей отсутствовало 6300000. Избирательная машина пускалась в ход каждые четыре месяца. Надо было выбирать не только депутатов в национальное собрание, но мировых судей, офицеров в национальную гвардию, священников, епископов, городские управления. В конце концов на эти вечные выборы приходилось тратить два дня в неделю. Для рабочего народа это было непосильное бремя. Закон устранил от выборов только домашнюю прислугу да простых поденщиков, получавших меньше 21 су. Депутаты давно требовали уничтожения ценза, просили заменить серебряную марку доверием, - "Substituez la confiance au mare d'argent!" - а Камилл Демулен говорил, что при таком цензе не был бы выбран даже Иисус Христос. Наконец ценз уничтожили, и к избирательной урне должны были являться по несколько миллионов. А так как при этом еще стали пускать в ход кулаки, рабочий люд стал уклоняться от выборных потасовок, очищая место буйному элементу. Когда большинство устранилось, буйное меньшинство захватило все в свои руки. Крестьян в парламенте не было. Они посылали туда своих помещиков и священников, писарей, адвокатов или мелких чиновников. По наблюдениям Лебона, крестьяне и рабочие редко выбирают депутатом своего, он для них не имеет престижа. V Переход к анархии начался с появлением милиции. Увидав, что власть бездействует, все стали вооружаться. В короткое время 400 тысяч граждан были под ружьем. Некоторые города потребовали даже пушек. А власть бездействовала потому, что была дезорганизована, не уверена в завтрашнем дне, не уверена даже в своих агентах и боялась раздражать толпу, которая ответила на это избиением безоружных людей. Какуюнибудь сотню праздношатающихся на площади или в театре дерзостно называли народом, - говорит Тэн. - Открытые грабежи на улицах и в домах, самые зверские убийства совершались его именем. С каждым днем буйства и беспорядки росли, угрожая уже не отдельным лицам, а всему государству. Армия была деморализована, солдаты сажали под арест и отрешали своих офицеров. Один полк вышел с барабанным боем за город и, отрешив офицеров, вернулся с саблями наголо. В другом - солдаты продали ружья и амуницию, а деньги прокутили. В Бресте взбунтовалась целая эскадра против своего адмирала и даже против Национального собрания, которое после разных увещаний должно было уступить бунтовщикам. В судах прославлялся мятеж. Убийц не арестовывали, но производили дознания о заговорах министров. Все власти были парализованы, народные представители исполняли только приказания улицы. Улица врывалась к ним, и под видом депутаций проходили через зал с пьяным гвалтом, плясками и пением. Бонапарт с Бурьеном видели раз эту сцену из ресторана. Будущий повелитель Франции хотел взглянуть на нее поближе. Suivons cette canaille,—сказал он Бурьену. Его возмутило, что допускали такое безобразие. — Нужно бы смести полсотни из пушки, остальные удрали бы без оглядки, - добавил он. Это был роковой день 20-го июня 1792 г. Молодой артиллерист Бонапарт тогда уже знал психологию толпы, о которой сто лет спустя писали Тард и Лебон. Тогда уже расправлял он крылья, чтобы заставить потом всех этих якобинцев и террористов служить себе. На его глазах они вошли во дворец, топором вырубили двери и, ворвавшись в залу, очутились лицом к лицу с королем, и предводитель их, Лежандр, сказал ему: "Monsieur, вы нас всегда обманывали, обманываете и теперь", и заставили его надеть 8 красный колпак. А парижский мэр влез на кресло и рассыпался в льстивых речах перед этой толпой, уверяя ее, что она это сделала "с достоинством и величием свободного народа". VI Безвольный король погиб, но еще раньше погибло всякое подобие правительства. Франции как государства не было, а было 40 тысяч отдельных государств, 40 тысяч самодержавных коммун, управлявшихся малограмотными, а часто и совсем безграмотными людьми. Власть перешла к клубам и к уличным перекресткам, где собравшаяся любая кучка людей объявляла себя представительницей народа и составляла комитет, именем которого производились аресты и люди посылались на гильотину. Стоило только подобрать себе сообщников из уличных отбросов и назвать себя комитетом, чтобы держать в страхе целый город. Одно слово "комитет" действовало устрашающим образом на мирное население. Из кого он состоит, кто дал ему полномочия, об этом не смели спрашивать. Видели только, что человек 12 сидят целыми днями в трактире, перед ними на столе бутылки, чернильница и бумага с перьями. — Не знаю, что они делают,—сказала раз хозяйка трактира, - но они тут с утра до ночи пьют и всех на свете ругают и говорят, что они комитет. В каждом местечке была такая шайка людей, захвативших власть в свои руки, потому что у мирного населения все средства борьбы с ними были отняты. В Лионе три дня власть была в руках проституток. Они захватили центральный клуб и издавали обязательные для города постановления. В Париже был парламент, но повиноваться ему насильники и не думали. Народ был выше парламента, он дал полномочия и каждую минуту мог отнять их. Для этого не нужно было даже новых выборов, а просто народ приказывал ему отменить свои постановления, в противном случае грозил, что исполнять их не будет. Народ - это были опять-таки клубы, комитеты и публика, шумевшая на галереях. Сами депутаты поддерживали в ней эту мысль, что они только ее слуги, а она их повелительница. — Знайте, милостивый государь,—сказали в палате одному смельчаку, предложившему обсудить какой-то проект при закрытых дверях, - что тут наши повелители, которым мы обязаны отчетом в наших мнениях. На галерее сидел всякий сброд из Пале-Рояля, но пресса уверяла, что это народ в своих лучших представителях. Многие из них были наняты клубами по 40 су в день. Раньше им платили по 5 франков, потом сбавили цену. Они свистали депутатам в зале, не давали им говорить, кричали: "молчите, рабы!" или "кто это там говорит? уберите его!" и ждали их у выхода с угрозами. Одного экономиста, говорившего против выпуска ассигнаций, при выходе из заседания бросили в Тюильрийский бассейн. Безобразное поведение публики на галерее поразило приехавшего в Париж американца. Он вспомнил, как в английском парламенте при нем вмиг очистили галерею, потому что одна дама там громко захохотала. А тут публика спускалась иногда вниз к депутатам и начиналась потасовка. В одно из таких бурных заседаний, когда толпа требовала "хлеба и конституции 93 г.", один из толпы, не зная уже, чего еще требовать, кричал: "Ареста подлецов и мерзавцев!" и повторял это с некоторыми паузами целые полчаса. Многие перестали совсем ходить на собрание. Даже люди, совсем не трусливые, боялись, что толпа из подонков потащит их по мостовой. Так ряды депутатов постепенно редели, умеренный элемент исчезал. После каждых новых выборов уровень парламента понижался, В учредительном собрании были таланты, имена, государственные люди. В Законодательное вошли уже главным образом демагоги, теоретики революции, безвсякого государственного опыта, никогда не занимавшие ответственных мест и знавшие людей только по книгам, но среди них были жирондисты, народ в большинстве талантливый. В конвенте царили уже чистые анархисты. Перед ними прежние демагоги казались отсталыми и устаревшими. Тут уже ничем и никого нельзя было удивить. Тут выслушивались серьезно самые дикие предложения вроде петиции одного почтового чиновника, требовавшего отозвания послов, уничтожения дипломатии и 9 возвращения к природе. Тут называли гильотину национальной бритвой, проповедовали священное насилие - 1a sante violence, - уничтожили тайную подачу голосов, как прибежище робких и ненадежных людей, и все власти сделали выборными, и все - на год или на два. Характерная черта толпы—это недоверие к своим избранникам. Не успеет она почтить кого-нибудь выбором, как уже начинает подозревать в том, что он продал ее. Выбирали людей на самые ответственные места, толпа сменяла их, как только они начинали приобретать опытность, и сажала на их место новых. Помимо недоверия тут играло роль и желание удовлетворить тех, кто ждал своей очереди. За дверями стояла алчная, буйная шайка, находившая, что уже довольно попользовались сидевшие на платных местах и пора уступить место им. — У республики есть одно преимущество,— говорил Камилл Демулен, - что мошенников можно вешать. Однако и при республике в министерстве шел повальный грабеж, совершенно так же, как и при монархии. Особенно отличался этим военный министр Паш, который раздавал места и казенные поставки своим родственникам и их любовницам. Министр юстиции Дантон платил казенными деньгами своим приятелям по 10 - 20 тысяч, кому за революцию, кому за патриотизм. Так значилось и в отчетах. Все это всплывало при личных счетах партий, которые тогда не щадили друг друга и печатно обличали в том, кто сколько украл. Издатель самой радикальной газеты Эбер рассылал ее на казенный счет в армию и не только наживался на этом, но еще грабил на поставках в военном ведомстве. А его газета постоянно гремела против казнокрадов и грабителей, которые дерут с народа его трудовые деньги. Недоверие толпы к своим избранникам делало невозможным ввести какой-нибудь порядок в управлении. Только в армии, которая дралась на границе и стояла далеко от растлевающего влияния клубов, восстановилась дисциплина и вернулось сознание долга. Там дрались за родину, за свободу и братство, а тут рвали на части эту бедную родину, грызли ее, как звери, позорили ее, и брат шел на брата. Разоряя страну, разорялись сами. Торговля и промышленность были парализованы. Парижу грозил хронический голод. Но причину этого искали не в раздорах, а в измене и крамоле, в каких-то тайных врагах, продававших страну то Англии, то Орлеанам. Если хлеб был дорог и много было безработных, то это объясняли не тем, что смута выбросила на улицу трудящийся класс, а происками и заговорами капиталистов. Заговоры мерещились везде. Говорили, что королева хочет взорвать Национальное собрание и сжечь Париж. Один депутат уверял, что а собрание направлены пушки, другой, что под него подведена мина, что он слышит даже запах пороха. Тогда его успокоили, что порох запаха не имеет. Счастье, обещанное народу, все еще заставляло ждать себя. Сменили правительство, три раза меняли конституцию, и счастье было все так же далеко, и так же страстно ждал его народ. Хлеб становился все дороже, сажень дров стоила чуть не 20 тысяч на ассигнации. Отчаяние и недовольство росло. Толпа не верила, что обещанное ей было несбыточным. Когда ей не дала этого республика, она пошла за Бонапартом. Даже сам великий, грозный, неподкупный конвент служил потом ему. Уцелевшие от гильотины члены его были потом префектами, судьями, полицейскими комиссарами первой империи. Из депутатов, подававших голос за казнь короля, четверо были впоследствии дипломатами, двое генералами, один жандармским полковником, один министром полиции. Такого финала не ждали от революции те, кто сложил за нее голову. VII А с какими надеждами начинала ее пламенная молодежь и даже государственные люди, как Мирабо! Только трезвый ум Мирабо раньше других понял, что она сметет все на своем пути и выбросит, как щепку, тех, кто хотел ею управлять. Напрасно предостерегал он, что "общество скоро распалось бы, если бы толпа, привыкая к крови и беспорядку, стала выше суда и закона". Когда он увидал, что революция повернула в сторону 10 анархии, он горячо отстаивал вето короля. Это право верховной власти отказывать в своей санкции решениям парламента, он находил единственной гарантией в стране, где была только одна палата и не было второй инстанции, чтобы контролировать ее. — Я считаю вето короля настолько необходимым, - говорил он, - что если бы его не было, я лучше согласился бы жить в Константинополе. Он боялся, что, получив неограниченную власть, депутаты станут самодержавными. — Ничего нет страшнее самодержавия 600 человек, которые завтра могут сделаться несменяемыми, послезавтра - наследственными. Только его громадная популярность спасла его от обвинения в измене за такие слова. Он проехал всю Францию триумфатором с колокольным звоном и пушечной пальбой. Хотели даже выпрячь лошадей у него из коляски и везти его на себе. — Друзья мои, - сказал он, - люди не должны возить на себе своих ближних. Вы и так уже возите их слишком много. Он умел говорить с толпой, держать ее под обаянием своего таланта. Помимо ораторского таланта, его громовой голос порабощал ее. Голос на трибуне - великая вещь. Были ораторы, которые только этим и брали. Они заставляли себя слушать, потрясая воздух в зале и разрушая барабанные перепонки. Один из них мясник Лежандр упрекнул Демулена, что он мало говорил в собрании. — Милый Лежандр, не у всех твои легкие,— ответил Демулен. — Если у вас нет легких, - буркнул тот, - то вы так и сказали бы! Народ отдал бы ваши 18 франков тому, у кого они есть. Здоровые легкие во время революции выдвинули многих. В зале, который мог вместить две тысячи человек, нельзя было говорить, не форсируя голоса. Но зато самые банальные вещи, когда их с пафосом декламировали, производили впечатление. В парламенте, как и на улице, у толпы имеют успех шумные посредственности, которые только звучно и красиво повторяют то, что она думает сама. По словам Лебона, вожак может быть умен и образован, но это скорее вредит, чем помогает ему. Пышная бездарность - вот идеал толпы. И вот в таком-то громадном зале 1200 человек депутатов, в присутствии возбужденной страстной публики на галерее, начали свою работу над переустройством своего государства. Чтобы учредительное собрание могло работать спокойно, говорит Тэн, ему нужна была полная безопасность, тишина, порядок и практический опыт государственных людей. Ни одного из этих условий не было. 1200 человек - это уже толпа, сходка. Надо кричать, это волнует оратора. До ста человек разом встают и говорят. Публика на галерее свищет и хлопает им, как актерам. И они, как актеры, играют для публики. Это клуб, а не собрание законодателей. То, что тут происходило, нельзя было назвать прениями. Каждый говорил свое, не отвечая предыдущему оратору. Обсуждались вопросы, не стоявшие на повестке. Под предлогом неотложности вносились и голосовались самые неожиданные предложения. Не имея никаких специальных знаний, депутаты занялись отвлеченными вопросами. На дебаты о правах человека записалось 54 оратора и по целым неделям говорили об этом на заседаниях. А в это время пылали усадьбы, в стране шел полный разгром. "Монархия все делает тайно, - говорили газеты, - в кабинете и в комитетах, республика - все на трибуне гласно". Но именно эта-то трибуна, вмешательство толпы и не давало заниматься делом. Оно обращало депутатов в ее покорных слуг и рабов. Они угождали ей, были у нее в таком же повиновении, как мелкий чиновник у своего директора департамента. Даже считавшие себя ее вожаками скоро узнали, какому грозному хозяину они служат. Угождать толпе, надевать с ней трехцветную кокарду, громить старые порядки не значило еще заслужить ее благодарность. Одного очень популярного барона продержали час висящим над колодцем, обсуждая, бросить его туда или не бросать. Грабили одинаково и тех, кто был за правительство, и тех, кто был за народ против правительства. Самых добрых помещиков в деревне грабили наравне с другими. В деревне, впрочем, личного мщения помещикам не было. Народ просто истреблял целое 11 сословие. Городская толпа выбирала своими, жертвами отдельных лиц. Она истребляла тех, на кого ей указывали вожаки. Смертные приговоры писались в клубах. VIII Четыреста клубов, под главенством одного в Париже, накрыли страну как сетью. Это была единственная организованная власть в стране. Устраивая везде смуты, поддерживая анархию, она сама сорганизовалась, крепко сплотилась и завела суровую дисциплину. У нее была своя полиция и целая сеть шпионов. Ее полиции могла бы позавидовать старая монархия, которая никогда не могла довести свою до такого совершенства. Каждый клуб, каждая из 48 секций Парижа держали на жаловании 5 - 6 шпионов. При этом назначили поденную плату в 40 су каждому гражданину, который будет присутствовать в секциях. Тогда рабочие предпочли получать 40 су за политические прения, чем 30 су за работу. Для резни на улицах у клубов был особый боевой резерв, из которого набирались убийцы, как например, для известной сентябрьской резни в тюрьмах. Этим платили дороже, по 6 франков в день, потому что работа была тяжелая. — Поверите ли, что я заработал только 24 ливра, - жаловался один пекарь, - а я убил больше сорока человек. Избивая своих противников, как быков на бойне, иной босяк, сверх поденной платы, брал себе башмаки убитого, и то не иначе, как испросив на это разрешение. Когда он приходил потом за деньгами, и комиссар спрашивал его имя, чтобы записать в книгу, он так же спокойно называл его, как будто работал на фабрике. Шесть дней и пять ночей непрерывной бойни утомили даже эту босую команду. "Рука устает рубить, - говорили они, - точно два дня известку мешал". Помимо тайной полиции боевая организация имела еще вооруженную полицию. Коммуна тратила на нее 850 тысяч в месяц. Да около миллиона в месяц тратилось на ничего не делающих рабочих в лагере под Парижем. Все это были готовые кадры для произведения смуты и беспорядков. При помощи их поддерживали террор в городе. Дантон откровенно сознавался, что революционная партия немногочисленна. Как самый умный и талантливый из ее вожаков, он не создавал себе никаких иллюзий. — Мы можем править только страхом, - говорил он. - Надо нагнать страху на умеренный элемент. Всех якобинцев в Париже было пять тысяч. Если прибавить к ним столько же оборванцев, готовых за деньги на все, то весь буйный элемент Парижа составлял тысяч десять и управлял городом, в котором было 700 тысяч жителей. Париж работал, торговал, веселился, а 10 тысяч человек подавали голоса и поддерживали бунт. Всякая попытка умеренной партии участвовать в выборах кончалась избиением ее. Это называлось "устранять худшую часть общества". Сохранив поле битвы за собой, эта лучшая часть общества, т. е. 10 тысяч террористов диктовали Парижу свою волю. Выборы были постоянным источником смут. Там, где выборный период заканчивался, беспорядки на время стихали. Располагая отличной организацией, партия террористов прибегала к тем же самым приемам, за которые поносила монархию. Она не гнушалась перлюстрацией писем и за политические мнения посылала людей на эшафот. У нее были свои тайные кабинеты, где велся поименный список всех политически неблагонадежных. Вместо одной Бастилии у нее было их несколько десятков, только из старой Бастилии выходили иногда на свободу, из новых - была одна дорога - на гильотину. Вместо lеttres dе сасhеt были страшные приказы комитетов. Неприкосновенность личности не существовала. Комитеты арестовывали, кого хотели, не предъявляя не только судебного, но даже полицейского приказа. Они просто присылали комиссара с военным конвоем и по любому доносу производили домовый обыск и уводили людей в тюрьмы. Перед сентябрьской резней одним ночным обыском накинули невод на весь Париж. Все заставы были закрыты, и началась облава. — Ну, что ж, нашли что-нибудь? - спросили у одного обывателя, участвовавшего в обыске. 12 — Да, милорд, наш батальон поймал четырех попов. Как и при старом режиме, хватали людей по одному подозрению. Завели даже особые свидетельства о благонадежности, "cartes de civisme", без которых нельзя было ходить по улицам. Их надо было предъявлять по первому требованию; у кого не было их с собой, тот мог быть арестован тутже на улице. Ни одна монархическая полиция не додумалась до того, чтобы заставить человека носить паспорт в кармане вместо носового платка и требовать его у каждой тумбы. Но его выдавали не всем, и тот, кто не получал его, лишался всех гражданских прав, он был вне закона. Любой прохожий мог схватить его и отвести в полицию. Таким образом диктаторы держали все мирное население в руках. Малейший протест, неудовольствие, даже просто неосторожное слово, и виновный лишался свидетельства о благонадежности; а без него нельзя было даже выехать из Парижа. Это было равносильно смертному приговору. Cartes de civisme - это венец той свободы, которую обещали народу, если он пойдет за вожаками революции. В то время, как народные представители говорили на трибуне о правах человека, вызывая рукоплескание публики на хорах, диктаторы отняли у него даже право свободно ходить по улице. Пока будущие префекты и министры Бонапарта клялись в конвенте умереть за свободу, в центральном комитете храпели на скамейках или дремали сидя, облокотившись на стол, босые или в туфлях на босую ногу, грязные, расстегнутые, немытые люди с растрепанными волосами, с пистолетами за поясом, с саблями, в шарфах на перевязи. Это и были настоящие повелители Франции. Революция вынесла их как пену на поверхность. Она взяла их из подонков общества, где и в мирное время таятся зародыши Маратов и Сен-Жюстов, говорит Тэн, но, сдержанные сильной властью, не могут проявить своих инстинктов. Никому неизвестные, неудачники от рождения, обреченные всю жизнь повиноваться, видевшие везде только начальников и нигде подчиненных, они, вдруг почувствовав свою силу, стали повелевать теми, кто раньше презирал или не замечал их. Опьяненные властью, они начали топтать все, не сгибавшееся перед ними. Целые века культуры, не ими созданной, возбуждали в них дикую ненависть. Талант приводил их в ярость, образование - в неистовство. Они хотели скосить все, что было выше их. Они как в бреду рубили направо и налево, но все еще не могли утолить своей ненависти. Им доставляло удовольствие толкнуть сапогом опрокинутую толпой аристократку и сказать ей: "Встань, негодяйка, народ прощает тебя!" Они совали красный флаг в руки городскому мэру, говорили ему: "Держи, сволочь!" и заставляли силой вести их на уличный погром. В душе у них всетаки жил страх, что вдруг их перехватают, тогда у них было готовое оправдание: их вели городские власти. Почти во всех беспорядках, на случай неудачи, прибегали к этой мере, заставляя законную власть санкционировать мятеж. Уступая насилию, она давала письменный приказ грабить арсеналы или громить тюрьму. Тогда толпа шла смелее с оправдательным документом в руках. В толпе чувство законности никогда не умирало совсем: хоть и слабо, но оно где-то шевелилось на дне души. Особенно это было заметно в крестьянской толпе. Отказываясь исполнять какой-нибудь приказ, крестьяне объявляли его подложным, а присланных из города жандармов или полицейских переодетыми бунтовщиками. Или наоборот: вдруг своими глазами видели бумагу от начальства, чтобы никому ничего не платить и бить помещиков. IX Без вожаков толпа никогда не начинает беспорядков. Это обезглавленное туловище, которое самостоятельно двигаться не может. И великие психологи, как Наполеон, знали, что стоит только перехватить вожаков или привлечь их на свою сторону, чтобы волнения тотчас же утихли. Слова Тарда, что толпу увлекают не избранники, а отбросы - не всегда справедливы. Ее вели иногда пророки, но только до тех пор, пока она ждала от них чуда. Кто не мог обещать ей чуда, обещал ей свободу, братство, равенство, - все что волновало ее воображение, давало иллюзию, что рай на земле возможен. Такие слова, как свобода, социализм, демократия, имеют магическую силу над толпой, говорит Лебон. Они вызывают в душе туманные образы, но в самой туманности их таин- 13 ственная сила. Он же рассказывает, как одно слово "федеральная республика" свело с ума Испанию в 70-х годах. "Федеральная республика" - это было так красиво, что когда кортесы ее провозгласили, все радикалы были в упоении. На этом играл и Наполеон. Для солдат он сочинял пышные приказы, в которых обещал им славу и в этой жизни, и в будущей, для публики - громкие фразы в духе той самой республики, которую он положил в гроб и поставил ей памятник с императорской короной, чтобы она не встала из могилы. Составляя новый закон о государственных тюрьмах, он приказал государственному совету предпослать ему две страницы соображений "с либеральными идеями". Под этим соусом закон прошел, и французы, проливавшие кровь за уничтожение Бастилии, получили сразу восемь Бастилий. То же самое делали до него террористы. Они писали на воротах тюрьмы "Свобода, Равенство, Братство", и сажали туда людей, которые этому верили. Люди так любят быть обманутыми, и французы в особенности, что верили всему, что их тешило. Когда нужно было отправить кого-нибудь на гильотину, террористы возмущались медленностью суда, уверяя, что народ этим недоволен, "он устал и негодует". Они все решали за него. Воля народа известна, ее знают заранее, поэтому можно действовать, не спрашивая его. Ему льстили на словах, а когда этот самый народ хотел исповедываться у священников, не присягнувших новому правительству, его вытаскивали силой из исповедальни. При этом его уверяли, что у него теперь превосходное, лучшее в мире правительство. Известный художник Давид заявил в конвенте, что "при таком чудном правительстве женщины будут рожать без боли". А кто этому не верил, мог идти на гильотину, - "думай как я, или трепещи и умри!" Боевая организация шутить не любила. Она уничтожила дисциплину в армии, в администрации, в парламенте, внесла анархию в общество, разлагала все кругом, но у себя поддерживала самый суровый, деспотический режим. Чтобы толпа не роптала, ее развлекали шутовскими сценами в парламенте. Приводили туда оборванцев, одетых турками, арабами, персами, называли их посланниками человечества и заставляли декламировать против тиранов. На другой день они приходили за деньгами. "Это я, monsieur, был вчера холдейцем", говорил кто-нибудь из них, желая получить свои 40 су. Чтобы народные представители не заметили, что управляют страной не они, а боевая организация, она предоставляла им заниматься пустыми разговорами и свергать министров за то, что они не исполняют неисполнимых постановлений. Всякое убийство, которое совершала партия террористов, она объявляла политическим. За ней охотно следовала этому примеру и толпа. Рабочий в порту, убив булочника, говорил на суде, что он хотел отомстить за нацию. Чтобы сделать преступление ненаказуемым, его объявляли политическим. Зато было преступно и наказуемо все, в чем обвинялась умеренная партия, даже когда она боролась не претив новых порядков, а против беспорядка. У боевого комитета были свои десять заповедей, и шестая гласила: "Не убивай никого без моего приказания, ибо я один знаю, кого надо убить". Но бесконечно управлять террором нельзя, истребить всех умеренных невозможно, потому что умеренные - это все мирное население. Что оно может сплотиться и разом опрокинуть самозванное правительство, это всегда пугало самозванцев в комитетах. Рука устала рубить направо и налево; а в душе рос ужас, что стоит кому-нибудь сказать одно слово, и все рухнет, от их комитетов праха не останется. И это слово сказал не враг, а свой, их же союзник, Камилл Демулен. Пламенный поклонник революции, он ждал от нее свободы, а не потоков крови. Когда он увидал, что в крови утопили не только свободу, но задушили мысль, он пришел в ужас и предложил учредить "Комитет милосердия". За это его потащили на суд революционного трибунала. Напрасно он защищался, говорил, что его не так поняли, что он хотел сказать не милосердия, а правосудия; за одну мысль о милосердии боевая организация приговорила его к смерти. Для людей, которые держались террором, это слово было страшнее всего. Это был бы конец их власти. 14 Перед казнью он писал жене из тюрьмы, что слишком много пролито крови. "Я нахожу, что такой ценой мы должны бы получить больше счастья". Потом, как предсмертный стон, вырывается у него вопль обманутой души. "Знаешь ли ты Жак Боном, - говорил он французскому народу, - куда ты идешь? на кого ты работаешь?" Жак Боном этого конечно не знал, но люди со здравым умом, случайные свидетели революции, американские демократы давно это знали и говорили о французах: — Они еще не испытали, что такое слабое правительство, и не боятся анархии... Они хотят американской конституции, забывая, что у них нет для этого американских граждан. С таким же сожалением смотрели на них англичане. Они удивляясь народу, который думал, что, уничтожив правительство, он станет свободным. Передав власть в руки уличной толпы и террористов, народ попал в такое рабство, что даже диктатура Наполеона показалась ему освобождением. Так кончился этот грандиозный опыт царства толпы. Подводя ему итоги, наука о толпе говорит следующее. Толпа консервативна. Всякая новизна пугает и раздражает ее. Новая идея проникает в нее с трудом, но раз проникнув, она имеет над ней громадную власть. В общих идеях страшная сила, особенно когда они просты и действуют на воображение. Толпа не рассуждает, она все принимает на веру. Она презирает слабую власть и рабски подчиняется сильной. Думать, что она борется за свободу, когда она бесчинствует на улицах, могут только анархисты. Свобода по существу ей противна. Свобода требует уважения к чужим правам, а уважать их толпа органически не способна. Она подчиняется только престижу, обаянию одного лица или идеи. Во всем остальном единственное право и закон для нее—это ее воля. Сохрани Бог, чтобы свободная Россия не пережила такой истории, которую пережила Франция во время Великой Французской революции. Примечание редакции сайта (*) Последнее издание: Лебон Г. Психология толп. Тард Г. Мнение и толпа. В кн.:Психология толп. М. Ин-т психологии РАН - Изд-во КСП+ (Б-ка социальной психологии). 1999.