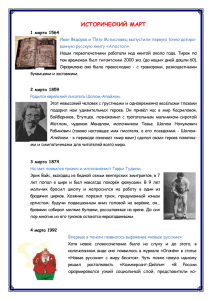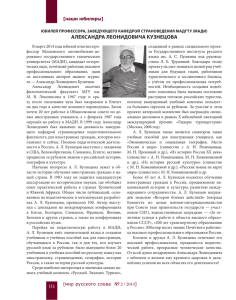Саратов Павла Кузнецова. Заметки местного жителя
реклама
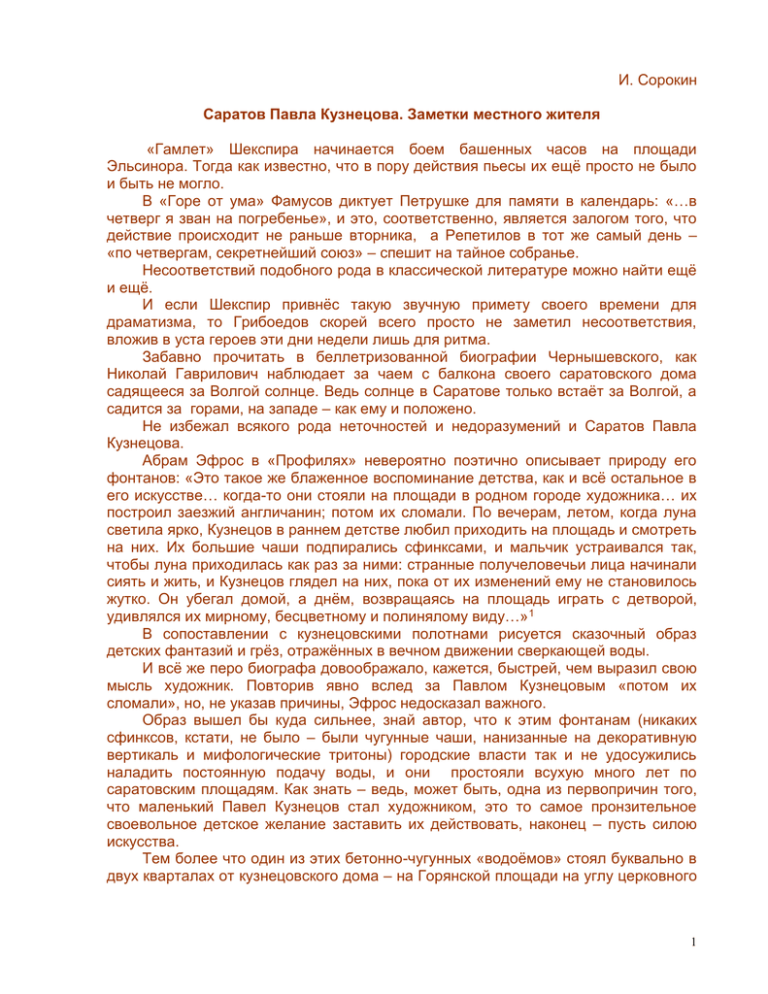
И. Сорокин Саратов Павла Кузнецова. Заметки местного жителя «Гамлет» Шекспира начинается боем башенных часов на площади Эльсинора. Тогда как известно, что в пору действия пьесы их ещё просто не было и быть не могло. В «Горе от ума» Фамусов диктует Петрушке для памяти в календарь: «…в четверг я зван на погребенье», и это, соответственно, является залогом того, что действие происходит не раньше вторника, а Репетилов в тот же самый день – «по четвергам, секретнейший союз» – спешит на тайное собранье. Несоответствий подобного рода в классической литературе можно найти ещё и ещё. И если Шекспир привнёс такую звучную примету своего времени для драматизма, то Грибоедов скорей всего просто не заметил несоответствия, вложив в уста героев эти дни недели лишь для ритма. Забавно прочитать в беллетризованной биографии Чернышевского, как Николай Гаврилович наблюдает за чаем с балкона своего саратовского дома садящееся за Волгой солнце. Ведь солнце в Саратове только встаёт за Волгой, а садится за горами, на западе – как ему и положено. Не избежал всякого рода неточностей и недоразумений и Саратов Павла Кузнецова. Абрам Эфрос в «Профилях» невероятно поэтично описывает природу его фонтанов: «Это такое же блаженное воспоминание детства, как и всё остальное в его искусстве… когда-то они стояли на площади в родном городе художника… их построил заезжий англичанин; потом их сломали. По вечерам, летом, когда луна светила ярко, Кузнецов в раннем детстве любил приходить на площадь и смотреть на них. Их большие чаши подпирались сфинксами, и мальчик устраивался так, чтобы луна приходилась как раз за ними: странные получеловечьи лица начинали сиять и жить, и Кузнецов глядел на них, пока от их изменений ему не становилось жутко. Он убегал домой, а днём, возвращаясь на площадь играть с детворой, удивлялся их мирному, бесцветному и полинялому виду…» 1 В сопоставлении с кузнецовскими полотнами рисуется сказочный образ детских фантазий и грёз, отражённых в вечном движении сверкающей воды. И всё же перо биографа довоображало, кажется, быстрей, чем выразил свою мысль художник. Повторив явно вслед за Павлом Кузнецовым «потом их сломали», но, не указав причины, Эфрос недосказал важного. Образ вышел бы куда сильнее, знай автор, что к этим фонтанам (никаких сфинксов, кстати, не было – были чугунные чаши, нанизанные на декоративную вертикаль и мифологические тритоны) городские власти так и не удосужились наладить постоянную подачу воды, и они простояли всухую много лет по саратовским площадям. Как знать – ведь, может быть, одна из первопричин того, что маленький Павел Кузнецов стал художником, это то самое пронзительное своевольное детское желание заставить их действовать, наконец – пусть силою искусства. Тем более что один из этих бетонно-чугунных «водоёмов» стоял буквально в двух кварталах от кузнецовского дома – на Горянской площади на углу церковного 1 скверика, образуемого Московской и Соляной. Именно к нему, скорее всего, и прибегал для вечерних созерцаний маленький Павел Кузнецов. Вот как описывает злосчастную судьбу этих водомётов саратовский историк Гераклитов: «Теперь уже не осталось в Саратове фонтанов. Но когда англичане строили свой водопровод, то, полагая, что они имеют дело с европейским народом, устроили их несколько на городских площадях. Один, помню, был на Митрофановской площади, против теперешней часовни; другой у старого Михаила Архангела, где теперь маленький сквер; один на Театральной площади, где-то между театром и музеем; два на Соборной площади по концам Липок — против Немецкой и Б[ольшой] Кострижной улиц. Бассейны были устроены из цемента и снаружи украшены гербами Саратова, а самое водомётное сооружение покоилось на группах тритонов и еще каких-то фигур. Так как саратовские обыватели в мифологических изображениях ничего не понимали, а вообще к английской затее относились недоверчиво, то добрые души из старушек решили, что фигуры изображают английских богов и что англичане намерены обратить саратовцев в свою веру. Затем саратовские граждане быстро освоились с иноземной штукой и устроили из бассейнов отхожие места, загадив их до безобразия, так что и устроители махнули рукой на своё сооружение. Последний раз фонтаны действовали во время празднеств по случаю коронации Александра III»2. Коронация происходила в Москве 15 мая 1883 года. А значит, пятилетний Павел Кузнецов их, эти последние струи времён коронации, наверное, видел. Вот же оно: «…всё его творчество – это лишь блаженное воспоминание детства»! Автор текста последнего монографического альбома о Павле Кузнецове явно по незнанию скрещивает среднеазиатские изобильные базары с заволжскими верблюдами: «Для Кузнецова Восток не был чем-то неожиданным, новым. Его художник знал с детства, ведь за Саратовом открывались заволжские степи, это уже была та Азия, которую он видел на саратовских базарах, куда киргизы, одетые в национальные костюмы, привозили на верблюдах фрукты и другие дары земли»3. Какие другие дары земли, кроме как соль и ветер, могли привозить на измученных жаждой клочкастых верблюдах из Заволжья странные люди, одетые в пёстрые халаты – кочевые странники киргиз-кайсацкой орды, теперешние казахи? Даже такой невероятно чуткий и добросовестный исследователь, как А.А. Русакова, которая не один месяц подробно расспрашивала, записывала, разбирала архив, специально приезжала в Саратов и даже останавливалась в самом кузнецовском доме, допустила ряд неточностей: «Перед домами, защищая их от палящего солнца и пыли, – клёны, осокори, акации… К Глебучеву оврагу, который «отцы города» всё собираются – да так и не соберутся – засыпать, сбегает, пересекая главные улицы, Немецкую и Московскую, тенистая, мощённая булыжником Полицейская. Здесь, над оврагом, стоит двухэтажный каменный дом. Из широких окон деревянного мезонина видна мягко круглящаяся вершина Соколовой горы – самой высокой в окрестностях Саратова»4. На самом деле, клёны никогда не высаживались на улицах города, не говоря об осокорях, растущих только возле воды. Осокорь – народное название чёрного тополя, говорящее само за себя: дерево, растущее в осоке. Полицейская (Октябрьская) пересекает одну только Московскую. А с Немецкой, плавно 2 перетекая одна в другую, её соединяет за Липками небольшая, в четыре квартала, Армянская (Волжская). Засыпать овраг никто не мог даже и собираться ввиду его величины, но только «покончить с ним» – повывести смертельную бедноту и гнилые болезни, облагородить и озеленить – мечтали на заседаньях думы. А дом Кузнецовых – в три уровня деревянный на каменном полуэтаже, выходящем на улицу (и с улицы, и со двора он действительно смотрится двухэтажным, надо признать – и только со стороны оврага понятно, что, стоя на склоне, он имеет три «этажа»). Да и Соколовая гора отнюдь не самая высокая – просто ближе других и видна из окна… Человеку из другого мира и другой среды, разумеется, трудно, а иной раз и невозможно понять взаимосвязь физики места с её метафизикой. У сторонних наблюдателей есть другое ценное преимущество – видеть со стороны, смотреть панорамно, обобщать. А изложенные ниже наблюдения изнутри разве что помогут будущим исследователям чуть глубже понять, выражаясь словами Ахматовой, «из какого сора» выросли классические образцы искусства. А значит всё-таки необходимо вглядеться и вчувствоваться в этот Саратов взглядом местного жителя – пусть, учитывая фактор прошедшего времени, это не вполне достоверно, может быть, но всё же близко по чувству. Сколько бы ни написал автобиографий Павел Варфоломеевич, все они начинаются одной фразой. Сколько бы ни составил «списков основных произведений» – будь они величиной в дюжину или несколько десятков – они все начинаются с одной работы. Фраза эта: «Родился в Саратове в семье садоводов». Работа: этюд «Дворик в Саратове» 1896 года. Видимо, именно эти две вещи – дом (вернее, первый живописный этюд, «взятый» по большому счёту, по-настоящему достоверный и потому очень дорогой памяти и сердцу) и сад – были очень важны для него и легли в фундамент творческой судьбы. Начнём и мы анализ «Саратова Павла Кузнецова» именно с них. Местоположение и устройство садов «Себя я помню с трехлетнего возраста, с тех самых пор, когда я впервые увидел восходящее солнце весной, при переезде моей семьи в цветущие сады... На озаренном зелено-фиолетовом небе показалось золотое солнце, отражаясь в весенних водах гигантского пространства Волги...»5 Там, в этих садах, он впервые остро почувствовал «прелесть своей жизни». «Мою душу переполняли восторг и радость, хотелось это состояние как-то передать другим людям», – так словами художник позже попытался объяснить начало своего творчества. Много лет спустя Павел Кузнецов вспоминал, завидуя своей молодости с ее неуёмной энергией, о «свирепой летней работе в цветущих садах»: «Не одну сотню раз бывал я на этом месте, знаменательном по красоте огромных холмов, и не одну сотню полотен написал я именно с этого места…»6 Так где же географически располагались эти самые сады? Записки о Саратове титулярного советника К.И. Попова свидетельствуют о ситуации, сложившейся в 1830-х годах: «Окружённый довольно высокими горами, Саратов расселился на обширной, образуемой этими горами кругообразной площади, примыкающей к самому берегу реки Волги. …Все эти горы (Соколовая, Лысая, Лопатина) имеют скаты внутрь Саратова, а Лысая гора разделяется на 3 несколько уступов. Между уступами её образовались довольно обширные площади, изобильные родниковой и ключевой водой и лучшей чернозёмной землёй. Эти места первоводворяемые жители Саратова разобрали, расчистили, развели на них фруктовые сады, устроили домики, открыли родники, поделали пруды, бассейны и чигири. Теперь сады (из яблонь и груш) в цветущем положении и владельцам приносят хорошие доходы, в особенности в урожайные годы»7. К концу XIX века сады уже распространились как в сторону нынешних Дачных остановок вдоль Московской дороги, так и заступили за Соколовую гору и находились на северном её склоне, спускаясь через Маханный овраг к Волге. Это были не какие-нибудь небольшие частные участочки, а довольно обширные регулярно устроенные пространства, имеющие промышленное значение. Это были городские сады, сдававшиеся частникам в аренду. И покупали в них яблоки не вёдрами или корзинами, а подводами или пудами. Именно о таком фантастическом месте детские воспоминания городского головы Ивана Яковлевича Славина: «Тогда не было поездок на лето на дачи, да и дач-то пригодных почти не было. Были «сады», как промысел. В садах, во множестве разведённых на городской земле, жили собственники, если они сами эксплуатировали свой сад, или же «съёмщики» (арендаторы), которым собственники сдавали снятие плодов. <…> Солнце уже не жжёт, как в июле; оно сильно греет, как поздней весной. Небо чистое, воздух свежий, прозрачный; тихо; в садах стоит аромат спелых и ещё дозревающих плодов… Мы заезжаем в разные сады, и пока мать смотрит яблоки, груши, сливы, мы бегаем по саду. Нам разрешено подбирать «падаль», то есть плоды, упавшие с деревьев на землю, и потреблять их. <…> Наконец уже всякие аппетиты в этом направлении удовлетворены; мы пресыщены… перед нами, около шалашей, куда обычно сносятся снятые с деревьев фрукты, высокие кучи, напоминающие маленькие конусообразные горки. Я бросаюсь на эту горку, ложусь, переворачиваюсь, зарываюсь в груды яблок; они мягко, нежно ударяют меня по голове, закатываются под сорочку в ворот рубашки; под барахтающимися ногами, под спиной, у боков я чувствую, ощущаю яблоки; я утопаю в них <…> меня охватывает нежный тонкий аромат, я закрываю глаза, жадно вдыхаю этот упоительный яблочный букет, а солнце также нежно и ласково греет мои ноги, мою спину… Мне ярко припомнился этот эпизод, когда много, много лет спустя я прочёл у Достоевского, что тело молодой женщины пахнет свежесорванными яблоками»8. «…В семье садоводов» Дед художника по материнской линии садовод Илларион Михайлович Бабушкин жил спокойной природной жизнью с простым и удобным укладом, почти крестьянским, безо всяких «претензий». Подтверждением тому служит самая ранняя семейная фотография, на которой по-крестьянски одетый с обширною бородою и натруженными руками дед держит на руках маленького внука Павла, а рядом, за самоваром, бабушка Марина, старший из внуков Михаил и сын Василий со своей женой. Это скромный пикник на склоне Соколовой горы – вдали виднеется Волга с островами. Таков был один из самых распространённых и доступных видов отдыха того времени. 4 Виктор Кузнецов, самый младший из братьев, будущий виолончелист, в одном из своих «охотничьих рассказов» вспоминает: «Когда мне было лет тринадцать, я уже хорошо умел стрелять в дичь из одноствольной централочки, подаренной дедом: сидящих бил без промаха, попадал в летящих коростелей и даже убивал вальдшнепов. Дед мой, садовод, жил в саду близ Волги. Охота была под руками, и у деда всегда водились хорошие сеттера. Я часто бывал на охоте с дедом и братом-художником»9. Не исключено, что фраза «родился в Саратове в семье садоводов» – не только дань уважительной памяти и любви к «добрейшей души человеку», благодаря которому все дети в семье научились жить в согласии с природой и чувствовать её. И вовсе не попытка скрыть на всякий случай своё истинное происхождение – семья иконописца – в непонятное атеистическое время. Окружённый с младенчества заботами бабушки Марины и суровой лаской деда Иллариона, проведя первое время жизни в их доме, Павел вполне оправданно мог заключить, что родился именно в семье садоводов. Пусть и родился в доме у Привалова моста, который по семейному преданию был подарен молодым к свадьбе10. Чигири, запруды, останцы, овраги, Волга Для того чтобы стала понятной физика местности, её необходимо в буквальном смысле исследовать: пока не пройдёшь пешком, не поймёшь, что воду для полива садов, разумеется, брали не из Волги (хотя, не зная подробностей местности и читая «в цветущих фруктовых садах на берегу Волги…»11 – представляешь себе без сомнений именно Волгу – откуда же ещё брать воду для полива!?) Но какая может быть Волга, когда склоны долины сбегают к ней и тянуть эту воду вверх трудно и неразумно. Так становится очевидным, что чигири были устроены вверху и «раздавали» воду деревянным желобам, чтобы те разносили её по саду естественно и просто – сверху вниз, согласно законам физики. Там для этого есть и ручей, впадающий в Волгу в дальнем Затоне, и множество удобных отвержков в верховьях оврага для устройства запруд. У Аллы Александровны Русаковой есть подсказка: «Это действительно сад под Соколовой горой со своими приметами – деревьями в цвету, водоносным колесом, отражениями в пруду, только сад ещё более прекрасный, чем в натуре, избавленный от всего второстепенного, внеэстетичного»12. Подсказка здесь – упоминание пруда. Почти живым, мистически одушевлённым сооружением изображён этот пробуждающийся после зимней спячки механизм в рассказе К. Федина 1919 года «Сад»13: «На берегу растопырился неуклюжий, громадный чигирь, весь в шестах и брёвнах, подпирающих нелепую машину, словно локтями, безобидный и молчаливый, несмотря на чудовищность шестерён и валов, сонный после зимней спячки, непонятный в мирной зелени расфуфыренных вётел. Силантий осмотрел желоба, расходившиеся по сторонам корыта на самой верхушке чигиря … осторожно спустился в колодец … и принялся выбрасывать мусор наружу. 5 Потом крикнул наверх коротко и зычно: – Чигирь! Садовничиха налегла всем телом на коромысло, в которое прежде впрягали лошадь, и сад, простор реки, всё небо огласилось скрипом, визгом, стоном, захлюпали ковши, цепляясь один за другой, хрустнули зубцы шестерён, взвизгнули неуклюжие, медлительные валы, и мирная тишина нехотя заворчала, точно недовольная, что её вывели из неподвижности. Как будто ждал этого сигнала притаившийся в кустах птичий мир, и в ответ на стоны чигиря разноголосый вопль прокатился по всему саду, рассыпался по кустам, метнулся в неистовой радости к небу и замер там, словно завороженный чудовищным красным шаром, появившимся на краю неба». И когда рассматриваешь заинтересованно ранние работы Кузнецова, где изображён этот механизм («Весна». 1904; «Утро в саду». 1904; «В саду. Весна».1904–1905; «Цветущая яблоня». 1910), отчётливо понимаешь, что никакой он не «странный плод воображения», а реальная действующая машина для облегчения тяжёлого человеческого труда. Срисованная с настоящей – только всё равно опоэтизированная и почти бесплотная. Чигирь – удивительный механизм, в котором совмещено всё: жажда познания, взрослость работы с детскостью каруселей, любовь и жалость к животным, вынужденным ходить как заведённые по кругу, с жестокостью повелителя – вода! Здесь много детского счастья: опыты с водой – переливание, сверкание на солнце, испарение, возможность баловства и шалости – новая степень свободы. Это тоже своего рода «фонтан» – только функциональный, прикладной, применимый в хозяйстве. Но от того ничуть не менее поэтичный. Даже напротив – в нём будто заключена эта вековечность неостановимого круговращения Вселенной. И удивляешься, откуда у простого народа такое глубинное знание космоса природы, когда вдруг понимаешь, что «рифма», сочетающая название этого «водоносного устройства» и название утренней звезды (Венеру в Поволжье называют Чигирём), неслучайна! Ведь только недавно учёные выяснили, что на планете Венера есть вода, которую она неспешно носит из века в век по утреннему небосклону… И сейчас ещё, пристально вглядевшись, можно найти следы той удивительной жизни. Если «свалиться» по северному склону Соколовой горы в районе мусульманского кладбища, то выйдешь к вершине Маханного оврага. Истоки речки, правда, погребены сейчас под колоссальной свалкой. Следом за дамбой верхнего пруда идёт ещё один, поменьше, после которого речка, петляя, добирается уже до самого большого из трёх каскадно-расположенных прудов. На этом участке есть удивительный природный объект – обточенный речкой огромный останец – высокий и узкий остров, шириной иной раз только в тропку. Смельчакам, рискнувшим взобраться и пройти по узкому гребню, над отвесными кручами, испещрёнными ласточкиными гнёздами, он грозит смертельной опасностью. Созерцателям, присевшим в сумерках размечтаться на соседнем склоне, даёт пищу фантазии: то видится отдыхающим верблюдом, то драконом, то громадным пером вынырнувшей древней рыбы… Здесь же, в верховьях, бурные весенние воды прорыли в склоне древней Соколовой горы небольшие узкие ущелья, даже расщелины, со дна (по пояс набитого старою 6 листвой) которых тянутся к свету высоченные стройные деревца. Настоящие каньоны для игр в индейцев или «урочища» для разбойников. Куда можно попасть, лишь пройдя по звериным тропам или спустившись по стволу приникшего к склону дерева. В общем, настоящий пацанский рай. Чуть ниже хорошо выбираться из запруженных садами пологих лощин на нагретые солнцем лбища маленьких отрогов Соколовой горы. Абсолютно постепному голые, куда лишь изредка взберётся отбившееся от стада одинокое деревце серебристого лоха с бледною и нежною листвой, которая при луне видится белой. С огромными шипами и серебристыми плодами, называющимися в любом саратовском детстве «фениками». Сюда хорошо выбираться, чтобы, среди стрёкота кузнечиков и цикад, смотреть далеко вперёд над огромною Волгой. Именно здесь можно испытать необычные физические явления, подобные тем, что привели в Хвалынске маленького Петрова-Водкина к неожиданному видению мира, космическому и сферичному. Здесь очень просто так вертикально лечь в душные травы, что, прилепленный к склону холма, будешь почти стоя парить над неохватным простором. Именно этот волжский пейзаж и был первым большим удивлением и озарением будущего художника: «Себя я помню с трехлетнего возраста, с тех самых пор, когда я впервые увидел восходящее солнце весной, при переезде моей семьи в цветущие сады...». Зная свойства местности, легко предположить, что, выехав из дома затемно, подвода со скарбом к самому рассвету поднялась по Симбирскому тракту (или по Мясницкой) на гору и завернула на восток, и тогда: «…на озаренном зелено-фиолетовом небе показалось золотое солнце, отражаясь в весенних водах гигантского пространства Волги...» И, что интересно, здесь совсем не та Волга, которую привычно видеть из города, а огромная, почти вертикально лежащая масса воды, разлитая между бесчисленных островов и островков, распавшаяся на рукава, протоки и воложки. И странным образом небо за этой Волгой кажется выше, чем в других местах. И трудно удержаться, чтобы не утверждать, что именно отсюда мысленно смотрел Павел Варфоломеевич, работая в Москве над маленькой статьёй к подборке автолитографий «От Саратова до Бухары» 3 марта 1923 года: «Против города Саратова, в котором я родился и где до сего дня живёт моя мать, мой братмузыкант и мой друг, славный художник Пётр Саввич Уткин, раскрывается громадное воздушно-степное пространство, не мешающее мысли и взгляду человека пролетать бесконечные дали, нестись к горизонтам, утопать и изумительно растворяться в небе с необычайными формами миражного очертания»14. Соколовая гора, Дальний Затон, Займище и находящийся против них огромный Зелёный остров – вот миры, вращающиеся вокруг долины Маханного оврага с детскими «дедовскими садами» Павла Кузнецова. Здесь же и чуть более взрослые орбиты – подростковые, юношеские. Только по-другому, уже живописно осознанные. Если перевалить через гору в районе Соколовского переулка, того самого, где жил родной друг, художник Пётр Уткин, и пойти чуть вправо, как раз попадёшь в район нижнего пруда, и тогда по левую руку будут истоки Маханного оврага с изрезанными склонами горы, а по правую – уже долина с огромною Волгой впереди. 7 А за следующим увалом – Займище. Этим словом на Волге называют широкие поймы с заливными лугами, где во время весенних разливов набирают свою силу, отражаясь в недвижном мелководье, огромные осокори. Тот, кто заметит в экспозиции Третьяковской галереи пронзительно осеннюю работу Уткина «Займище», поймёт, какую звонкую тихую тайну хранил в своём сердце художник. И от всего этого становится многое понятным. К примеру, что не только сочетанье имён, притягивающих друг к другу, – Пётр и Павел, но и один на двоих центр мира сделал их, Уткина и Кузнецова, неразлучными. Ароматы прозрачностей: природа живописи и некоторые местные особенности «Душа, — писал Павел Кузнецов из Саратова почитателю своего молодого таланта и работодателю Савве Ивановичу Мамонтову, – рвётся от напряжения чувств, Божественного Сочетания»15. «Время летит очень быстро, прошло уже лето, наступают ветра и дожди. Сегодня чудесный день, сквозь тонкую пелену просвечивает солнце... Я работаю. Впиваюсь в ароматы прозрачностей. Написал несколько симфоний, трудно закончить...»16 – сообщает он своему старшему другу Виктору Эльпидифоровичу Борисову-Мусатову. А своему педагогу Валентину Александровичу Серову, предупреждая, что задержится в Саратове еще на месяц, говорит: «... с наступлением удивительной осени много хочет душа, стремление ввысь все сильнее и сильнее. Я дошел до бреда от красоты, намерены меня привязать на ленту... Живу в золоте серебре красок настроения, вкусно очень вкусно, какой восторг...»17 Художник в этих своих признаниях поэтично определил, пожалуй, главные особенности местной природы: – «сквозь тонкую пелену просвечивающее солнце», – «ароматы прозрачностей», – «золото и серебро красок настроения». Несколько тонких наблюдений о местной природе заключено в небольшом труде А.Т. Симоновой «Пейзажные образы Саратовского края». Объясняя рождение мусатовской палитры, она перечисляет перламутровый перелив Волги, синеву далей, голубые и розовато-сиреневые тона холодных зимних закатов, воздух, струящийся лёгкой дымкой над нагретым зеркалом вод: «Он предпочитал серебристо-серые, тёплые жемчужные и палевые, слегка разбелённые синие и зелёные краски. Но более всего Мусатов любил синий и голубой цвета. Светлая сине-зелёная поверхность его работ почти всегда голубой тональности. <…> Всюду: в тенях, в зелени, на воде, в далях – он видит голубые рефлексы (отражения) высокого чистого неба. <…> Основные цвета мусатовской палитры – синие, зелёные и белые, ритмично соотнесённые на поверхности холста, задают определённую «музыкальную» тональность. Зелёные тона рядом с белыми как бы «голубеют»; синий, воспринимая отражения белого и зелёного, становится светлее; белый вбирает в себя все оттенки соседних цветов, и опять-таки с преобладанием голубого. Создаётся общее впечатление голубоватой дымки, обволакивающей изображение, отчего пейзаж и люди в произведениях Мусатова 8 звучат то «просветлённо-грустно, то мечтательно-возвышенно»18. Русакова в монографии о Мусатове пишет: «В пейзажах и композициях молодого Кузнецова – то же, что и у Мусатова, растворение природы в чувстве художника, быть может, лишь более жгучем и интенсивном; та же светлая синева, отливающая серебром, с розоватыми и лиловатыми оттенками, в основе которых, даже в самых отвлечённых композициях, всегда будут лежать реальные жизненные впечатления»19. Влияние природы, свойств местности здесь безусловно. И пятьсот лет назад местные мастера точно так же брали свои краски, соотнося их с нежной рассветной дымкой над плавной, сверкающей солнечными бликами, Волгой. Разве не удивительно прочесть в подтверждение тому в археологическом исследовании профессора Ф.В. Баллода о художественных свойствах керамики, найденной на развалинах Увека: «…золотоордынский художник не копировал; находясь под воздействием разнородных художественных настроений, он – создавал перепевы, выражения своего настроения <…> и Гинзбург правильно отмечает чисто «девичью нежность в рисунке и красочной гамме», явно соответствующую художественному настроению в одинаковой степени и крымского художника, и волжанина. Отсутствует «изобилие чёрных и красных, вообще ярких пятен»; созвучие нежных тёмно-синих, голубых, светло-зелёных и белых тонов лишь изредка прерывается более яркими зелёными поливными изразцами. Но эти, порой, кричащие пятна, подобно позолоте, лишь драгоценные камни, которыми усеян ковёр инкрустации стен, редко воспроизводящий мотивы реальной природы, чаще импровизирующий разводы и плетенья из идеальных форм, созданий творческой фантазии художника-поэта»20?! Эти утренние дымки и вечерние разымчивые неги над Волгой безусловно всякого наблюдателя плавно уведут в поэзию созерцательного счастья. Но есть ещё целый ряд, может быть парадоксальных, но таких же важных для понимания природы саратовской живописной традиции, наблюдений. К примеру, кажется, ничуть не меньший вклад в разымчиво-нежную гамму местных художников привносит такая непоэтичная, но на удивленье точная (аутентичная) вещь, как пыль – вечная, в сочетании со зноем и ветром, напасть степного края. Пыль и солнце Константин Федин, рассматривая акварели земляка-саратовца Владимира Милашевского, был удивлён и обрадован узнаванию яркого «характера» саратовской пыли: «Наша пыль на горах? Правда? <…> А кто из саратовцев, в разгар заволжских суховеев застигнутый где-нибудь на Большой Горной улице порывом раскаленного ветра, — кто не останавливался посреди дороги, зажмурившись, зажав лицо руками и выжидая, когда промчится смерчем устрашающий порыв ветра и даст передохнуть? <…> Пыль, оказывается, может быть живописна!»21. Павел Кузнецов был уже подростком, когда в Саратове началась планомерная борьба с пылью: по инициативе губернатора Андрея Ивановича Косича, в 1888 году было высажено 400 000 молодых деревьев, а в следующем впервые начата поливка улиц. Но и по сию пору борьба эта не окончена… Пылевые бури местные жители иронично называют «саратовским дождём» – на всём пелена (это для французов и искусствоведов – нежное слово «флёр»… А для саратовца и степняка – пыль). Не зря, наверное, на вопрос ученика уже 9 пожилому Павлу Варфоломеевичу, «как Вы выработали свой стиль», последовал безыскусный ответ: «Летом в степь ездил, а зимой в Париж. Так и выработал» 22. Если воспринять искусственно – получится почти анекдот, а если искренне, как Павел Кузнецов, получится признание и прямой ответ. Савинов-младший, Глеб Александрович, в один из своих приездов на «историческую родину» отщипнул на память в Пристанном23 высеребряннуювысушенную знойным солнцем щепку от забора. Заметив при этом, что только в Саратове на Волге он встречал такой тон. И хранил её потом в мастерской как идеальную цветовую ноту («в Ленинграде такого просто не бывает»). Причём так же, как «гаснет» жемчуг в чуждой ему среде, так утеряла потом и щепка первозданность выжженного зноем тона. Снова обречённо позвав на Волгу. Саратовский зной – такой, что от ведра воды, выплеснутого на раскалённую землю, распространяется невероятный по своей нежности (не аромат даже и не просто запах) – сон, свободный запах пыли. Танцующий воздух, мираж. К полудню знойным летом всё в Саратове мираж. И ещё одна особенность. Она, конечно, не именно саратовская, а скорее повсеместная, но почему-то, кажется, приобретшая в сочетании именно со зноем и небом знаковые местные черты. Имеется в виду старое, нефабричного производства, а выдутое кустарным способом, так называемое «халявное» (от выдутого стекольного пузыря, именуемого «халявой») стекло. Такие стёкла с пляшущими изображениями, с пузырьками воздуха и другими дефектами, стояли в огромных окнах Радищевского музея (их уничтожили во время ремонта в 20042005 гг.), и сквозь них было можно, наряду с картинами старых мастеров, смотреть на пронзительное по ясности плавное небо из прохладной глубины. А поскольку окна на экспозиции второго этажа в Радищевском музее начинаются высоко от пола, то никаких пейзажей, кроме неба, в них и не увидишь. После даже нескольких секунд созерцания все картины вокруг – другие. И выгоревшие, и пропылённые гобелены – вдруг удивительно родные по тону! И маленькие «плывущие стёкла» у себя дома, сквозь которые мир кажется выпуклым, льющимся, неровным. Из обычного – странным. Вот где одна из разгадок певучести младосимволизма! Так что, безусловно, в «формуле цвета» саратовской живописной традиции наравне с рассветно-закатными яснеющими дымками, зовущими шёпотом к нежной гамме «девичьих тонов», присутствует ещё и пыль, и дрожание – почти мираж – знойного воздуха, и текуче-плавные старые стёкла. И, разумеется, гобелены. Орнаменты из пожухшего растительного мира старой Фландрии, старинной Франции – тёмно-зелёные рядом с серебристосерым – давали ощущение обморочной дымки. Особенно после долгого рассматривания пронзительно солнечных небес, плывущих в световом фонаре над чугунной парадной лестницей. Те самые гобелены, в которых одна из главных разгадок старинной тайны и грусти Борисова-Мусатова. Скорее всего, не случайно Кузнецов именно в 1903 году, в год отъезда Мусатова из Саратова, исполнил цикл из семи картин, названных им гобеленами (три из них – «Тоска», «Мотив гобелена», «Северный гобелен» – воспроизведены в журнале «Искусство» № 2 за 1905 год). Они, конечно, были сделаны по движению души – как прощальный привет. Потускневшее серебро и пожухшая медь красок настроения. 10 Глебучев овраг. Местоположение дома и семейный уклад «Глебучев овраг через весь Саратов тянется: от Волги до вокзала, и живёт в овраге сплошная нищета. Розовые, голубые, синие домики друг на друга, как грибы поганые, лепятся на крутосклонах, того и гляди, верхний домишко на своего нижнего соседа загремит. В летнюю пору банная вода посредине оврага течёт, растет колючий репей, свиньи в тине лежат, ребята на свиньях верхом катаются. <…> Народишко бедный, домишки рваные, заборишки худые, – жили, как птицы… <…> Портные горбились на катках. Сапожники постукивали молоточками. Столяры визжали пилами. Кузнецы парились в душных кузницах. <…> Фонарей в овраге не было, и темень по ночам стояла непроглядная. В центре театры, библиотеки, музеи, гостиные дворы, гимназии, прогимназии, суды, казармы, храмы, электричество, водопровод, канализации, бесчисленные витрины магазинов, бриллианты, шёлк, бархат, ковры, картины – всё, чем щедро украшаются здания центральных улиц, роскошные комнаты богатых домов и квартир. А в Глебучевом овраге? Тьма – единственное слово, точно определяющее всю сущность его полузвериного существования», – пишет в своей повести с говорящим названием «Злая жизнь» поэт Пётр Орешин24. Огромный этот овраг и до сих пор нечто промежуточное между природой со свободным стихийным произрастанием и упорядоченной чинностью городского строительства. Для маленького Павла это была настоящая граница двух миров – по одну сторону оврага дедовские сады, Соколовая гора, Займище с почти нетронутой природой и восходы солнца – всё это приятно вспоминать, слушая гудение печки и наблюдая в оттаявшую лунку за морозным окном плавный склон горы. С другой стороны очень близко – именно город, камень, сетки улиц, искусственные огни и закаты. Таково устройство пограничного мира: дом на пересечении границы-оврага и грани Привалова моста, связующей «Горы» и «город». В самом же овраге перемешано всё: постройки с нерегулярностью закоулков, стихийная застройка с неопрятной природой и клокочущая человеческая масса со странным укладом, понятным только здесь живущим – жителям этого Вавилона. Сразу за оврагом – Вознесенская, Весёлая, Большая Горная, Соколовая – Нагорная сторона («А Горная опоясывает Соколовую гору поперёк, как ремень на животе!» В. Милашевский Глазами пятилетнего)25 Рядом родное, нестрашное, сомасштабное детству: речка-ручей доставлял кораблики с головастиками, тёплой тиной и солнечными бликами на сводах дамбы, уженье рыбешки, а с другой стороны, новое, внезапное и неожиданное: глуби, походы в верховья или к Волге, приключения и самостоятельность. И редкий восторг стихии, когда люди на крышах и тазы – по морю. И всюду вековечный труд выживания: забойка, мост-дамба, полив огородов, полосканье и стирка. Вода: чистая и ледяная рядом с выходами бесчисленных ключей и родников, тёплая и мутная в стоячих заводях – родине лягушачьих концертов. Вся эта пограничность видна и в жизни дома. Свиньи, коровы, куры – почти деревенский уклад вокруг. Но при этом у Кузнецовых – цветы, букеты, сад, музыка в доме, ноты, пианино, скрипка, виолончель, вышиванье, творчество. Почти интеллигенция – только труд не вполне умственный. Иконописание – на грани с творчеством: но по канонам. 11 Физический труд. Особенно росписи, монументалистика. Полёты духа, сопряжённые с физподготовкой. Иконная лавка-мастерская. Не вполне магазин, но всё-таки торговля. Машинка «Зингер», ножная – дорогое удовольствие. Шили себе сами, при этом – машинка: экономия в меру. Сопряжённость укладов в семье: и крестьянский (многое своими руками, запахи и звуки – навоз, парное молоко, мычанье, блеянье, кукареканье), и пролетарско-мастеровой (работа на заказ, отношения с работодателем, физический труд, запойность главы семейства), и купеческий (торговля пусть не на базаре, а при доме, и ни чем попало, а иконами, цветами, фруктами – но всё-таки торговля), и чуть ли не дворянский (образованность, дед – скрипач, творчество, «Е.В.Б.» на письмах, личное почётное гражданство). Духовное разночинство. С одной стороны ОЛИИ, умозрение в красках, Шопен, кондитерская Фрея, с другой – сортир на улице, пьянь, ругань и базар. И среди высшего общества ты не вполне свой, хотя понимаешь, что талантливей и сильней, только родился не там и не в то время. И среди кабацкой рвани и галахов чужой – потому что чистенький и книжки любишь. Но всё же главенствовал именно мещанский уклад – когда хлеб уже покупался, а бесчисленные пироги всё ещё пеклись в русской печи, когда проходивший мимо окон уличный перепляс под тупую гармонику и матаню (саратовская гармоника является порождением тюркского представления о благозвучии и вся её бесшабашная нестройность забивается ни к селу–ни к городу звенящими колокольцами) мешался с домашним музицированием, а хождение на рынок сочеталось со своим огородиком. Домоводчество и домохозяйство – сами топили и чистили печи, сами таскали воду, сами прибирались в доме, обходясь без прислуги. При этом – уже с некоторой «претензией». Не только герань на окне, но целый зимний сад с «экзотами». Не только сундуки, но и комоды с платяными шкафами, зеркала, часы с боем, ночные вазы, мраморный умывальник и прочие блага цивилизации и приметы удобной жизни. Косметика с духами на трюмо. Пользовались аптеками, а не снадобьями, консультировались у доктора. Подросшие дети курили дорогие папиросы, а не махорку. Но ни относительное богатство, ни бедность не были определяющими в семье. Даже в этом – балансирование и пограничность. Дело в том, что семья переживала и времена благополучия, о чём свидетельствует строительство дома, объявления в газетах о скупке золота, мебель красного дерева эпохи Александра I, фарфор (Гарднер, ИФЗ), и времена, когда стельки вырезались из живописных этюдов, не на что было добраться до Москвы и приходилось «ради искусства бросить курить»26. Необычная ситуация – детство городских окраин почти в самом центре, на границе, когда возможность погрузиться и вынырнуть практически одинакова! «Дорогой Витя! Я получил твое письмо, в котором ты пишешь относительно ввода нашего дома, я ясно себе представляю, что это нужно сделать. Дом наш пережил много интересных и ценных для нашего творчества моментов и целую эпоху нарастающих страниц нашего теплого и бережного чувства... чувства душевного благородства и красоты, освещенной ярким саратовским солнцем, Волгой, песками и играми в садах»27. 12 Звуки. Семья музыкантов. Брат Виктор Звуки играли огромную роль в жизни всей семьи. В садах можно было слушать чистые звуки – шорохи листвы, пенье утренних птиц, деревянные скрипы водоносных колёс. Улавливать – музыку тишины. В городе звуков было гораздо больше: скрипы старого моста сменились цоканьем по мостовой, позвякиванье кузней мешалось со звонами «колоколки», где привередливые батюшки иной раз подолгу выбирали колокола для своей церкви: прямо против окон дома, через овраг на улице Кирпичной, целых три колокольных завода (Медведевых, Чирихиной и Кеменева). Звоны сразу нескольких церквей, посвисты голубятников и едва различимый крик муэдзина. Музыкальность кузнецовской живописи исключительно не случайна. Художник, как он пишет в автобиографии, происходил из семьи музыкантов: «До школы занимался музыкой, так как мои родители и родственники были музыкантами»28. Большое музыкальное дарование досталось самому младшему из братьев – Виктору. В детстве с ним занимался известный виолончелист Михаил Букиник. Карьере музыканта помешала контузия, полученная на Первой мировой войне, и как следствие – прогрессирующая глухота. Дед Фёдор Петрович Кузнецов был скрипачом. Трудно утверждать, каков был его путь в искусстве, и было ли это вообще искусство или только ремесло – можно лишь предполагать его происхождение из крепостных музыкантов. Чем он занимался в Саратове – играл ли в театральном оркестре, или зарабатывал на хлеб, наигрывая щемящие душу мелодии в одном из трактиров на Пешке. Или на эстраде модных тогда «воксалов»? Все искусствоведы отмечают высочайший музыкальный строй кузнецовских полотен, удивляются плавности и певучести его линий. И сам он любил употреблять в разговоре о живописи слово «касание». Д.В. Сарабьянов заметил очень важную, можно сказать, даже сущностную вещь: «Рука у Кузнецова в большей мере, чем у другого художника, может быть уподоблена руке пианиста, кончики пальцев которого обладают особой чувствительностью, каждое прикосновение к клавишам становится актом духовного волеизъявления музыканта и одновременно реализует в себе весь ремесленный опыт, накопленный годами. Так и Кузнецов, касаясь холста, протягивает к нему свою душу, и вместе с тем в этом прикосновении реализуется механизм художнического ремесла, устойчивый опыт, который заранее определяет высокий уровень одухотворённости и артистизма. Слияние ремесла и искусства в творчестве Кузнецова всегда вызывает восхищение. И здесь он живёт высокими традициями старого искусства, в частности, традициями древнерусской живописи»29. Уж где, как не в мастерской отца, дыша скипидаром ремесла, он мог улавливать каждодневно чистый воздух иконописной музыки. На пианино играла мать, Евдокия Илларионовна, сам Павел в юном возрасте учился играть на скрипке (молодой человек со скрипкой – рисунок брата Михаила, с натуры). Поражает счастливая детскость души художника – недаром самым близким в семье человеком был для Павла Кузнецова уже в зрелом возрасте его младший брат Виктор – именно с ним он играл когда-то, показывал ему свои игры в садах, 13 доверял свои тайны, а потом именно с ним поехал в степь – «взяв с собой брата». Недаром среди самых дорогих людей, оставшихся в Саратове, указаны в 1923 году – «моя мать, мой брат-музыкант и мой друг, славный художник Пётр Саввич Уткин». Виктор с его нежной спокойной душой, сочинявший стихи и рассказы, с самого детства был камертоном, издававшим чистые ноты жизни. Общайся маленький Павел со старшими по возрасту, будь он повзрослевшим до времени, огрубевшим в действительности суровой жизни – не знали бы мы такого по-детски чистого, незамутнённого сиюминутностью, одухотворённого искусства. И нерождённые младенцы (одна из главных тем Кузнецова периода мистического освоения живописного символизма) – наверное, попытка пережить умерших в младенчестве сестёр. И воспоминанье о любимице Анне, уже почти девушке, смерть которой он перенёс, будучи молодым человеком. Да, все его фонтаны – есть суть блаженное воспоминание детства. А все нерождённые младенцы, все чистые детские души – это тоже воспоминанье, только странное, светлое и печальное, – навеянное может быть рассказами и утешениями матери о жизни и странствиях души после бренной жизни. Безгрешные дети сразу становятся ангелами, ангелы – безгрешны. Чигирь и фонтан: первый символизм Никто из искусствоведов пока не обратился и не разработал тему сопряжения, не соединил главные образы символистского сознания Павла Кузнецова: фонтан и чигирь – искусственное и природное – и то и другое рукотворное, но с такими разными целями. Фонтан с его чудом бесконечного круговращенья струй – чистое созерцание, чистое искусство. Чигирь – пантеистическое, необъяснимое, глубинно-языческое. Аполлоническое и Дионисийское начала. 29 августа 1876 года в Саратове был открыт водопровод. В 1888-м – увеличены линии деревянного водопровода из родников. Предпоследнюю водоразборную будку на углу сквера Духосошественского собора сломали совсем недавно. Последняя осталась в Смурском переулке. Трудно сказать, какой пользовались Кузнецовы (возможно, дожидались водовоза с бочкой), но ещё в конце 1960-х такая будка стояла на перекрёстке Октябрьской (Полицейской) и Посадского (Кирпичной) – одна из ближайших к Кузнецовскому дому, хоть и на той стороне оврага. Кроме того, что воду приходилось покупать (полкопейки ведро), была каждодневная необходимость запасать – носить полные вёдра. Живущим в домах с удобствами трудно себе представить, сколько уходило сил и времени для того, чтобы натаскать воды на семью. И потому мы, может, в меньшей степени, чем человек XIX века, воспринимаем фонтан как чудо: бесконечность его, расточительность и непрактичность – одно из главных свойств искусства. Вековечно выживающий овраг против садов и горы – то же, что чигирь и фонтан. Горизонталь и вертикаль. Овраг, засасывающий и отнимающий волю, требовал невероятной силы характера, для того чтобы вырваться подобно фонтану. А не только мелькнуть на мгновение солнечным бликом, взлетев в дырявой бадейке на вершину 14 водоносного колеса, чтобы снова пролиться и впитаться корнями деревьев. В струях фонтана – пусть тоже только на мгновенье – но бесчисленное число раз. На виду у всех, на центральной площади, а не в заросшем саду, – в очищенном от зарослей всемирном пространстве искусства. Фонтан – необычный объект, неприменимый в быту! Если чигирь это горизонтальное с сиюминутным возвышением, то фонтан – вертикальное, противоборствующее обывательскому разуму: Искусство. Накопленные за лето впечатления укладывались в другом уже месте, где дионисийскому стихийному началу противостоял искусственный городской уклад – время собирания камней, созидательно-аполлоническое. Кузнецов нашёл выражение своим впечатлениям в наиболее близком – живописи, поскольку под рукою были именно краски. И готовый подсказать отец – иконописец. Привалов мост. Друзья На глазах у Павла Кузнецова, двенадцатилетнего, из скрипучего деревянного и уже шаткого моста возникал фортификационный объект, гидротехническое сооружение – дамба (хоть и осталось старое название – Привалов мост) с каузом – в нём даже можно было купаться. И созерцать, как играют тени и солнечные блики на каменном своде, под который запускались кораблики, щепки и совершались короткие таинственные (поскольку запрещённые взрослыми) путешествия. Привалов мост – магистраль, течение людского потока (шагни в сторону, и засосёт болото повседневности): незримое возвышение над вековечной беспросветной жизнью, движение людей, телег, возниц, пешеходов. Цоканье копыт по булыжнику. Привалов мост – относительная неизбежность встречи. Только пройдя много раз пешком и измерив каждодневными шагами, понимаешь: от Духосошественской церкви через Радищева (Никольскую) в город – крюк, через Узенький мост – ещё больший крюк, если нужен именно новый центр: Хлебная площадь, музей. Мосты ведь эти точно фиксируют вековой ход города и подсказывают: Казанский – начальная история, Узенький – XVIII век, Привалов – Горянская площадь – середина XIX, мост по Никольской – конец XIX. Если идти по Никольской – намесишься грязи (и до сих пор так). А от Духосошественской по Весёлой, или, в крайнем случае, по Вознесенской, и быстро и мощёно. И всё время – вниз! Как это ни покажется странным, кроме эстетических совпадений есть ещё и чистая физика – физика местности, во многом предопределяющая её метафизику. Вид с Соколовой горы – Волга, Увек – на который можно смотреть завороженно, потеряв само понятие времени – вечность. Может, от того и развилась в Уткине, жившем всегда «на Горах», большая, чем у «овражного» Кузнецова, созерцательность. Противоречия двух – Пётр и Павел – необходимых друг другу характеров подмечены их другом и однокашником Петровым-Водкиным, который с первого взгляда вычислил в них волжан: «В первый же день посещения Училища живописи, ваяния и зодчества среди вновь поступающих бросились мне в глаза двое молодых людей: один – высокий блондин, худой, с острым носом, умно 15 торчащим над усами. Бородка эспаньолкой в десяток, другой волосиков, на голове боковой пробор. <…> Одет он был довольно аккуратно. Второй был полная противоположность первому: по грудь ему ростом, обтянутый натуго пиджаком и штанами, волосы ни туда, ни сюда. Короткий, обрубком нос и полные губы, готовые фыркнуть при первом случае, который уловят его задорные глаза. <…> Дон Кихот и Санчо Панса были неразлучны. <…> На экзамене Панса удивил весь класс смелостью своего рисунка. Это не была неряшливость, это была какая-то детская самоуверенность в том, что, куда бы он ни бросил штрих, он будет на месте. <…> Панса был Павел Кузнецов. Дон Кихот был П. Уткин. Кузнецов победоносно промчится сквозь заросли училища, баловнем таланта, которому всё позволено. Минует он влияния руководителей, не успевавших опомниться от непосредственностей Павла и от его неистощимого запаса цвета, которым он заливал свои этюды и композиции. Уткин замечтается к концу школы. Его лиризм перестанет совершенно укладываться в голышей-натурщиков. Однажды он скажет нам: – Знаете что, друзья-товарищи, мне уже стыдно за наших ветеринаров, ежедневно вправляющих ключицы Егора в мой этюд… а сейчас как раз начинает в Разбойщине рыба клевать…»30 Пётр Уткин часто ходил мимо дома Павла Кузнецова. Так же как Кузнецову пешком в Маханный было проще попадать через Соколовский переулок, где жили Уткины, так, в обратном порядке, дорога в город с горы проходила мимо кузнецовского дома. Можно заключить, что встреча их была – рано или поздно – предрешена. Как и встреча с Александром Матвеевым, родительский дом которого располагался возле Глебучева оврага, неподалёку от угла Соборной и Кузнечной – то есть может быть буквально в двух-трёх кварталах от дома Кузнецовых! Михаил Владимирович Алпатов, у которого «от совершенства работ Матвеева захватывало дух», задавался вопросом: «Как случилось, что выходец из Саратова выше и глубже воспринял свою задачу, чем Майоль? Как на него повлияла русская культура, русский склад характера? Как смог такой мастер выразить свою идею современного строительства в группе трёх человек с большим грузом на плечах? Каким образом народные традиции проявились в резьбе по дереву в портрете «Каменщика»? Где подсмотрел Матвеев мучительную улыбку в лице Герцена, в которой выражена вся сущность мыслителя?»31. Разве не может всё это иметь начало именно здесь, в саратовском детстве? Нет никаких указаний в биографии ещё одного художника, Алексея Карёва, где состоялось его знакомство с Кузнецовым, Матвеевым и Уткиным. Но упоминание, что приехав в Саратов из глухой деревни с желанием учиться живописи, он устроился в Саратове в иконописную мастерскую, даёт повод предполагать, что первое знакомство их состоялось всё возле того же Привалова моста. (Другое дело, что ради заработка он был «принужден работать в паровозном депо», оставив занятие иконописью)32. Уже после (1898) были и походы к Мусатову в его «зелёную мастерскую» на Плац-Параде, и большое плавание в низовья Волги на лодке с братьями Кузнецовыми (лодку – лямкой). 16 Дом – центр мира Дом Кузнецовых стоит над оврагом на самом углу первоначальной крепости – там, где заканчивается именуемая по существовавшему здесь крепостному валу улица Валовая, и начинается, продолжая её, Кузнечная. Поражает удивительное сочетание: с одной стороны, странность мироустройства этого дома, с другой – стройность. Будто наклонная ось, вокруг которой вращается весь близлежащий мир. Действительное ощущение движения при полной неподвижности. Обе улицы в этом месте как бы сбиваются, одна прерывается и виляет Приваловым мостом, другая заканчивается и тут же, ступив ровно на дом ниже, начинается вновь. Дом на перекрёстке, но при этом смещён от угла. Начало и конец. Угол крепости, поворот, завершение улицы и тут же, буквально от дверей парадного входа, – начало другой улицы, причём созвучной фамилии владельцев – улица Кузнечная. Даже, войдя в калитку, тропка вверх такая, что кажется, отталкиваешься – и от твоих шагов навстречу солнцу изменяется скорость вращения земного шара. Дом открытый, распахнутый, хлебосольный, приметный. Мастерская наверху, на мансарде – территория свободы: жить, курить, мечтать, творить, созерцать. Петрову-Водкину – жить, остальным – оставаться. От наблюдений за ходом светил, временем, жизнью недолго до вечности и созерцанья. Относительность, надмирность и обсерваторность. Разумеется, именно здесь обсуждались-придумывались-переживались и картоны Казанской церкви, и «Вечер Нового искусства», и «Алая Роза»… Валовка, Пешка, берег Волги Достаточно, пожалуй, всего одной цитаты, чтобы составить представление, что это за «ядрёное пространство» – Валовка, Пешка, берег Волги: «Казанская (Валовая) улица, облагообразившаяся было в последнее время с удалением из нея домов терпимости, в настоящее время приняла <…> свой прежний вид: скандалы и всякие безобразия совершаются теперь в этой улице в гораздо больших размерах, нежели были прежде. Район, занимаемый прежде домами терпимости, изобилует портерными всевозможных наименований, встречающимися почти в каждом доме. <…> …причем в каждом таком заведении имеется по нескольку штук женской «прислуги»33. В самом начале этой улицы, над Волгой – одна из старейших в городе церквей – во имя Иконы Казанской Богоматери. Икона «Казанская» – покровительница всех волжских городов, была в каждом саратовском доме наряду с образом Спаса Нерукотворного, привезённого стрельцами на заклад крепости в конце XVI века. Маленькая эта церковь, в которой хранились реликвии, перенесённые ещё из левобережного Саратова, в жизни семьи Кузнецовых сыграла очень важную роль. Не исключено, что «старшие Кузнецовы» когда-то и вовсе жили неподалёку от Казанской церкви. По крайней мере, все члены семьи были её прихожанами. В ней крестили и отпевали членов семейства, и, таким образом, она считалась в семье «родною церковью». Маленький Павел был крещён именно в ней34. Выпиской же из метрической книги Казанской церкви удостоверялось 17 наследственное право Варфоломея Фёдоровича по смерти его отца «саратовского мещанина Фёдора Петрова Кузнецова, умершего 21 февраля 1892 года». За строительство своего большого дома Варфоломей Фёдорович, возможно, смог взяться, только продав дом, полученный в наследство по смерти отца Фёдора Петровича («наследственные права удостоверяются выпискою Казанской г. Саратова церкви от 12 марта сего года за № 15»). Согласитесь, драматичнее выглядит скандально-знаменитая история с уничтоженными по решению суда росписями, когда узнаёшь, что Казанская церковь для Кузнецовых своя, родная. Казанская церковь – предчувствие символизма – степь «Не могу понять, откуда у провинциального подрядчика-иконописца нашлась смелость поручить нам эту работу, подрывавшую нашей конкуренцией экономику местных иконников», – восклицает, предваряя свой рассказ о росписях саратовской церкви Божьей матери в автобиографической повести «Пространство Эвклида», Кузьма Петров-Водкин35. Никакой особенной загадки тут не было: подряд на роспись отдал своим сыновьям Михаилу и Павлу Варфоломей Фёдорович Кузнецов. Совершенно не ведая, чем закончится для него эта «история», – сам он подобных заказов больше не получит, да и проживёт недолго. Надежды на то, что ещё обнаружатся фотоснимки этих росписей, уничтоженных более века тому назад, ничтожно малы – реконструировать их возможно лишь в воображении по описаниям Петрова-Водкина. История с росписями неоднократно изложена разными исследователями, опиравшимися примерно на один круг источников, почему нет смысла повторять здесь уже сказанное. Единственно, кажется, никто до сих пор не обратил внимания на ряд удивительных совпадений, анализ которых даёт повод говорить о новом подходе – может быть, неосознанном и лишь интуитивно угаданном молодыми художниками – пространственном символизме. Пожалуй, впервые художники вышли не только за рамки отведённого – холст, лист и даже – стена. Их первый опыт стенописи уже раздвинул условные границы, проведённые архитектором здания. Космизм восприятия вёл их, победителей дурного вкуса и рутины, к архитектоническому сознанию. Случайно ли совпало, что, расписывая Казанскую церковь в Саратове, они именно так распределили сюжеты по стенам: «Центральными вещами мы наметили «Нагорную проповедь» на западной стене, «Хождение по водам» – на южной, «Христос и грешница» – на северной и парусных евангелистов»?36 Неразлучная пара – «они Пётр и Павел» – Уткин и Кузнецов – взяли две равноценные, рифмующиеся меж собой, противоположные стены. Кузнецов – северную. Это та самая стена на ту самую сторону света, куда сориентирован родительский дом и окно мастерской. Совпаденье ли, что, вернувшись из поездки на север, он выбрал для росписи именно эту северную стену? И, будто раздвинув её, он увидел серебристо мерцающую картину дальней страны, впечатлившей его воображение: «Павел к этой работе только что вернулся из мамонтовской поездки на дальний север и был 18 полон океаном, белыми ночами и самоедами … представьте себе поморскую белую ночь, изменившую молочным светом всю видимость…»37 Уткин взял противоположную – южную. Ту самую сторону света, которую он с самого детства наблюдал со своей горы, с большим пространством Волги, на повороте которой вдали – будто выхваченный солнцем Увек – «разбелы охр золотили прорыв горизонта воображаемой Палестины»38. (Может и не случайна эта его предрасположенность югу – ведь чуть ли не десятилетье его жизни будет в будущем связано с Крымом!) Многие художники отмечают, что иногда, особенно перед закатом, от Волги исходит некоторое «свечение», и тогда всё окрашивается необычным золотым светом. А такой тонкий чувствователь и воспоминатель, как поэт Михаил Кузмин, из саратовского детства запомнил именно «жару летом, морозы зимой, песчаную Лысую гору, пыль у старого собора и голубоватый уступ на повороте Волги – Увеки. Казалось, что там всегда было солнце»39. Петров-Водкин в европейской – Западной! – манере выполнил на западной стене «Нагорную проповедь», в композицию которой было включено около сорока персонажей. Он уже съездил в Мюнхен через пол-Европы и жил предчувствиями Рима. Пожалуй, именно у него было самое драматургически разработанное пространство: «Картину я построил пирамидально, подчиняясь полуокружности стены. Вершиной был Христос, от которого шли к нижнему основанию многочисленные, облепившие гору, слушатели. Народ, изображённый мной, был действительно сбродом людей, лишённых документальности исторической Иудеи. … Преобладал бунтарский или разбойничий элемент»40. Прихожане при выходе из церкви должны были наблюдать близкую к изображённому картину жизни – и этот сброд, весь этот колоритный волжский народ, обретавшийся на Валовке и Пешке вокруг старинного Троицкого собора, и сторожевую шишку Соколовой горы, виднеющуюся на северо-западе, по правую руку. По совпадению весь саратовский склон Соколовой горы со вскарабкавшимися на неё за Глебоврагом домиками называют в народе почти побиблейски – Горами или Нагорной стороной! Не в этих ли совпадениях уже таится предначертанный символизм – задолго до знаменитой московской «Голубой Розы» (1907), за два года до её предшественницы – саратовской «Алой Розы» (1904). То, что впоследствии проявилось в Кучук-Кое, всепронизанном символизмом: с лестницей Иакова, уводящей в небеса, и клумбой на нижней террасе, собранной из прохладных оттенков – голубой розой над морем. Они уже тогда, летом 1902-го, почувствовали себя творцами. Было во всём этом нечто демиургическое – создание своей объёмной картины мира для молитвенного созерцания и поклонения. Мистический Космос, противопоставленный случайностям хаоса. Небесная лаборатория, сотрудники которой явно в своих опытах заступили за черту дозволенного и привычного. Проникнутые природой, пронзённые великими целями подлинного искусства, они были всецело счастливы творчеством: «Жили мы за время росписи безалаберно и бродяжно. Вечера проводили в ресторане над Волгой, затягивая обед или ужин до поздней ночи. Потом брали лодку, взбирались до Соколовой горы и, опустив вёсла, пускали лодку по течению. 19 То кружимая, то выправляемая, колыхала она нас мимо нашей церквилаборатории и мимо спящего города. На песках делали причал. Разминали наши мускулы и отдыхали у костра. Восходившее солнце заставало нас купающимися с плотов, у нашего взвоза. Вода была тепла на утренней свежести воздуха. С Зелёного острова тянуло листвой, смолистостью, и сырыми мочалами канатов пах плот. С купанья шли прямо на работу, на зыблющиеся подмостки»41. Мусатов свидетельствует: «…работали целое лето ради искусства. Вообразили, что живут они в эпоху Возрождения, и написали в соответствии и эскизы. Вещи страшно талантливые и художественно оригинальные… Теперь попам и сапожникам-прихожанам эта живопись пришлась не по вкусу, и решили с помощью маляров её закрасить келейным образом, чтобы грозное око владыки не добралось до этих кощунственных изображений… Как же мне не беситься?»42 Один из самых ранних – необычных, трогательных фонтанов Павла Кузнецова – небольшой этюд с очертаниями Троицкого собора, самого старого в Саратове. Вот оно: совмещение реального с фантазией. Своевольно воплощённая мечта: вместо дурно пахнущей толпы, так любимой стариками-передвижниками и так надоевшей на этой площади, – фонтан. Тающие тени возле него, утро… Именно здесь видел в детстве художник огромных навьюченных тюками существ – они, величественно ступая, приходили зимой по льду из-за Волги и ждали своих хозяев у Гостиного двора неподалёку от Троицкого собора. Размеренно жевали свою жвачку, выпуская клубы пара. О них вспоминал перед сном, прикасаясь к колючему верблюжьему одеялу. И – всё в его творчестве лишь блаженное воспоминание… Волга в нижнем своём течении лежит между лесом и степью. Левый берег против Саратова – начало огромной страны, где испокон века и время, и расстояние мерялось днями пути. Там, за Волгой, «чистота и прозрачность воздуха с его миражами, величественные лебеди степей – верблюды, стада лошадей, разводимых на кумыс, бараны, пёстрые ковры кошар, простодушный и гостеприимный народ, живущий натуральным хозяйством…»43 И никакой суеты, судов, пересудов: «Кто достиг увидеть это фантастическое степное небо, тот опередил жизнь на десятки тысяч лет» (Павел Кузнецов). В степи Павла Кузнецова посетила такая великость и странность, что не может быть мало «свето-воздушной среды» – придавливало и переворачивало. И на всю жизнь «обдало молчанием» – высшая точка искусства – за ненадобностью больше говорить 1 Эфрос Абрам. Профили. М., 1930. С. 99-100. Гераклитов А.А. Воспоминания (подг. текста, публикация, комментарий и вступ. Статья Н.А.Попковой). Саратов, 2004, С. 46-47. 3 Киселёв Михаил. Павел Кузнецов: Альбом. М., 2002. С. 18. 4 Русакова А. Павел Кузнецов. Л., 1977. С. 11. 5 Там же. 6 П.В. Кузнецов. Автобиография // Cоветские художники. Т.1, С. 141. 7 Попов Константин. Записки о Саратове // Старый Саратов. Летопись. Воспоминания. Факты: В 2 кн. Саратов, 1995. Кн.1. С. 40. 2 20 Славин И.Я. Минувшее – пережитое. Воспоминания. Волга, 1998, № 2-3. С. 110-111 Кузнецов В. Дни далёкой юности // Охотничьи зори. Саратов, 1958. С. 80. 10 Даже если это истинно, то лишь отчасти: таким домом могла быть небольшая часть сегодняшнего дома – нынешняя кухня. (Либо – флигель, дата постройки которого – 1873 год). К первому заключению подвигают два обстоятельства: 1. На фото Глебучева оврага П.П. Пятницкого конца 1880-х при сильном увеличении видно небольшое строение в один этаж. 2. Объём кухни имел две крыши – при перестраивании дома старую крышу не стали разбирать, а сделали новое перекрытие!). Если это именно так, то столь небольшое помещение в два окна, треть которого занимала русская печь, слишком мало для семьи в четыре человека. Не исключено, что, пока молодая семья не встала на ноги и дом не был построен (либо – достроен), дети много времени проводили, или даже жили, у деда Иллариона и бабушки Марины – в семье садовода. 11 РГАЛИ. Ф. 2714, Оп.1, .х. 93, Л. 26 12 Русакова А. Павел Кузнецов Л., 1977. С. 47. 13 Конст. Федин Сад. // Рассказы многих лет. Саратов, 1957. С.с. 137-138. 14 Павел Кузнецов. «От Саратова до Бухары»: Автолитографии. 1923. 15 РГАЛИ. Ф. 799. Оп.1. Ед.хр. 146, Л. 1. 16 ГРМ, ОР, Ф. 27., Ед. хр. 57, Л.1. 17 РГАЛИ. Ф. 832. Оп.1. Ед.хр. 7, Л. 1. 18Симонова А.Т. Пейзажные образы Саратовского края. Саратов, 1981. С. 12,14. 19 Русакова А. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. Л., 1966. С. 111. 20 Проф. Ф.В. Баллод. Приволжские «Помпеи» (опыт художественно-археологического обследования части правобережной Саратовско-Царицынской приволжской полосы). МоскваПетроград, 1923. С. 119–120. 21 К.А.Федин. Собр. соч.: В 12 т. М., 1985. Т. 9. С. 500–501. 22 Со слов художника В.П. Кабанова. 23 Село на Волге выше Саратова, где находилась дача Саратовского отделения Союза художников. 24 Орешин П. Повести и рассказы. М., 1960. С. 28–30. 25 Владимир Милашевский. Глазами пятилетнего. Волга, 1993, №2, С. 61. 26 Павел Кузнецов – письмо В.К. Станюковичу. ГРМ, ОР,, Ф. 27, Е.х. 100, Л.5 27 Архив СГХМ имени А.Н.Радищева. ЛФ. 5, Оп.1 е.х. 11,Л. 1 28 РГАЛИ. Ф.941. Оп. 10, е.х. 333. Л.3 29 Сарабьянов Д.В. Вступительная статья к каталогу-альбому «Павел Кузнецов (серия «Мастера нашего века») Авторы-составители Л.а.Будкова, Д.В.Сарабьянов. Мю, 1975. с. 11. 30 Петров-Водкин К.С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1982. С. 344–345. 31 М.В. Алпатов. Александр Терентьевич Матвеев. Панорама искусств 11 32 Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. М.,1976, С.237. 33 «Саратовский Листок», 1885. № 23 от 6 октября. 34 В метрической книге за 1878 г., г. Саратова, Казанской церкви в 1-й части о родившихся, под № 56 записано: «Рожден 5-го, а крещен 12 ноября Павел. Родители его: Саратовский мещанин Варфаломей Федоров Кузнецов и законная его жена Евдокия Илларионовна, объ православные. Восприемники были Пензенской губернии, Наровчатского уезда, с. Большого Колояра Василий Дмитриев Подкопаев и саратовская мещанка Елена Феодоровна Арапова. Совершал таинство крещения настоятель, священник Иоан Алексеев со диаконом Леонтием Беляевым и т. д. Псаломщика Евг. Победоносцевым...» РГАЛИ, Ф. 2714. оп.1 , е.х. 84 35 Петров-Водкин К.С.. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1982. С.427. 36 Там же. С.428. 37 Там же. С. 429. 38 Там же. 39 Часы. Час первый. Пб., 1922. С.19. 40 Петров-Водкин К.С.. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1982. С.429. 41 Там же. С. 430 42 Письмо к Е.В. Александровой // ГРМ, секция рукописей. Ф. 27. Ед.хр. 8. Л. 56) 43 РГАЛИ. Ф. 2714. Оп.1. Ед.хр. 93. Л. 26-27. 8 9 21