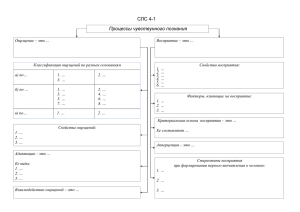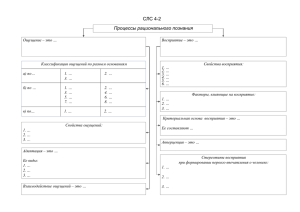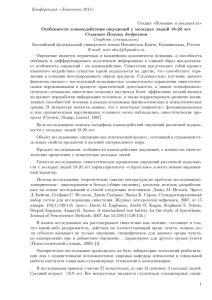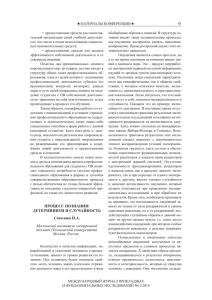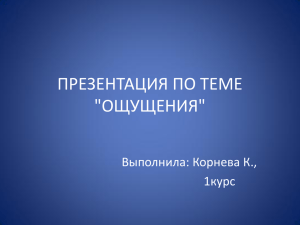Е.А.Селиванова Черкасский национальный университет, Украина МЕХАНИЗМЫ СИНЕСТЕЗИИ В ИДИОСТИЛЕ В. НАБОКОВА
реклама
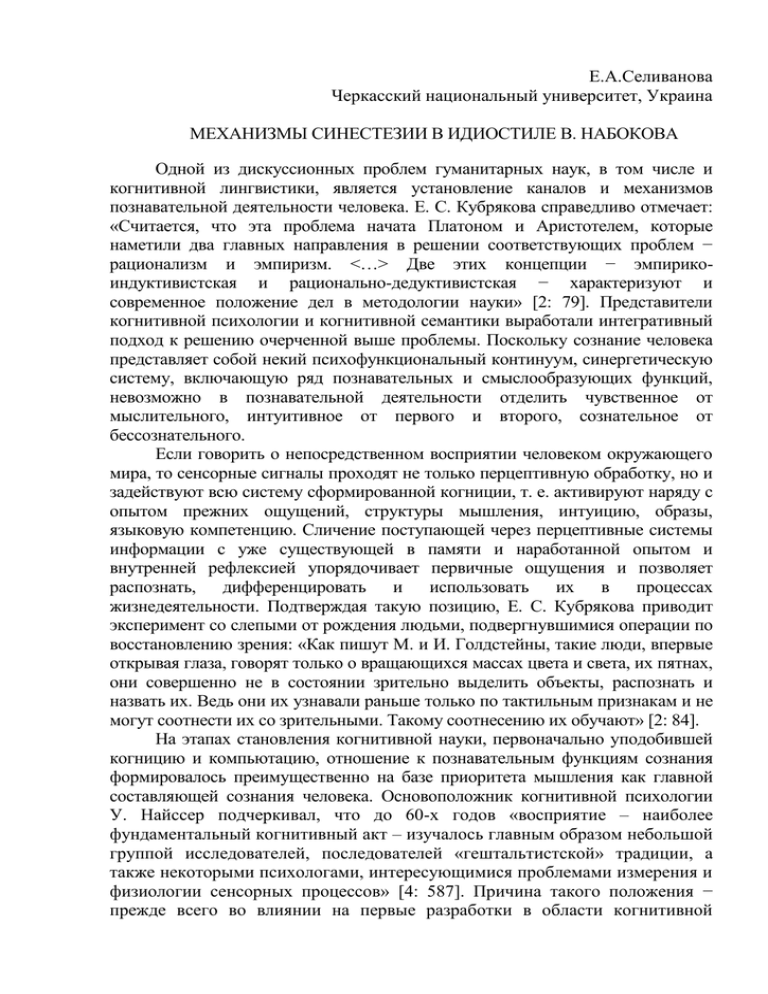
Е.А.Селиванова Черкасский национальный университет, Украина МЕХАНИЗМЫ СИНЕСТЕЗИИ В ИДИОСТИЛЕ В. НАБОКОВА Одной из дискуссионных проблем гуманитарных наук, в том числе и когнитивной лингвистики, является установление каналов и механизмов познавательной деятельности человека. Е. С. Кубрякова справедливо отмечает: «Считается, что эта проблема начата Платоном и Аристотелем, которые наметили два главных направления в решении соответствующих проблем − рационализм и эмпиризм. <…> Две этих концепции − эмпирикоиндуктивистская и рационально-дедуктивистская − характеризуют и современное положение дел в методологии науки» [2: 79]. Представители когнитивной психологии и когнитивной семантики выработали интегративный подход к решению очерченной выше проблемы. Поскольку сознание человека представляет собой некий психофункциональный континуум, синергетическую систему, включающую ряд познавательных и смыслообразующих функций, невозможно в познавательной деятельности отделить чувственное от мыслительного, интуитивное от первого и второго, сознательное от бессознательного. Если говорить о непосредственном восприятии человеком окружающего мира, то сенсорные сигналы проходят не только перцептивную обработку, но и задействуют всю систему сформированной когниции, т. е. активируют наряду с опытом прежних ощущений, структуры мышления, интуицию, образы, языковую компетенцию. Сличение поступающей через перцептивные системы информации с уже существующей в памяти и наработанной опытом и внутренней рефлексией упорядочивает первичные ощущения и позволяет распознать, дифференцировать и использовать их в процессах жизнедеятельности. Подтверждая такую позицию, Е. С. Кубрякова приводит эксперимент со слепыми от рождения людьми, подвергнувшимися операции по восстановлению зрения: «Как пишут М. и И. Голдстейны, такие люди, впервые открывая глаза, говорят только о вращающихся массах цвета и света, их пятнах, они совершенно не в состоянии зрительно выделить объекты, распознать и назвать их. Ведь они их узнавали раньше только по тактильным признакам и не могут соотнести их со зрительными. Такому соотнесению их обучают» [2: 84]. На этапах становления когнитивной науки, первоначально уподобившей когницию и компьютацию, отношение к познавательным функциям сознания формировалось преимущественно на базе приоритета мышления как главной составляющей сознания человека. Основоположник когнитивной психологии У. Найссер подчеркивал, что до 60-х годов «восприятие – наиболее фундаментальный когнитивный акт – изучалось главным образом небольшой группой исследователей, последователей «гештальтистской» традиции, а также некоторыми психологами, интересующимися проблемами измерения и физиологии сенсорных процессов» [4: 587]. Причина такого положения − прежде всего во влиянии на первые разработки в области когнитивной психологии компьютерной науки, которая способствовала, по мнению У. Найссера, превращению психологии, ориентированной на уподобление психических процессов компьютерному моделированию, «на узкую и неинтересную отрасль специальных исследований», и «изменить эту тенденцию можно, лишь придав когнитивным исследованием более «реалистический» характер» [4: 589-590]. С разработкой экспериенталистской по своей ориентации когнитивной семантики лингвисты вновь вернулись к изучению языковой репрезентации процессов прямого восприятия, принципы которого были намечены еще в психологическом направлении в языкознании ХІХ в. (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, Г. Пауль, А. А. Потебня и др.), и далее в лингвистической психологии, в частности, гештальтпсихологии (Л. C. Выготский, Дж. Миллер, А. А. Леонтьев, М. Вертгеймер, В. Келер, К. Бюлер и др.). Однако в новой когнитивной парадигме с учетом формирующегося лингвосинергетического подхода исследования сенсорики осуществляются в сопряженности с иными операциями сознания и бессознательными процессами [6; 7]. Особое место в современной когнитивной лингвистике отведено описанию процессов синестезии и их языковой репрезентации. Синестезию квалифицируют как психологическое явление возникновения одного ощущения под воздействием неспецифического для него раздражителя другого, т. е. сигналы, исходящие от разных органов чувств смешиваются, синтезируются. Хотя А. А. Потебня рассматривал ассоциативность синестетического переноса, как такую, при которой разнородные ощущения не уничтожают взаимно собственную самостоятельность, а сливаются в единое целое и в то же время остаются раздельными [5: 46]. В лингвистике синестезия обычно связывается с метафоризацией и рассматривается как один из источников последней. Еще Аристотель отмечал синестетическую природу метафоризации на примерах лингвистических терминов grave accent и acute accent как перенос из одной сферы ощущений, в частности, тактильных и соматических, в другую: устанавливался параллелизм между этими типами ударения, которые воспринимаются слухом, и качествами, которые воспринимаются органами такесики и соматикой человека. Цитируя Аристотеля, С. Ульманн считал синестезию самой «древней, достаточно распространенной, возможно, даже универсальной формой метафоры» [10: 279]. Проблема синестезии на базе зрительных образов изучалась представителями Вюрцбургской школы гештальтпсихологии. В частности, В. Вундт интерпретировал метафоры, обусловленные образным восприятием мимики лица и вкусовыми ощущениями, К. Бюлер характеризовал синестетическую метафору, используя техническую модель скиоптикона (двойной решетки) [1: 316-328]. Он отмечал, что «в восприятии <…> ощущается двойственность сфер и нечто вроде проникновения одной из них в другую, исчезающего лишь при большой употребительности подобных образований» [1: 316]. Исследователь опирался на известное утверждение Г. Пауля о том, что «метафора – это нечто такое, что с неизбежностью вытекает из природы человека и проявляется не только в языке поэзии, но также − и даже прежде всего – в обиходной речи народа, охотно прибегающей к образным выражениям и красочным эпитетам», метафора − «это спасительное средство при нехватке выразительных средств» [1: 317]. Ранее К. Бюлера в 1912 г. голландский исследователь Й. ван Гиннекен также трактовал синестезию как основу метафорического переноса. Он обратил внимание на то, что прилагательные, которые описывают слуховое восприятие, могут применяться также в случаях зрительного или тактильного восприятия. Американский логик Дж. Серль разработал универсальную схему сенсорных метафор на примере слов warm, hard и их коррелятов во многих языках мира [9: 324]. Советский психолог А. Р. Лурия объяснял синестезию нейрофизиологическими процессами стимуляции определенной модальности не только в специфических для нее проекционных зонах сознания, а в неспецифических (боковых ответвлениях аксонов – коллатералях). В современной теории концептуальной метафоры представитель когнитивной семантики А. Барселона на примерах синестетических метафорических переносов в словосочетаниях black mood, sweet music и др. охарактеризовал исходные процессы метонимии, которые послужили основой метафоры, поскольку совмещают первичные ощущения цвета, вкуса с их эмоциональной оценкой, уже на основании которой осуществляется дальнейшая метафоризация. Исследователь считает, что перенос звука на цвет вызван в первую очередь чувственным стимулированием звуковыми ощущениями человека зрительных и т. п., что может рассматриваться как ментальный доступ одних ощущений к другим в пределах одной концептуальной сферы, а значит, квалифицироваться как первичная метонимия. Данная метонимическая модель сферы мишени определяет выбор сферы источника при дальнейшей метафоризации [11: 36-44]. Значительно ранее А. Барселоны русский литературовед А. Н. Веселовский, разграничив эпитеты-метафоры и синкретичные эпитеты, возникшие на базе синестезии, отметил метонимическую природу вторых. Однако выбор названия для второго типа эпитетов указывает на двойственную природу синестетических переносов: в таких знаках совмещены смежность и сходство чаще всего по признаку оценки. Цель нашего исследования − обосновать механизмы синестетического переноса в текстах В. В. Набокова (на материале автобиографического романа «Другие берега» и романа «Подвиг»). Выбор языковой личности для данного исследования не случаен, так как в своем автобиографическом романе писатель указывает на наличие в нем способностей «синэстета»: «Кроме всего, я наделен в редкой мере так называемым audition colorée − цветным слухом. <…> цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор» [3: 28]. Синестетизм был присущ многим известным людям: французскому поэту А. Рембо, связывавшему гласные звуки с определенными цветами; русскому композитору А. Скрябину, видевшему цвет музыкальных нот, художнику-абстракционисту В. Кандинскому, слышавшему звучание красок. Мать В. В. Набокова также обладала способностью видеть цвет букв и музыкальных нот. Изучение текстов писателя привело нас к выводу о том, что В. В. Набоков осознанно и подсознательно синтезировал множество собственных ощущений, отображая результаты синестезии в своем творчестве. Будучи полилингвом, писатель разграничивал окраску звучания букв различных языков: «Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное по сравнению с рваным R, Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью Щ» [3: 28]. В. В. Набоков наделял буквы не только цветом, но и вкусом, употребляя феноменальные развернутые сравнения, опирающиеся на его гастрономический опыт. Не менее интересным является цветовой спектр ряда букв, переданный метафорически, исходя из особенностей индивидуальных стереотипов оценки цвета различных реалий: «Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжевым Ë, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга» [3: 28]. Свои ассоциации звуков и букв писатель своеобразно отражает в текстах: «молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В» [3: 77]. Как отмечалось выше, Ю связано с желтым, латуневым цветом, В − с розоватотелесным. Звучание слов также имеет свой цвет: «летние сумерки («сумерки» − какой это томный сиреневый звук)» [3: 50]. Синестетическое восприятие мира у В. В. Набокова многомерно: в его текстах можно встретить синкретичные эпитеты, основанные на переносах звуковых ощущений на ольфакторные и одновременно соматические и зрительные («из раскрывшихся дверей пахнуло огнем музыки» [3: 192]); звуковых ощущений на зрительные и вкусовые («Каким веселым звуком, под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем» [3: 24]), звуковых ощущений на соматические и вкусовые («Вагнера давали с прохладцей, со вкусом, музыкой накармливали до отвалу» [3: 259]). Несмотря на то, что для обычного человека наиболее информативными являются визуальный и аудиальный коммуникативные каналы, писатель создает метафорические обозначения слуховых ощущений через посредничество знаков вкусовых, причем словно смакуя слова и зная их вкус: «Слово „изгнанник” было сладчайшим звуком» [3: 183]; «Мун плавно заговорил, щеголяя чудесными сочными пословицами» [3: 185]; «во время полевых прогулок, завидя косарей, он сочным баритоном кричал им: «Бог помощь!» [3: 25]. Восприятие речи одного из героев романа автор характеризует развернутым сравнением, базирующемся на синестезии звука и вкуса: «слушать густую речь Муна было как жевать толстый, тягучий рахат-лукум, запудренный сахаром» [3: 200]. В. В. Набоков уснащает синкретичным эпитетом сладкий и соответствующим производным от него наречием словесные описания разнообразных звуков, ассоциирующихся с приятными воспоминаниями о детстве: «крепкий наст сладко засвистел под лыжами»; «тишина медленно и сладко наливалась утренним гулом затопленного камина» [3: 189]. Слова для писателя звучат различными красками, апеллируя к зрительным ощущениям и к знаниям читателя о реалии, названной словом. Тем самым синестезия интегрируется с фоновыми знаниями, создавая метафору на фоне метонимии: «Тенериффа − Боже мой! − какое дивное зеленое слово!» [3: 193] (Тенерифе − зеленый испанский остров из архипелага Канарских островов в Атлантическом океане). Зрительные ощущения передают оценку В. В. Набоковым пушкинской поэзии, с которой он связывает Россию, Родину: «Она (Россия − Е. С.) была расцвечена синевою вод и прозрачным пурпуром пушкинских стихов» [3: 183]. В данном высказывании автор опирается не только на синестезию звуков и цвета, но и на ассоциации, связанные с пурпуром − древним символом власти, царственности, так как еще в Древнем Риме одежду, окрашенную драгоценной на то время пурпурной краской, изготовляемой из желез морских моллюсков и улиток, носили высшие в государстве должностные лица. Тем самым В. В. Набоков подчеркивает значение пушкинской поэзии для России. Обозначения слуховых ощущений, нередко взаимообусловленные наименованиями эмоций, интегрируются за счет сравнений со знаками тактильно-температурных ощущений, усиливая таким образом впечатление от слышимого: «Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком ошпаривая человека, „красный”» [3: 25]. Звуки голоса описываются выпукло и зримо, присоединяя к тактильным ощущениям визуальные картинки, ассоциируемые со слышимым. Впечатление настолько ярко, что автор создает цельный словесный образ, основанный на интерсемиотических связях с прецедентными феноменами, развивая тему ран Христа и святых мучеников, отображенных в живописных полотнах: «его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы не заострить хоть слабым смыслом тупость этого бубнения. Ему есть и зрительный эквивалент <…> Ближе к ним <…> можно, пожалуй, поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня вырастали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города» [3: 27]. Автор прибегает к культурным стереотипам оценки цветовых ощущений, что обусловливает синестезию их с определенными звуками. Например, «золотой торопливый и четырехзвучный крик» иволги объясняется позитивной оценкой птицы в этносознании и русской культуре. Синестезия слышимого голоса и визуального образа персонажа на основе его рода занятий формирует парадоксальные юкстапозиты, каждый из компонентов которых семантически обусловлен темой фрагмента: «Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской» [3: 34]. Егор − огородник, отсюда окраска его голоса, базирующаяся на смежности с предметом его занятий. Эпитеты могут быть результатом метонимизации цвета предмета и его звучания: «Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа» [3: 65]; метонимического переноса признака ситуации на звуки, издаваемые в данной ситуации («когда внезапно потухает свет, и в налетевшей тьме кто-то резко вскрикивает <…> − слепая буря, темный панический шум растет, − и вдруг свет вспыхивает снова» [3: 265]); или переноса по смежности звука на зрительное впечатление от места его локализации: «Мартын сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни, прислушивался к веселым освещенным голосам» [3: 159]. В приведенных фрагментах интеграция визуального и слышимого не обусловлена синестезией, а обеспечивается редукцией ряда знаков ситуации; гипаллагой, при которой слово грамматически сочетается не с тем словом, с которым имеет смысловую связь; или импликатурой. В ряде случаев зрительные впечатления автора, соотносимые со звуками, также не имеют статуса синестезии, а служат результатом метонимического переноса гештальта предмета или явления на его звучание. Так, В. В. Набоков сочетает прилагательное круглый с существительным, обозначающим плеск волны («Нарастала, закипала пеной и кругло опрокидывалась волна <…> как уже новая, с тем же круглым, веселым плеском, опрокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела, положенного ей» [3: 158]). Однако во фрагментах, когда гештальт приписывается непосредственно звукам, можно констатировать наличие синестетической метафоры: «Она сидела в гостиной и вышивала, когда услышала из сада басок сына и тот его круглый, глуховатый смех, которым он смеялся, когда возвращался после долгой разлуки» [3: 237]. Слуховые ощущения связываются с тактильными ощущениями («твердый стук комьев земли» [3: 30]; «бархатный баритон» [3: 159]; «в ее разговоре Мартыну главным образом нравилась влажная манера произносить букву «р», словно была не одна буква, а целая галерея, да еще с отражением в воде»» [3: 165], «Путешествие», − вполголоса произнес Мартын и долго повторял это слово, пока из него не выжал всякий смысл, и тогда он отложил длинную, пушистую словесную шкурку» [3: 175]), в том числе температурными: «жарко, с раскатами, он говорил о казнях, о голоде» [3:197]; «говорила что-то придушенно-тепло и нежно» [3: 212]. Спектр синестетического восприятия зрительных ощущений иными органами чувств в текстах писателя также довольно разнопланов и широк. Визуально воспринимаемое интегрируется со слуховыми ощущениями, причем их знаки могут быть выделены курсивом как окказиональные («резко и неопрятно шел его странно-некрасивый, весь в углах, дикий, вопящий какойто, то есть совсем не похожий на него самого, почерк» [3: 43]; «некое ликование с заменой кликов гулкими красками. Гул блекнул, гас воздух, темнели поля» [3: 114]). Зрительные ощущения дополнены знаками тактильных ощущений («мягко желтели деревья» [3:261]; «мой фонарь театрально освещал липко-блестящие трещины в дубовой коре» [3: 77]), в том числе температурных: «чувствовал ненависть к Грузинову, к его холодным глазам»[3: 243]; «прекрасны были теплые, рыжие оттенки листвы» [3: 247]; «глаза скользили по нему быстрым холодком» [3: 205]. Автор сопрягает зрительный образ со вкусовыми ощущениями, опираясь на предыдущий опыт и объясняя механизм подобной синестезии: «Над кустиками голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод» [3: 79]; «Однако я помню не только убожество, аляповатость, желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картин на мокром полотне экрана» [3: 95]. Ольфакторные ощущения в идиостиле В. В. Набокова передаются сочетаниями со знаками вкусовых («В дождливую погоду, особливо в августе, множество этих чудных растеньиц вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом, <…> от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца» [3: 32]), зрительных («яркий запах тепличных цветов повсюду» [3: 45]), тактильных («запах земли и тающего снега, шероховатый свежий запах» [3:172]; «острый запах сыроватого дерна» [3: 208]), слуховых («глухо пахло ржавчиной яблок» [3: 63]), соматических («из подвальной квартирки, откуда тепло пахло курицей» [3: 102]). Глубинные мышечные и вестибулярные ощущения интегрированы преимущественно со слуховыми и зрительными: «а когда, разминая слегка звенящие ноги, с прозрачным гулом в голове он вышел из автомобиля, его поразил запах земли и тающего снега» [3: 172]; «так живо представлял я себе спелую наготу бешено пульсирующего сердца» [3: 104]. Синестетизм сознания В. В. Набокова позволяет ему создать уникальные по выразительности и экспрессивности образы, обогатить тексты индивидуальными метафорами и сравнениями, обострить чувства читателя, приблизив его к авторскому мировидению, тем самым гармонизируя и оптимизируя читательское восприятие произведения. Исследование механизмов синестезии, отображенных в текстах, углубляет представление о художественном творчестве, его связи с когнитивными способностями и языковой компетенцией выдающихся мастеров слова. Литература: 1. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка / Пер. с нем. Общ. ред. Т. В. Булыгиной [Текст] / К. Бюлер. – М.: Прогресс «Универс», 1993. – 528 с. − 5000 экз. − ISBN 5-01-001595-1. 2. Кубрякова Е. С. Язык и знание [Текст] / Е. С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с. − 1000 экз. − ISBN 978-8613-0014-1. 3. Набоков В. Другие берега. − М.: Книжная палата, 1989. − 288 с. − 300000 экз. − ISBN 5-7000-0136-5. 4. Найссер У. Что такое когнитивная психология? [Текст] / У. Найссер // Гальперин П. Я., Ждан А. Н. История психологии. ХХ век. – М.: Академический проект, 2003. – С. 587-599. 5. Потебня А. А. Эстетика и поэтика [Текст] / А. А. Потебня. − М.: Искусство, 1976. − 614 с. 6. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология [Текст] / Е. А. Селиванова. – К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 248 с. − 500 экз. − ISBN 966-745985-3. 7. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія [Текст] / О. О. Селіванова. − Полтава: Довкілля-К, 2010. − 844 с. − 1000 прим. − ISBN 966-8791-21-5. 8. Селіванова О. О. Сенсорні механізми українського фразотворення [Текст] / О. О. Селіванова // Мова і культура. – К.: Вид. Дім Дм. Бураго, 2005. – С. 45-56. 9. Теория метафоры: Сборник / Общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М А. Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – 512 с. 10. Ульманн С. Семантические универсалии [Текст] / С. Ульманн // Новое в лингвистике. Языковые универсалии. – М.: Прогресс, 1970. – Вып. 5. – С. 278-289. 11. Barselona A. On the plausibility of claiming a metonymic motivation for conceptual Metaphor [Text] / A. Barselona // Metaphor and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective. − Berlin, N.Y., 2000. − Р. 36-44.