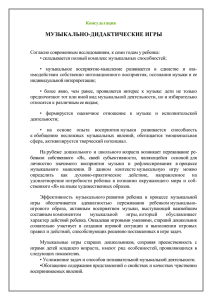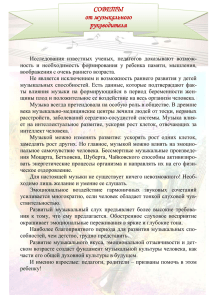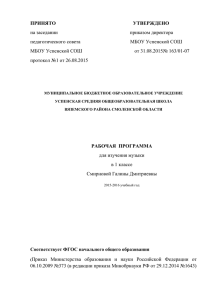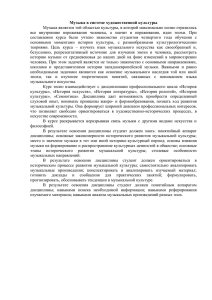Л - Ruthenia
реклама

Л. А. Мазель Введение Из книги “Вопросы анализа музыки” С давних пор философы и ученые подчеркивали таинственный характер искусства звуков. Его глубокое воздействие казалось многим мыслителям почти не поддающимся рациональному объяснению. Во всяком случае, воздействие искусств, пользующихся словом, изображением, жестом, и даже более отвлеченная выразительность архитектуры представлялись легче объяснимыми, чем выразительность инструментальной музыки — искусства текучего и неуловимого, бессловесного и невещественного. Взгляд этот нуждается, конечно, в известных коррективах. Достаточно напомнить, что изображение и слово хоть и помогают уяснить некоторый ближайший содержательный слой произведения, но зато ставят перед воспринимающим и перед исследователем особые проблемы. Так, многоуровневая композиционная структура произведения, вне которой его содержание не может быть выражено, а воздействие — реализовано, часто скрыта в живописи и литературе за кажущейся простотой и непосредственностью изображения или описания, тогда как в музыке композиция целого и частей, при всей ее возможной сложности, обычно более обнажена. Но каково бы ни было действительное соотношение между различными видами искусства в затронутом сейчас аспекте, остается фактом, что на пути раскрытия содержательной природы и впечатляющей силы именно музыки оказались очень трудными уже первые шаги, начальные этапы. И это не могло не наложить своего отпечатка как на сами представления о музыкальном искусстве, так и на судьбы науки о нем. В древности теория музыки занимала в системе знаний почетное место. Она описывала не только строение ладов и звукорядов, но и их характер, ставила вопросы о природе и сущности воздействия музыки, о ее общественно-воспитательной роли, пыталась связать законы музыкальной красоты с гармонией мироздания. Ответы она искала в числовых соотношениях, на которых основаны как музыкальные интервалы и ритмы, так и некоторые пропорции в архитектуре. Это наивное, почти нерасчлененное единство философско-эстетического и технического подходов к музыке в дальнейшем постепенно распалось. Процесс был длительным и противоречивым — порой оба подхода вновь сближались. Так случалось и в средние века, а особенно в век Просвещения. Однако в западноевропейском музыкознании XIX столетия два подхода нередко удалялись друг от друга, быть может, в наибольшей степени. Не случайно в словаре Римана, вышедшем в последней четверти XIX века, теория музыки разграничена на две “обособленные области человеческой духовной деятельности”, одна из которых — “исследование установленных практикой технических приемов музыкального сочинения”, а другая — “спекулятивная теория музыки, философия музыки, музыкальная эстетика” [Риман Г. Музыкальный словарь. Изд. П. Юргенсона, 1901, с. 1260]. Разделение это ослабляло обе сферы. Техническая теория музыки, оторванная от эстетики и музыкально-исторической науки, дробилась на ряд частных дисциплин и не могла ставить коренных проблем музыкального искусства. Эстетика же, не опиравшаяся в должной мере на тщательно изученный материал самой музыки, становилась слишком отвлеченной [Были, разумеется, и исключения. Одно из них — деятельность самого Римана, которому, наряду с многочисленными трудами по теории и истории музыки, принадлежит работа по музыкальной эстетике (Riemann H. Die Elemente der musikalischen Aesthetik. Berlin, Stuttgart, 1900). Но и до Римана выдающийся теоретик А. Б. Маркс стремился охватывать разные стороны музыки и связывать ее техническую сторону с эстетическими вопросами, хотя последнее он делал весьма наивно (см., например, его Allgemeine Musiklehre — в русском переводе “Всеобщий учебник музыки”. Изд. 3-е. М., 1893)]. Соответственно и разборы отдельных произведений, как правило, не могли быть целостными, то есть раскрывающими на научной основе содержательную сущность музыки. Авторы одних работ детально анализировали техническое строение произведения (гармоническое, полифоническое, тематическое, общекомпозиционное), однако без связи с его образно-эмоциональной природой либо только с попутными замечаниями о выразительности сочинения и его отдельных моментов. В других случаях, наоборот, давались характеристики образного строя музыки (иногда блестящие и тонкие, особенно когда это делали талантливые художники), но без их подкрепления ссылками на сами средства музыки или только с минимальными указаниями на особые необычные приемы. И лишь изредка в статьях выдающихся западноевропейских композиторов XIX века, например Шумана, Берлиоза (а также упомянутого теоретика А. Б. Маркса), характер музыки в некоторой степени связывался с ее средствами. С большей последовательностью такие связи изучались в работах классиков русского музыкознания, прежде всего Серова. В ряде статей он раскрывает идейное содержание произведений посредством разбора их музыкального тематизма и подчеркивает, что полученные им выводы обоснованы объективными данными [Серов А. Н. О тематизме увертюры “Леонора” (этюд о Бетховене); Девятая симфония Бетховена, ее склад, и смысл (см.: Избр. статьи, т. 1. Под ред. Г. Н. Хубова. М.—Л., 1950); Опыты технической критики над музыкою М. И. Глинки. О роли одного мотива в целой опере “Иван Сусанин” (там же, т. 2. М., 1957)]. Однако подобного рода работы Серова немногочисленны. Кроме того, в них не охватываются все (или все существенные) средства произведения, вся его ткань, вся форма и не характеризуются богатые оттенки его выразительности, неповторимо индивидуальное своеобразие воплощения его общей идеи. Наконец, весьма неполный аналитический аппарат, которым пользовался Серов, не всегда обеспечивал и подлинную обоснованность выводов, к которой Серов стремился. Тем не менее значение его работ очень велико. Они утверждают жизненную содержательность музыкального искусства, проникнуты убеждением в его познаваемости, в объяснимости тех впечатлений, какие производит музыкальная пьеса, в возможности научно раскрыть ее смысл. Рассматривая свои статьи как первые шаги в этом направлении, Серов писал в конце анализа увертюры “Леонора”, что из подобных разборов “впоследствии может развиться наука сравнительной музыкальной анатомии...” [Серов А. Н. Избр. статьи, т. 1, с. 424]. Эти слова примечательны. Они показывают, что слову “анатомия” Серов не придавал того пренебрежительного оттенка, который характерен для многих скептических высказываний о детальном анализе музыки. Вообще классики русского музыкознания XIX века отнюдь не усматривали в любом специальном музыкально-теоретическом исследовании элемента дурного академизма. Они считали специальные работы необходимыми, стремились создавать их, но, занятые более актуальными для того времени вопросами, не могли завершить многие начатые или задуманные ими теоретические труды [Так, не получила продолжения первая статья “Курса музыкальной техники” Серова. Высказанные им в печати намерения продолжить анализ сочинений Бетховена и технический разбор “Ивана Сусанина” Глинки тоже не были осуществлены. Аналогичным образом была написана и опубликована лишь первая часть теоретической работы Стасова “О некоторых формах нынешней музыки”. Надо иметь в виду, что до того, как Петербургская и Московская консерватории развернули свою деятельность, в России не было достаточного числа возможных читателей музыкально-теоретических исследований. В статье “Русская народная песня, как предмет науки” Серов писал: “У нас еще нет и, вероятно, долго не будет музыкально-ученой корпорации, на усмотрение которой я мог бы представить свой труд в его полной разработке в виде диссертации или брошюры. Напечатание его отдельной книжкой у нас было бы, опять, почти бесцельно. Публика наша подобных скучных книжек по музыке не читает...” (Серов А. Н. Цит. соч., с. 81)]. Дальнейшее формирование целостного анализа связано с тенденциями музыкознания XX столетия. Стремление понять как некоторое единство всю совокупность средств музыки, ясно выраженное уже у Римана, породило в первых десятилетиях нашего века ряд концепций (например, Б. Яворского, Э. Курта, Б. Асафьева), каждая из которых пыталась, исходя из своего понимания сущности музыки, объединить вокруг соответствующего сущностного ядра (ладового тяготения у Яворского, мелодического движения и скрытой за ним особой психической энергии у Курта, интонации у Асафьева) все ее элементы. Такие концепции носили уже не узкотехнологический, а в значительной мере теоретико-эстетический характер и решительно противопоставляли себя раздробленной школьной теории. Естественно, что это тоже влекло к охвату музыкального произведения как содержательного целого, правда, трактуемого часто с односторонних позиций. Большой интерес представляют, например, принадлежащие Курту детальные технические и эстетико-психологические анализы симфоний Брукнера, а кроме того, настолько глубокие и тонкие разборы отдельных эпизодов из сочинений Баха и Вагнера, что, выполненные всякий раз под каким-либо специальным углом зрения, они нередко приближаются к целостным. И это несмотря на идеалистические философские основы концепции Курта. Что же касается аналитических этюдов Б. Асафьева, даже ранних, то, благодаря историко-материалистической направленности и широте его интонационной концепции, они свободны от методологических недостатков анализов Курта и ряда других авторов. Пробивал себе дорогу целостный анализ и независимо от новых сущностных музыкально-теоретических концепций. Например, когда А. Лоренц анализирует стройную архитектонику вагнеровских музыкальных драм, он постоянно апеллирует к содержательному смыслу соответствующих эпизодов (для установления архитектонических связей и закономерностей); в то же время, раскрывая совершенство формы, он обогащает и представление о содержании этих драм [Lorenz А. Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner. B. 1 - 4. Berlin. 1924 - 1933]. В значительной степени приближаются к целостному разбору аналитические работы некоторых других немецких музыковедов [См., например: Jode F. Die Kunst Bachs dargestellt an seinen Inventionen. Wolfenbuttel, 1926]. Наконец, анализ, близкий целостному, занимает большое место в известных трудах Ромена Роллана о Бетховене. Но если, таким образом, целостный анализ вызревал и в западноевропейском музыкознании, то наиболее благоприятные условия для его формирования сложились в советской музыкальной культуре. Стремление к подлинно научному объяснению явлений искусства, историко-материалистический метод их исследования, наконец, понимание художественного произведения как содержательного целого — все это вместе с общей перестройкой консерваторского преподавания и оживленными дискуссиями 20 — начала 30-х годов о различных музыкально-теоретических системах (старых и новых) непосредственно влекло к созданию относительно самостоятельной научной и учебной дисциплины, посвященной целостному анализу. Очень важные стимулы дала для этого новаторская музыковедческая деятельность Б. В. Асафьева и Б. Л. Яворского, творчески развивавших традиции классиков русского музыкознания XIX века. Но свое организационное оформление новая дисциплина получила в соответствующем консерваторском курсе: на базе прежнего курса анализа музыкальных форм возник новый — анализ музыкальных произведений. Правда, его основным материалом продолжали оставаться музыкальные формы. Но, во-первых, они стали изучаться в связи с их историческим развитием и их применением в различных стилях и жанрах для воплощения того или иного содержания. Во-вторых, в курс были введены образцы целостного анализа и некоторые положения, касающиеся аналитического метода, а также необходимые сведения о различных элементах и средствах музыкального языка и их выразительных возможностях. Этот неоднородный, сложный и несколько громоздкий курс не нашел полного отражения в каком-либо стабильном учебнике и ведется разными преподавателями достаточно индивидуально. Тем не менее обстоятельства сложились так, что начиная с 30-х годов именно этот курс вместе со связанными с ним научными и методическими разработками долгое время служил главным плацдармом для выработки метода целостного анализа. Метод же этот нашел то или иное применение в музыковедческих работах самых различных жанров (в частности, исторических), куда стали включаться целостные анализы разных типов и где иногда непосредственно использовались результаты, полученные музыковедами-аналитиками. В свою очередь, исторические, монографические и другие исследования обогащали курс анализа и его метод. Наиболее насыщенным примерами целостного анализа был курс, читавшийся в Московской консерватории В. А. Цуккерманом. Ему же принадлежит термин “целостный анализ”, а также инициатива и преобладающая роль в разработке и распространении того типа и метода анализа, при котором с большой полнотой охватываются все стороны музыкальной формы произведения и на этой основе характеризуется образно-эмоциональная природа целого и частей [Ценный вклад в разработку этого метода на разных этапах его развития внесли также теоретические труды С. С. Скребкова, В. В. Протопопова, И. Я. Рыжкина, В. П. Бобровского, Л. В. Кулаковского.]. Метод этот нашел свое применение в книгах и статьях различных авторов, посвященных разбору отдельных произведений. Существенно и то, что в ряде теоретических работ советских музыковедов, в которых не содержатся целостные анализы, а исследуются элементы музыкального языка либо же язык какого-либо композитора, соответствующие средства постоянно связываются с их содержательными возможностями. Эти работы носят, таким образом, ясно выраженный семантический характер [Не называя здесь многочисленных работ советских теоретиков, отметим, что среди исследований иностранных авторов выделяется весьма содержательное общее музыкально-семантическое исследование английского музыковеда Д. Кука “Язык музыки” (Cooke D. Тhe Language of Music. London, 1962). Об этой книге еще будет речь.]. И все же, несмотря на несомненные успехи разных областей советского теоретического музыкознания, раздробленность теории музыки и разрыв между ней и эстетикой до сих пор не преодолены, особенно если иметь в виду не отдельные выдающиеся труды, а музыкознание и музыкально-теоретическую педагогику в целом: как и прежде, детальная разработанность, разветвленность, большая дифференцирующая способность теории музыки далеко не уравновешиваются соответствующей интегрирующей, синтезирующей способностью. Вследствие этого достижения теории музыки, ее основные положения, с одной стороны, не доведены до той степени ясности и обобщенности, которая позволила бы им включиться в основной фонд современных знаний, c другой — не используются (даже в той мере, в какой это возможно уже сейчас) ни в пределах самой музыкальной культуры, ни в смежных науках. Более того, довольно широким кругам музыкантов и научных работников неясны значение и возможности теории музыки вообще и анализа музыкальных произведений в особенности. И потому столь же скептический, сколь и наивный вопрос: “Разве способен анализ произведения заменить его непосредственное восприятие?” (словно научное исследование когда-либо претендовало на подобную замену) — все еще нередко звучит в устах достаточно образованных людей [Не заменяя восприятия музыки, анализ способен, однако, углубить и обогатить его. Заметим в этой связи, что столь крупный и ярко эмоциональный художник, как Г. Г. Нейгауз, отнюдь не считал анализ чем-то антагонистическим по отношению к живому восприятию и исполнению музыки. В книге “Об искусстве фортепианной игры” (М., 1958, с. 199) он, в частности, писал: “...мы ищем дедуктивно реального, обоснованного в самой материи музыки подтверждения и посильного объяснения нашего столь несомненного и сильного эстетического переживания. Это не может не подействовать на исполнение; когда углубляешься в свое ощущение прекрасного и пытаешься понять, откуда оно возникло, что было его причиной, тогда только постигаешь бесконечные закономерности искусства и испытываешь новую радость от того, что разум по-своему освещает то, что непосредственно переживаешь в чувстве”. Хорошо сформулировано возможное значение целостного анализа для восприятия музыки в статье Д. Житомирского “Книга о Чайковском”: “…если происходит осознавание синтезов, а не абстрагируемых элементов и не отвлеченных проблем, то такой вид анализа все же оставляет нас в сфере воздействия музыки, всех ее эмоциональных и образных “излучений”, а кое в чем даже обостряет это воздействие, как бы заготовляя новые возможности для непосредственного восприятия” (“Советская музыка”, 1973, .№ 6, с. 116).]2. Между тем, как отмечал еще Б. В. Асафьев, музыка не может развиваться вне атмосферы мысли о ней, являющейся неотъемлемой составной частью музыкальной культуры. В настоящее же время, когда наука проникает в самые сокровенные тайны природы и человеческой психики, познание закономерностей музыки как одного из удивительнейших созданий этой психики приобретает с точки зрения многих научных дисциплин новое значение, выходящее за рамки музыкальной культуры. Действительно, повышенный интерес к закономерностям музыки со стороны ученых разных специальностей (представителей лингвистики, семиотики, кибернетики, психологии, физиологии) является неоспоримым фактом. В то же время сторонники всевозможных идеалистических концепций продолжают апеллировать к непрограммному инструментальному творчеству для обоснования своих воззрений, а это еще больше увеличивает то принципиальное значение, какое могла бы иметь разработка подлинно научной теории музыки. Не преодоленная до сих пор раздробленность теоретического музыкознания и его отрыв от эстетики так или иначе сказываются и на методе целостного анализа. В том виде, в каком такой анализ вошел в широкую музыковедческую практику — исследовательскую, педагогическую, критическую, популяризаторскую, он несколько эмпиричен и пассивен. Ему обычно недостает ряда необходимых акцентов и ясной целенаправленности. Он все еще тяготеет к излишней описательности, сколько бы заклинаний ни произносилось против нее (мастерство изложения аналитической работы именно потому и приходится так часто оценивать по степени преодоления этой описательности, что она в значительной мере присуща самому методу). Конечно, хорошо выполненный целостный анализ верно характеризует образно-эмоциональный строй произведения и средства его воплощения, указывает на преемственные связи произведения, на его новые черты, а также — через соответствующий стиль — на его общественно-историческую обусловленность. И это, в сущности, не так уж мало. Но подобный анализ в большинстве случаев не выделяет то основное, что обеспечивает художественное воздействие и жизнеспособность произведения, равно как и то главное, чем оно обогащает музыкальную культуру, содержательные возможности музыки, ее жанры, формы, язык (а без какой-либо творческой находки произведение искусства — в том его понимании, которое свойственно европейской художественной культуре последних столетий, — не имеет права на существование). Должные акценты на всем этом, отнюдь не исключающие разнообразия возможных специальных аспектов анализа и типов его изложения, могли бы сделать анализ более сфокусированным, его историзм более активным, оценку произведения более аргументированной. Отсюда вытекает необходимость уточнения и заострения теории и метода анализа. Так, желательно более четко дифференцировать при анализе специфические музыкальные средства выражения (семантику музыки) и общие принципы художественного воздействия, свойственные разным видам искусства. В конкретном произведении одно с другим, конечно, связано, но глубокое понимание связи двух сторон предполагает ясное представление и о каждой из них в отдельности. Точно так же надо более систематично и последовательно проводить различие между содержательной и коммуникативной (в частности, формообразовательной) функцией самих музыкальных средств. И наконец, для теории музыкального языка и анализа отдельных произведений очень важно верное представление о соответствующей исторически сложившейся системе средств (такое представление способствовало бы и преодолению разобщенности дисциплин, изучающих отдельные элементы музыки). Ибо выразительные возможности каждого средства хоть и опираются на те или иные естественные предпосылки (акустические, биологические, психологические), но существенным образом зависят от его роли и места в системе некоторого музыкального языка. И в разных системах функции и значения тех же или сходных средств могут быть различными. Сказанное стало очевидным как в связи с данными, полученными за последние десятилетия в самом музыкознании (в частности, в музыкальной фольклористике), так и в свете широко распространенных в настоящее время системных исследований весьма различных объектов высокой сложности. При этом в гуманитарных областях системный подход нередко дополняется семиотическим, который уже привел к плодотворным результатам также и в науках об искусстве, в частности в теории музыки. Автор этой книги учитывает их, пользуется идеями, установками и понятиями системного и семиотического подходов, но не применяет какой-либо специальной методики и техники системного анализа и старается по возможности избегать выражений, незнакомых музыкантам. По мере того как у автора вызревали его идеи, он с удовлетворением убеждался в том, что родственные взгляды формировались и в теории смежных видов искусств (равно как и в работах других музыковедов), и в некоторой степени испытал на себе влияние этих взглядов [Здесь имеются в виду в первую очередь следующие работы: Эйзенштейн С. М. Избр. соч. в 5-ти томах, т. 2—5. М., 1964—1970; Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1966; Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970; он же. Анализ поэтического текста. Л., 1972; Жолковский А. К. и Щеглов Ю. К. К описанию смысла связного текста (на примере художественных текстов). Институт русского языка АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации, вып. 22, 33, 39, 49. М., 1971, 1972, 1973, 1974; они же. Математика и искусство (поэтика выразительности). М., 1976; они же. К понятиям “тема” и “поэтический мир”. — Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам, 7. Тарту, 1975. В музыкознании психологический подход нашел в недавнее время свое развитие в работах Е. В. Назайкинского (прежде всего в кн.: О психологии музыкального восприятия. М., 1972). Сочетанием психологического и системно-семиотического подхода характеризуются исследования В. В. Медушевского (например, кн.: О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976). Во многом смыкается музыкально-психологический подход и с музыкально-социологическим, развитым в работах А. Н. Сохора и некоторых других музыковедов. Автор настоящей книги применяет вслед за Ю. Лотманом заимствованное из лингвистики понятие оппозиций, то есть противопоставлений на разных уровнях той или иной художественной системы существенно значащих единиц. А вслед за А. Жолковским и Ю. Щегловым — понятие темы первого рода и темы второго рода, а также определенный (“порождающий”) способ описания структуры произведений, как бы выводящий некоторые ее уровни из художественного задания (темы, идеи) произведения и характерных для творчества данного художника концепций, мотивов, конкретных средств и общих приемов выразительности. Соответствующие ссылки на работы упомянутых в этой сноске авторов приводятся в тексте книги.]. Особо надо остановиться на том, что в ряде работ по социологии искусства затрагивается существенный для анализа вопрос о том, насколько восприятие произведения той или иной аудиторией адекватно замыслу художника и объективному содержанию произведения. По отношению к музыке сюда присоединяется специальная проблема исполнительской трактовки сочинения. При этом некоторыми авторами настолько акцентируется различие толкований одного и того же сочинения в разные исторические периоды и разными исполнителями, что ставится под вопрос возможность объективного анализа произведения на основе его нотного текста [См. статью: Коган Г. Парадоксы об исполнительстве. — В кн.: О музыке. Проблемы анализа. М., 1974]. Разумеется, музыка (по крайней мере, рассматриваемая в данной работе) есть, согласно известному положению Асафьева, искусство интонирования и потому необходимо предполагает ту или иную исполнительскую интонацию (это неоднократно подчеркивается в дальнейшем изложении). Однако правомерные варианты исполнительского-интонирования заключены в известные рамки. То же самое относится к исполнительским и музыковедческим трактовкам в более широком плане. Ибо зафиксированное в нотной записи и опубликованное произведение существует объективно, и его различные истолкования (если, конечно, иметь в виду истолкования правомерные) возможны только на основе его объективных свойств и лишь в тех пределах, которые ими обусловлены. Исполнительство — важный и самостоятельный род творческой деятельности. В известном смысле оно является необходимым продолжением работы композитора, но продолжением в иной плоскости. Факт такого продолжения отнюдь не означает, будто композитор создает некий эскиз или полуфабрикат, завершить который призван исполнитель. Нет, симфония Бетховена, Чайковского или Шостаковича, как и драма Шекспира или поэма Пушкина,—это тщательно продуманное, отделанное и законченное во всех деталях произведение. Это — художественная данность, обладающая вполне определенной содержательной структурой. Что же касается указаний социологов на возможность неадекватного восприятия произведения тем или иным общественным слоем слушателей, то эти указания совершенно справедливы. Действительно, не исключены случаи, когда в определенный исторический период и в определенной стране какая-либо социальная группа воспринимает в данном произведении как главное и наиболее ценное совсем не то, что представлялось таковым автору произведения, его современникам и соотечественникам [Так, Н. И. Конрад указывает, что романы А. Дюма-отца воспринимались в Японии — в эпоху буржуазной революции в этой стране — как бунтарские, тираноборческие (Конрад Н. И. Первый этап японской буржуазной литературы. — В кн.: Проблемы литературы Востока, 1. Л., 1932)]. Более того, даже в пределах современной художнику аудитории может не оказаться сколько-нибудь значительного слоя, который воспринимал бы произведение в достаточном соответствии с его реальной структурой и с авторским его пониманием (это относится, например, к некоторым элитарным явлениям искусства нашего времени). Очевидно, что соотношение между реальной структурой. произведения и его восприятием различными социальными группами — одна из важнейших проблем социологии искусства. В настоящей работе рассматривается, однако, творчество, связанное с определенной системой музыкального языка и мышления — тональной системой — и с определенным типом музыкальной культуры и музыкальной коммуникации (оперный театр, концертный зал, домашнее музицирование, к которым в нашем столетии присоединились грампластинки и радиопередачи). По отношению к произведениям этой культуры можно, на наш взгляд, исходить из предпосылки, что они, как правило, находили (иногда через некоторый промежуток времени, необходимый для усвоения нового) достаточно широкий слой слушателей, восприятие которых, варьируясь по глубине и по характеру, в общем все же было адекватно структуре произведений и прочно опиралось на сложившиеся в данной системе нормы музыкального языка и на более или менее общезначимую для европейских слушателей семантику его средств. Именно поэтому для произведений музыкальной культуры, о которой здесь идет речь, границы правомерных исполнительских и музыковедческих трактовок очерчены сравнительно ясно, и произведения эти вполне допускают анализ на основе нотного текста (разумеется, с привлечением необходимых общеисторических, музыкально-исторических и музыкально-социологических сведений). В сущности, одним из важнейших свойств рассматриваемого типа профессионального музыкального искусства как раз и является то, что он предполагает наличие именно фиксированных в нотной записи отдельных произведений, каждое из которых представляет собой органичное и законченное художественное целое, несущее печать авторской индивидуальности, оригинальности, печать неповторимого своеобразия даже по сравнению с другими сочинениями того же автора. Для своего восприятия такое произведение требует исполнения в строго определенном записью порядке и непрерывного — от начала исполнения до конца — внимания слушателей. При этом исполнение и восприятие произведения обособляются в специальный акт, не связанный с бытом, трудовыми процессами, обрядами, играми и т. д., подобно тому как висящая на стене картина отграничивается рамой, выделяющей картину среди находящихся в помещении других предметов. Такими чертами, как известно, не обладает народная музыкальная культура, более диффузная, не знающая индивидуального авторства сочинений, письменной их фиксации, строгой дифференциации композитора и исполнителя (а нередко также исполнителей и слушателей) и не предполагающая выделения самих произведений в качестве самостоятельных и законченных целостностей, свободных от связи с каким-либо социально-функциональным назначением — трудовым, бытовым, обрядовым, игровым (такое выделение встречается лишь в некоторых жанрах). И хотя профессиональное творчество постоянно питается народным (примеры нам встретятся неоднократно), все же народная песня и основанная на ней симфония, увертюра или поэма принадлежат к разным типам искусства и даже отчасти относятся между собой подобно предмету отражения (песня в ее конкретном социальном бытовании как проявление народной жизни) и отражению предмета (симфония, отражающая путем использования песни жизнь и быт народа, его думы и чаяния, строй его музыкального мышления; само собой разумеется, что проблема народности профессионального искусства не сводится к вопросу об использовании народных песен). Аналогичным образом традиционное профессиональное искусство некоторых стран Востока, дифференцирующее исполнителей и слушателей, не отделяет композитора от исполнителя-импровизатора, не знает оригинальных произведений в европейском смысле слова и, в частности, не требует непрерывного восприятия их исполнения (например, импровизационное исполнение в Индии или в Египте вариационных трансформаций раги или макама может продолжаться шесть — десять часов, причем слушатели во время этого исполнения выходят и возвращаются) [См.: Лисса С. Проблема времени в музыкальном произведении. — В кн.: Интонация и музыкальный образ. Под ред. Б. М. Ярустовского. М., 1965, с. 329]. Современная поп-музыка, равно как и многие разновидности авангардного .искусства, тоже не характеризуется совокупностью перечисленных выше признаков профессиональной музыки европейской традиции [См. об этом: Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1975, с. 427—469]. Показательно, что в странах немецкого языка эта традиционная музыка часто называется теперь Opusmusik, то есть музыкой, предполагающей, в отличие от некоторых иных форм музицирования, отдельные законченные и фиксированные в нотной записи произведения (опусы), имеющие самостоятельное художественное значение. Напомним, наконец, еще раз, что музыка, о которой идет речь в этой книге, интонационна по своей природе, носит прежде всего эмоционально-выразительный характер, пользуется в основном тонами, а не шумами, базируется на 12-ступенном темперированном строе и на особой организации тонов, называемой тональностью. Некоторые направления авангардистского “искусства звуковых структур”, как упомянуто, не обладают этими свойствами. Но есть и переходные явления. Так, творчество Шенберга, Берга, Веберна принадлежит к Opusmusik, эмоционально-выразительно и интонационно, пользуется тонами и 12-ступенной темперацией, но заменяет тональную организацию серийно-додекафонной, сохраняя при этом с тональной музыкой и ее системой некоторые преемственные связи. Многие же другие композиторы нашего века так или иначе сочетают элементы тональной, серийной и иных техник. Относящиеся сюда вопросы были затронуты в последней главе книги автора этих строк “Проблемы классической гармонии”. Они остаются, однако, за пределами настоящего исследования. Правда, общие принципы художественного воздействия, рассматриваемые во второй части данной книги, применимы к музыке не только тональной. Но целостный анализ произведений, пользующихся другой системой музыкальных средств, требовал бы специального изучения выразительных возможностей и значащих оппозиций элементов этой системы, которая, в сущности, принадлежит иному типу искусства, семантики, эстетики (мы вернемся к этому вопросу в конце раздела “О системе музыкальных средств”). К тому же иногда целесообразно применить сравнительно новый метод именно к старому, уже хорошо изученному материалу: тогда яснее выступает то новое, что дает метод, ибо оно не затемняется новизной самого материала [Замечательному советскому математику принадлежат следующие слова: “Лучше изучать новые факты обычными методами, а новые методы — на известных фактах” (Урысон П. С. Труды по топологии и другим областям математики, т. 1. М.—Л., 1951, с. 243)]. В этом одна из причин того, что материал книги ограничен, помимо всего прочего, рамками тональной музыки от Баха до Шостаковича. И если несомненно, что связанная с тональностью европейская музыкальная система последних столетий — лишь одна из многих существующих и существовавших на земном шаре, то столь же бесспорно, что никакая музыкальная система, кроме этой, пока не получила мирового распространения и значения в качестве основы высокого искусства. Несколько дополнительных соображений необходимо высказать по поводу содержания и плана книги. Часть книги, озаглавленная “К теории музыкального языка”, включает три раздела. В первом из них широко и отчасти по-новому развиваются уже давно выдвинутые автором взгляды, получившие в нашем музыковедческом обиходе название теории выразительных возможностей. Взгляды эти автор считает теперь нужным разъяснить и аргументировать более развернуто, в частности, потому, что за последнее время приобрела известное распространение точка зрения (ее можно было бы назвать “сверхцелостной”), согласно которой все зависит от конкретного контекста, вне которого отдельные музыкальные средства не обладают не только какими-либо смысловыми значениями, но даже и сколько-нибудь определенными возможностями. В противовес этому автор подчеркивает достаточно ясно выраженную семантичность многих средств той системы музыкального языка, которая здесь рассматривается (сложность и детализированность содержания данного раздела обусловливают значительную трудность его восприятия читателем). Поскольку, однако, музыкальные средства несут не только содержательные, но и коммуникативные функции, этим последним (и их соотношениям с содержательными функциями) посвящен небольшой второй раздел первой части книги. Одна из его задач — предостеречь. против ошибочного приписывания при анализе произведения чрезмерной содержательной нагрузки тем средствам, которые имеют в данном контексте преимущественно коммуникативное значение. Характеристика некоторых черт описываемой системы музыкальных средств, содержащаяся в третьем разделе первой части, отнюдь не претендует на полноту. Во-первых, характеристика эта дается в рамках части книги, посвященной музыкальному языку и не рассматривающей вопросов музыкальной формы (они достаточно изучены в соответствующих специальных трудах). Во-вторых, в этом разделе не акцентируется, а лишь упоминается важнейшая для всей системы гармоническая организация музыки, поскольку ей была посвящена сравнительно недавно вышедшая большая книга автора. Во введении к той книге рассмотрены и некоторые специфические свойства музыкального искусства, к которым автор тоже счел возможным не возвращаться в новой работе. Подчеркнем, что вся первая часть этой работы представляет собой не исследование лексики и грамматики языка европейской музыки XVII—XIX веков, а главным образом освещение относящихся к этой области принципиальных теоретических вопросов, иллюстрируемое конкретным материалом и существенное с точки зрения методологии анализа. Не является эта часть книги и законченной теорией музыкального языка: она содержит три отдельных очерка как материал для создания такой теории. Что касается общих принципов художественного воздействия, о которых идет речь во второй части книги, то изучаемый их ряд не мыслится автором как некая замкнутая система. Выделены лишь некоторые принципы разной природы и неодинаковой степени обобщенности, но представляющиеся автору важными. Здесь особенно необходимы дальнейшие работы многих исследователей. Разделам, посвященным принципам художественного воздействия, предпослан в этой части книги особый раздел “О художественном открытии”. Наличие такого открытия, трактуемого как концентрированное выражение новизны, оригинальности, индивидуального своеобразия произведения, рассматривается автором в качестве одного из необходимых условий художественного воздействия в музыке изучаемого в предлагаемом исследовании типа. Аналитические этюды, содержащиеся в третьей части книги, не только призваны иллюстрировать разные стороны метода, описанного в предыдущих частях, показывать применение к анализу ранее сформулированных общих и частных положений, но и, естественно, ставят перед собой и какие-либо познавательные задачи по отношению к разбираемым произведениям. В качестве объектов анализа избраны симфонические и фортепианные сочинения, а среди последних — преимущественно миниатюры (вокальные пьесы ставили бы специальные проблемы, связанные с соотношением текста и музыки). Некоторые из этих произведений уже рассматривались в предыдущих работах автора, но здесь их анализ дается в несколько ином варианте. Разборы других сочинений ранее автором не публиковались. В первых четырех этюдах анализ отличается большей детальностью, а самый его метод и приемы более подчеркнуты. В последующих, когда читатель уже знаком с применением метода, он не столь акцентируется и анализ менее подробен. Из описанного плана работы видна неоднородность ее содержания. Это обусловило и неодинаковый характер изложения в ее различных частях и разделах. Мы уже говорили о том значении, какое имел новый консерваторский курс анализа для формирования музыкально-аналитического метода. Однако еще в 1963 году автор этих строк выступил со статьей, в которой утверждал, что такого рода курс, объединяющий теорию и практику целостного анализа с изучением музыкальных форм, сыграл свою положительную роль, но теперь не позволяет решать ни одну из двух своих основных задач с той полнотой, какая стала возможной в настоящее время. Поэтому автор внес предложение, сохранив упомянутый курс для студентов-исполнителей и, быть может, композиторов, заменить его для студентов-музыковедов двумя самостоятельными курсами: теории и истории музыкальных форм (разумеется, в их содержательной трактовке) и методологии анализа музыкальных произведений [Мазель Л. Необходимы радикальные изменения. — “Советская музыка”, 1963, № 12. Кроме того, автор отметил желательность организации на возможно более раннем этапе консерваторского обучения нового курса — введение в теоретическое музыкознание, — дающего представление о теоретическом музыкознании как едином целом и знакомящего с основными положениями музыкальной эстетики. В 1964—1966 гг. автор провел в порядке опыта все три названных курса в Московской консерватории.]. Настоящая книга не является учебником или учебным пособием.. Но одна из ее задач —способствовать созданию в дальнейшем упомянутого курса методологии анализа — курса, роль которого в подготовке музыковедов и критиков должна быть достаточно значительной. Разумеется, знание каких-либо наук и их положений — эстетики,. психологии, социологии, истории музыки, теории музыкального языка, принципов художественного воздействия и т. д. — само по себе не может сделать человека хорошим музыковедом или критиком. Для этого нужно еще многое: глубокая музыкальность, верная эстетическая реакция, научные способности, владение пером, умение соотносить явления искусства с действительностью, высокая общая культура. Наконец, надо иметь в виду, что доказать эстетическую ценность произведения искусства чисто логически (то есть получить такой вывод об этой ценности, который строго вытекал бы из обозримого числа бесспорных предпосылок и конечного числа логических операций над ними) все равно нельзя: если бы это мог сделать музыковед, это было бы доступно и кибернетической машине, но тогда искусство уже не было бы искусством [Творческая деятельность художника (как и критика) настолько сложна, что ее моделирование, вероятно, не намного проще, чем моделирование человеческой личности в целом. Признание принципиальной возможности моделирования человека является, по выражению акад. А. Н. Колмогорова, современной формой материализма, но практически этот вопрос, конечно, не актуален. Кибернетические машины тем не менее могут играть в музыке некоторую вспомогательную роль: например, хорошо запрограммированная опытным инструментатором машина, вероятно, могла бы вполне удовлетворительно делать многочисленные переложения простых пьес с одного стандартного инструментального состава на другой (разумеется, в духе переложений самого программиста).]. Предполагается, однако, что соответствующие знания, в частности музыкально-теоретические понятия и положения, равно как и связанный с ними аналитический аппарат, могут помочь теоретику или критику, во-первых, проверить, уточнить и углубить его непосредственные художественные впечатления, во-вторых, убедительно аргументировать свою точку зрения. И такая аргументация, обращенная в некоторой мере к художественной интуиции читателя и отнюдь не являющаяся логическим доказательством, как бы равносильна ему, служит в области эстетических оценок и суждений неизбежной его заменой. При этом, как и логические построения ученого, аргументация критика проходит проверку практикой — в данном случае практикой живого исполнения произведения и его восприятия многими людьми. Теория же искусства обнаруживает, формулирует и исследует многочисленные его общие и частные закономерности, знание которых полезно художнику и критику, а применение требует от обоих умения и таланта. Текст дается по изданию: Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики. М. 1978, с. 6-20