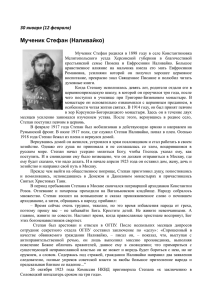Москвина Марина - Мусорная корзина для алмазной сутры Роман
реклама
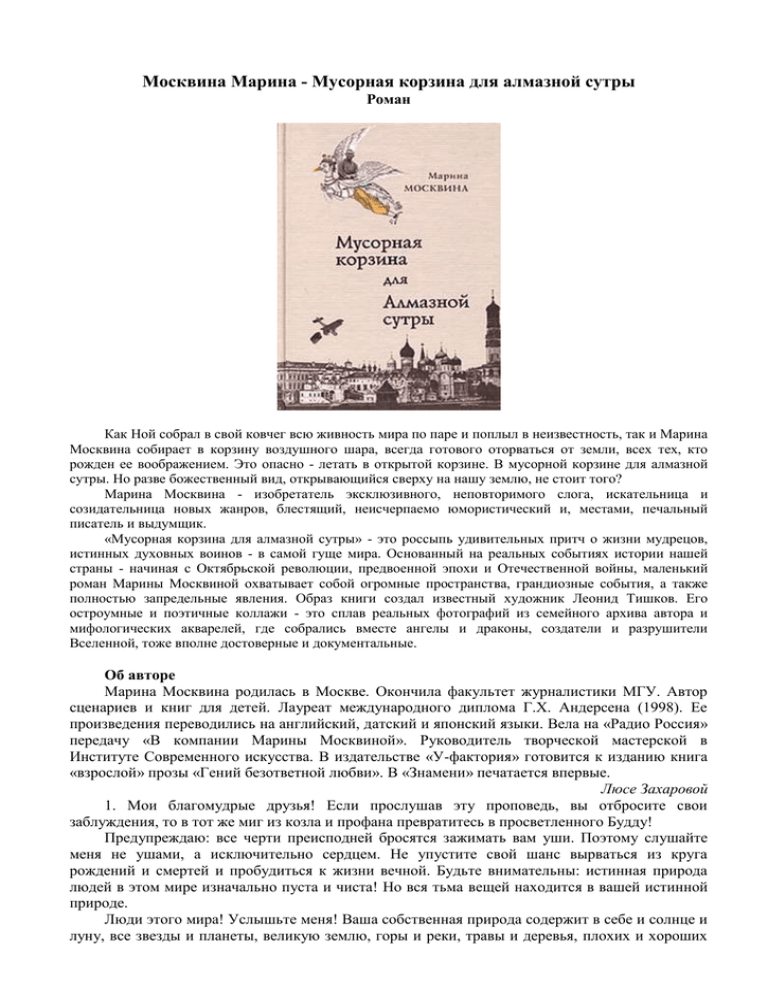
Москвина Марина - Мусорная корзина для алмазной сутры Роман Как Ной собрал в свой ковчег всю живность мира по паре и поплыл в неизвестность, так и Марина Москвина собирает в корзину воздушного шара, всегда готового оторваться от земли, всех тех, кто рожден ее воображением. Это опасно - летать в открытой корзине. В мусорной корзине для алмазной сутры. Но разве божественный вид, открывающийся сверху на нашу землю, не стоит того? Марина Москвина - изобретатель эксклюзивного, неповторимого слога, искательница и созидательница новых жанров, блестящий, неисчерпаемо юмористический и, местами, печальный писатель и выдумщик. «Мусорная корзина для алмазной сутры» - это россыпь удивительных притч о жизни мудрецов, истинных духовных воинов - в самой гуще мира. Основанный на реальных событиях истории нашей страны - начиная с Октябрьской революции, предвоенной эпохи и Отечественной войны, маленький роман Марины Москвиной охватывает собой огромные пространства, грандиозные события, а также полностью запредельные явления. Образ книги создал известный художник Леонид Тишков. Его остроумные и поэтичные коллажи - это сплав реальных фотографий из семейного архива автора и мифологических акварелей, где собрались вместе ангелы и драконы, создатели и разрушители Вселенной, тоже вполне достоверные и документальные. Об авторе Марина Москвина родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор сценариев и книг для детей. Лауреат международного диплома Г.Х. Андерсена (1998). Ее произведения переводились на английский, датский и японский языки. Вела на «Радио Россия» передачу «В компании Марины Москвиной». Руководитель творческой мастерской в Институте Современного искусства. В издательстве «У-фактория» готовится к изданию книга «взрослой» прозы «Гений безответной любви». В «Знамени» печатается впервые. Люсе Захаровой 1. Мои благомудрые друзья! Если прослушав эту проповедь, вы отбросите свои заблуждения, то в тот же миг из козла и профана превратитесь в просветленного Будду! Предупреждаю: все черти преисподней бросятся зажимать вам уши. Поэтому слушайте меня не ушами, а исключительно сердцем. Не упустите свой шанс вырваться из круга рождений и смертей и пробудиться к жизни вечной. Будьте внимательны: истинная природа людей в этом мире изначально пуста и чиста! Но вся тьма вещей находится в вашей истинной природе. Люди этого мира! Услышьте меня! Ваша собственная природа содержит в себе и солнце и луну, все звезды и планеты, великую землю, горы и реки, травы и деревья, плохих и хороших людей, плохие вещи и хорошие. Вся тьма вещей — вот что такое истинная природа человека. Но при этом она всегда остается сияющей, чистой и пустой. Наверное, у кого-то возникнет вопрос: соотносится ли Божественное Сияние, о котором мы толкуем, с каким-нибудь видавшим виды опытным злодеем, способным с легкостью зарезать родного папу?.. Что ж, я отвечу вам: это подобно тому, как солнце и луна всегда светлы, а снизу кажутся затемненными, и тогда мы не видим солнца и луны, звезды и планеты... Но лишь только ветер разгонит облака — мгновенно, вы слышите меня? Мгновенно! — проявится чистота природы людей этого мира, подобная голубому Небу, их интуиция, подобная Солнцу, и мудрость, подобная Луне. 2. Я не могу, я с ума схожу от людей этого мира. Я так их люблю, причем всех без разбору! Всё в них восхищает меня: от жажды почестей и богатства, желанья славы и чувственных наслаждений до жажды Истины, жизни вечной и вечной же и неизменной любви. Их голоса, лица, руки, разнообразные походки, их взгляд, исполненный тоски, и то, как они обреченно плывут по реке своей судьбы. Сама я давно не ощущаю себя человеком, поскольку с годами я превратилась в некрупную короткоухую таксу. Это произошло незаметно и совсем не больно. Знакомые перестали меня узнавать на улице, муж уехал в Париж и позабыл обо мне, сын вырос и стал знаменитым режиссером неигрового кино. Что-то окончилось для меня в этом мире. Рождение и смерть меня больше не интересуют. Я ем, когда голодна, а ночью забираюсь на скамейку в каком-нибудь парке и сплю на свободе. Порой и меня охватывают приступы тоски, и я, закинув морду к небу, вопрошаю Господа нашего Иисуса Христа: — Кто я, в конце концов, черт побери, дитя человеческое или короткоухая такса? И голос свыше мне отвечает: — Ни то, ни другое! — Но кто ж я тогда??? А он отвечает мне: — Ты никто. 3. Теперь я, не задерживаясь, прохожу сквозь людей этого мира. Отличный фокус, знаете ли, более того — великое чудо для тех, кто даже не подозревает о своей нереальности. С другой стороны, меня всегда поражало, как в этом призрачном сновидении — ну просто полностью иллюзорном! — как тут все четко нарисованы!.. Да! Вот что удивительно: люди этого мира, будучи по природе своей абсолютным блаженством, одним блаженством и больше ничем, считают изначальным уделом человека тяготы и горести и — как о чем-то недостижимом — грезят о счастье. Причем все уровни населения! Недавно в Москве на Рождественском бульваре я слышала, опустившийся мужчина неопределенного возраста — клошар — говорил своей подруге (они сидели на лавочке поздним вечером, одни на весь бульвар, их заметала пурга): — Знаешь, в чем его счастье, этого Андрея? — он спрашивал. Я специально замедлила ход и навострила ухо. Мне показалось, что на примере какого-то неведомого мне Андрея сейчас приподнимется завеса над жгучею тайной всего человечества. И я услышала: — …В том, что он педик. 4. Мои наблюдения за людьми этого мира я хочу расположить по центрической окружности, вначале потревожив близкие мне тени. Нет, ни на миг мы с вами не забыли о том, что «далекое» и «близкое», «до» и «после», да само пространство и время — просто вымыслы нашего собственного ума. Это подтверждает современная наука, заподозрив наконец, что Вселенная, которую здравомыслящие люди мира привыкли считать существующей, на самом деле не существует. Не знаю, в чем там дело — кажется, что-то не в порядке с атомом. Вроде бы возникла неясность насчет происхождения его элементарных частиц. Я ничего не смыслю в подобных вопросах, но ходят слухи, что разные протоны и электроны, собственно составляющие материальный предметный мир, вместо положенной твердости и незыблемости обнаружили в себе только энергетическое излучение. А сам Источник этого излучения — мне так показалось — я уж не знаю, правда это или нет, — сам Источник, можно сказать, целой жизни на Земле для физиков, даже имеющих крупное дарование в своей профессии, — тайна, покрытая мраком. Так где же создатель Вселенной? Не кто иной, как ваш ум, вот кто создатель Вселенной, — так отвечают нам будды и патриархи прошлого, настоящего и будущего. Эту истину о плодотворнейшей умственной деятельности людей хорошо проиллюстрировать следующим случаем из жизни мира. Служила я как-то в районе Майкопа в одной из военных частей в должности обычного сторожевого пса. Однажды нашу военную часть предупредили, что главнокомандование на вертолете собирается облететь с инспекцией военные части области. Не приземляясь. Так, сверху посмотреть и улететь. А в нашей военной части была свиноферма. Солдаты разводили свиней. Свиньи у нас были белые в черное пятно. Прямо перед проверочным облетом майор Предыбайло Василий Васильевич так разнервничался, что собрал нашу часть и приказал: — Выгнать из павильона свиней гулять на лужок! А то генерал полетит над нашей частью с инспекцией и подумает, что у нас с вами нет никаких свиней! — Второе: выкрасить наших пятнистых свиней в чистый белый цвет! Тут все несказанно удивились. А свиновод Виктор Трухан по прозвищу Зайчик даже потребовал объяснений, хотя он был ниже Предыбайло по званию. Но майор Предыбайло охотно объяснил: — Да вот я подумал, — сказал Василий Васильевич, — увидит генерал из вертолета пятнистых свиней и подумает: «Кто это там? Собаки или кто?». А так сразу будет ясно, что это белые свиньи. — А что эти свиньи про нас подумают, об этом вы подумали? — спросил Трухан. О том, что думали свиньи, когда их красили в белый цвет, они ничего не сказали, хотя можно было догадаться по их красноречивым взглядам. Зато генерал-инспектор, пролетая над нами на вертолете, подумал вот что: «Все военные части находятся в удовлетворительном состоянии, — писал он в своем отчете. — Но особенно отличилась часть (номер я не называю, это военная тайна). Они не только готовят себя к защите родного отечества, но и занимаются мирным сельскохозяйственным трудом: поскольку у них на лугу, я видел из вертолета, паслись очень жирные белые гуси!». 5. Мой прапрадед Семен Кириллович Посиделкин, хотя и не был образцом благоразумия, добродетели, осмотрительности и красоты, всю свою жизнь старался, никуда не сворачивая, двигаться по Дороге постепенного просветления, денно и нощно усовершенствуясь в духовной практике. Беден он был, как церковная мышь, ни кола ни двора, бессребреник, часто голодал, ночевал где придется, носил башмаки без подошв! И тем не менее он обладал ужасающей, прямо циклопической силой. Он преспокойно гнул пятаки, разгибал подковы, подбрасывал с легкостью пудовые гири, и хотя на вид он не был таким уж Геркулесом — он был небольшой рыженький человек, — никто из окрестных силачей, даже человек-гора кузнец Мефодий, нашего Семена Кирилловича ни разу не припер к стене и не уложил на лопатки! Промышлял Семен Кириллович Посиделкин ремеслом, в котором он творил чудеса: ходил по деревням, ездил в город и устраивал повсюду сногсшибательные силовые представления. Обычно в финале он вызывал на бой смельчаков, причем сразу по двое, а то и по трое! Один богач, потрясенный зрелищем борьбы Семена Кирилловича, подарил ему мельницу и единственный в жизни шанс стать оседлым зажиточным мельником. Мой прапрадед прогулял ее за ночь. Вся деревня пировала. До сих пор там в деревне Семёнково живет легенда, как мельницу! — в ночь прогуляли. История умалчивает о том, сколько было в ту достопамятную ночь Семеном Кирилловичем Посиделкиным выпито и съедено, сколько раз он пускался в пляс и сколько песен перепел, до нас дошли только очень странные слова, которые он произнес на излете праздника: — Вы не должны быть привязаны к вещам, — сказал он своим подгулявшим односельчанам. — Но должны выработать сознание, которое нигде не пребывает!.. Это удивившее жителей деревни Семёнково изречение со всем подобающим смирением они высекли на его могильном камне. А дичайшее буйное бескорыстие, которое мой прапрадед довел до саморазрушительных крайностей, он строго и торжественно завещал, будучи на смертном одре, своим потомкам передавать из поколения в поколение и от сердца к сердцу, чтобы оно не прерывалось в веках. 6. Мой прадед Кирилл Семенович Посиделкин был носильщик. Он свято чтил заповедь отца, и чтобы хоть как-то отплатить долг благодарности своим родителям, кутил напропалую и не вылезал из трактира, стараясь таким образом пробудить первозданную мудрость сокровенного ума. Он очень преуспел в дзенской практике и никогда не упускал возможности напомнить всем присутствовавшим в трактире, что великое просветление, исполненное Мира и неизреченного Блаженства, постигается нами в наших повседневных поступках и земных обстоятельствах. Вот стихотворение, которое он оставил нам, своим потомкам, его нашли у прадеда в нагрудном кармане, а самого старика нашли в канаве, но он уже при жизни был целиком погружен в Нирвану, и смерть тела, наступившая 7 марта 1889 года, не имела для носильщика Кирилла Семеновича Посиделкина никакого значения. Стихотворение написано ужасными каракулями, но все слова можно разобрать, что удивительно: мой прадед совсем не знал грамоты, не умел ни читать, ни писать, а вместо подписи ставил крест! Вот оно — от слова до слова: В темном жилище страстей Всегда должно сиять солнце мудрости. Ложные взгляды возникают из-за страстей. И когда Истина приходит, то страсти исчезают. Ищите! И природу чистоты Найдете в самом центре омраченности! 7. Мою бабушку звали Фаина Кирилловна Посиделкина. Когда Фаина была молодой, она служила сестрой милосердия у легендарного певца Федора Шаляпина. И вечно поклонники Федора Ивановича упрашивали ее пойти к Шаляпину поставить автограф на его фотографическую открытку. Она приносила ему открытку, просила автограф, а он безотказно расписывался размашистым почерком. Так прямо и писал на каком-нибудь образе Мефистофеля: «Ф.И. ШАЛЯПИН». Однажды он у нее спросил: — Сестричка! Вы деньги-то с них берете? — Господь с вами, Федор Иванович! — ответила Фаина. — Вот те на! — удивился Шаляпин. — Мои лакеи на этом себе дворцы построили и стали независимыми людьми. Фаина — мгновенно — Шаляпину: — Независимость — это внутреннее обстоятельство или внешнее??? При этих словах на Шаляпина Федора Ивановича нашло великое озарение. Он встал, поклонился и сказал: — Сестричка! Прошу вас из сострадания и милосердия дать мне свои наставления. А она: — Давайте лучше, Федор Иванович, с вами что-нибудь споем. Фаина хорошо пела. Как ветер в печной трубе. 8. Фаина была обалденной красавицей. Но даже и слышать не хотела ни о каком замужестве. И все-таки один раз она по-настоящему влюбилась — во время Великой Октябрьской социалистической революции, когда пришла на выступление вернувшихся из ссылки политкаторжан. — Худые — кожа да кости! — она рассказывала. — Но зато какие пламенные речи. — «Долой буржуев!» — «Да здравствует власть рабочих и крестьян!» Вдруг в этакой возбужденной обстановке один очень рыжий и конопатый каторжанин вышел на трибуну и вот с какими словами обратился к бушующей, революционно настроенной толпе: — Товарищи! Век мирских невзгод подобен сну, иллюзорен и недостоин никакого внимания. Закройте рты и зажмурьте глаза: погрузитесь хоть раз в свою собственную сокровенную природу. Это вам поможет, товарищи, искоренить желания, глупость, зависть и злобу. А также слишком серьезное отношение к вашим рождениям и смертям. Все онемели. А он сделал паузу и добавил: — Товарищи! Вы устали. Пожалуйста, отдохните. Как сообщает стенографистка, после его слов среди многолюднейшего собрания не было ни одного, кто бы в эту минуту не обрел просветления. Естественно, моя будущая бабушка Фаина влюбилась в него до полусмерти, поэтому с трибуны, на которую этот тип всходил еще неизвестно кем, спустился уже не кто иной, как мой родной и любимый дедушка Степан. 9. Это была пара — нимфа и сатир. Сам себя дед называл мордоворотом. — Я иду, а на меня все морды воротят, — с гордостью говорил он. 10. В ссылку дед попал еще при царизме. За распространение листовок революционного содержания. К нему явилась полиция с ордером на обыск и на арест. Полиция колотит в дверь. Он им: — Иду, иду! А сам не открывает. Он решил быстро и незаметно съесть листовки. Когда полиция ворвалась, он съел почти весь тираж. Осталось несколько листовок. Полицейские схватили их и жадно стали читать. Там было написано: Если идет дождь — Пусть идет. Если грянет буря — Пусть грянет. Оба полицейских, прочтя листовку, обрели просветление, которым они, как всякое живое существо, изначально обладали, но были погружены во мрак неведения. В то же мгновение в их полицейских сердцах вспыхнуло ответное стихотворение — одно на двоих — об Истинной Реальности и иллюзии, движении и покое: Арестовали тебя Или нет, На свободе ли Или в темнице, Ты — океан, который не знает вериг! — продекламировали полицейские. С этими словами они сдали деда в участок и отправили на каторгу. 11. Будучи в заключении, мой дед оказался в камере с образованнейшим человеком своего времени. Звали его Карл Иосифович Сафьяни. Двадцать иностранных языков он знал в совершенстве, а остальные тридцать четыре так-сяк: умел на них читать и писать. Шесть долгих лет просидели они в одной камере со Степаном. И все свободное время уважаемый профессор Московского университета Карл Иосифович Сафьяни посвящал тому, что обучал Степу разным иностранным языкам: английскому, польскому, итальянскому, латинскому и древнегреческому, даже персидскому и японскому. Дедушка Степан оказался на редкость способным и трудолюбивым, он не только все схватывал на лету, но и очень старался, учил слова, записывал в тетрадочку, и они подолгу с Карлом Иосифовичем упражнялись в устной речи. К концу заключения Степан уже с гордостью подумывал про себя, что попал он в тюрьму совершенно необразованным пролетарием, простым чаеразвесчиком (он работал на чаеразвесочной фабрике), а вернется интеллигентом, как Карл Иосифович Сафьяни — широко образованным человеком своего времени. Он даже поделился с Карлом Иосифовичем своими мечтами, что когда он выйдет отсюда, то не составит ли Карл Иосифович ему протекцию на должность преподавателя иностранных языков, ну, он пока не знает куда — в гимназию или Московский университет… — Да тебя, Степа, Кембридж примет как родного! — подбадривал его Карл Иосифович. — Я уж не говорю про Сорбонну. И вот пришла им пора прощаться. (Дедушку выпустили намного раньше.) Обнялись они на прощанье, Степа чуть не плачет от благодарности к своему учителю — такие тот перед ним раздвинул неслыханные горизонты. Гремя ключами, конвоир открыл тяжелую дверь. И тут Карл Иосифович говорит: — Степа, послушай, я перед тобой виноват. И признается, что все, чему он его научил, — полная туфта, он это на ходу придумывал и шесть лет дурил дедушке мозги. — Как? — проговорил изумленный Степан, буквально не веря своим ушам. — Вы же профессор!.. — Это моя кличка такая «профессор», — отвечает Карл Иосифович. — А сам я карточный шулер, карманник, мошенник и шарлатан. Плохо я поступил с тобой, — он говорит. — Но ты, Степа, зла на меня не держи. У меня есть смягчающее обстоятельство: все, чему я тебя учил, мне потом самому приходилось заучивать, иначе нам бы с тобою не удавалось так ловко упражняться в устных беседах. — Нет, это как понимать? — говорит потрясенный Степан. — Вы хотите сказать, что все, чему я учился шесть долгих лет — столь прилежно и старательно, — этого… вообще… нет в природе?!! Карл Иосифович молча развел руками. — Ни вашего «английского», ни «японского», ни «персидского»?.. Ни «древнегреческого», ни «итальянского»??? — перечислял Степан побледневшими губами, прямо на глазах из широко образованного человека своего времени превращаясь обратно в темного пролетария и простого чаеразвесчика. — Степа, — сказал Карл Иосифович, отступая за конвоира, — прости, я хотел пошутить, я слышал, в тюрьмах давали подобные уроки интеллигенты и аристократы, если сидели с такими лопухами, как ты. Но ты, Степа, до того устремился к знаниям, что напрочь отрезал мне путь к отступлению. И тогда я сжег мосты. — Ах ты, сукин сын! — закричал возмущенный Степан и только хотел Карла Иосифовича двинуть по физиономии, как внезапно от страшного потрясения в своем собственном сознании вдруг узрел природу Будды! Тут в душе у него вместо жажды мести и безумного желания напоследок хорошенько отдубасить Карла Иосифовича расцвела звенящая тишина, мир, блаженство и великое сострадание к каждой маковке на Земле, в том числе и к вооруженному до зубов конвоиру и этой шельме Карлу Иосифовичу. — Патриархи не обманули меня! — прошептал Степан, и стоит весь сияет, глаза вытаращил, с места тронуться не может. — А ну, давай, выкатывайся! — сказал грубый конвоир и вытолкал его из камеры. — Вот так номер! — удивился Карл Иосифович и стал дальше сидеть скучать. 12. Освободившись от омраченности иллюзиями, Степан Степанович Гудков стал еще больше любить ходить в гости, веселиться, гулять и выпивать. Причем на все случаи жизни у него были припасены какие-нибудь стихотворные приветы, довольно графоманские по форме и хулиганские по содержанию. Скажем, шел он на именины. Тогда это звучало так: Птичка какает на ветке, Баба ходит за овин, Разрешите вас поздравить Со днем ваших именин. 13. Когда Степан Степанович хотел наглядно показать Изучающему Путь, что тот слишком привязан ко внешним признакам вещей, а не созерцает их общий корень в глубинах собственной сокровенной природы, он выражался красноречиво и убедительно. Короче, он так говорил: — Мелко плаваешь по луже, Вся задница снаружи. И им везде восхищались. 14. После того как в России победила Великая Октябрьская социалистическая революция, мой дед Степан, несмотря на внезапное просветление, был назначен на крупный руководящий партийный пост. Он, обладавший неразличающим сознанием (Степан Степанович Гудков все вокруг считал самим собой, то есть Богом), Он — воплощение Славы Бытия, иной раз для некоторого самосохранения делал вид, что так же, как и все миряне, делит жизнь на добро и зло, победы и поражения, ошибочное и правильное, знание и невежество, движение вперед и отступление, живых и неживых, прямое и кривое, большевиков и меньшевиков. Единственное, что ему никогда не удавалось, это заявлять такие вещи всерьез. Когда, выступая на многолюдной партконференции, он хотел подчеркнуть отличие одной политической фракции от другой, он всегда находил очень яркие и запоминающиеся образы. Например: — Вот задница и вот задница, а какая разница! 15. Осенью 1919 года Степана Гудкова призвали на Южный фронт. Здесь Красная Армия переживала тяжелые поражения, которые поставили под угрозу самое существование Советской республики. С востока рвался к Волге Колчак. На Западном фронте Юденич уже занял Гатчину и подходил к Петрограду. После разгрома генерала Краснова Деникин объединил под своим командованием контрреволюционные силы Юга. К концу августа он завладел почти всей Украиной с Киевом и Одессой. В сентябре Деникин занимает Курск, в октябре — Орел. Раз едет Степан в поезде при полной амуниции с мешком ручных гранат... А напротив него сидит крестьянин и гнусаво так спрашивает: — Оре-ехи везешь продавать? Степан молчит, ничего не отвечает. А тот опять: — Оре-ехи везешь продавать? И так всю дорогу, пока в степи на полустанке на этот южный поезд не напали бандиты и не начали жестоко грабить пассажиров. Тогда Степан развязал мешок, вынул из мешка гранаты, выскочил в проход, весь обвешанный гранатами, схватился за чеку и заорал страшным голосом: — А ну, ложись, гады, суки, взрываю состав!!! И такой у него был при этом чумовой и отвязанный вид, что бандиты на ходу повыскакивали из поезда. Не испугался лишь один — атаман, самый сильный, жестокий и дерзкий бандит. Он не боялся ни бога, ни черта, ни смерти и очень гордился своим бесстрашием. Сколько они грабили деревень, поселков, хуторов, поездов — и товарных, и пассажирских, — никогда он ни перед кем не отступал. Пуля его не брала, он был словно заговоренный: в любой перестрелке ни единой царапины. Поэтому он спокойно вышел к Степану и встал перед ним с заряженным револьвером. — Считаю до трех, — сказал Степан, держась за чеку. — Нет, до четырех! Раз… Два… Три… — Первым сдохнешь, — сказал бандит. — Я давно уже мертв, — ответил Степан. — А эти? — спросил атаман, обведя дулом револьвера перепуганных крестьян в вагоне. — Все как есть мертвецы, — сказал Степан. Они скрестили взгляды. Вдруг в глазах Степана бандитский атаман увидел такую готовность погибнуть в любую секунду, что даже он, всегда презиравший смерть, похолодел. Зато Степан в глазах бандита хоть и увидел полную готовность умереть, но не сию секунду, а спустя примерно дня четыре, поскольку его банда только что награбила добра, ему хотелось погулять, попировать: жратва, горилка… И там у них была одна вдова — он ей собрался подарить вот эту шаль. Короче, не сейчас. — Четыре, — сказал Степан. Бандит опустил револьвер и выпрыгнул из поезда. Степан посмотрел, как он покатился, сжавшись в комочек, под откос. Говорят, после этого случая атаман запил, где б он ни был, куда бы ни шел — перед ним, как живое, стояло лицо Степана. Он впал в жуткую меланхолию, забросил бандитскую жизнь и в конце концов ушел в Спасо-Преображенский монастырь, где стал черным иноком, святым отшельником, известным в народе под именем Инок Александр. Степан Гудков очень аккуратно снял с себя гранаты, упаковал их в мешок, сел на место и спокойно поехал дальше. — А я думал, ты оре-ехи везешь продавать, — разочарованно сказал крестьянин и потерял к нему всякий интерес. 16. У жены Степана Фаины в деревне Семёнково Серебрянопрудского района Тульской области жила семья Посиделкиных: мать Аграфена Евдокимовна, две сестры — Маруся и Анна — и брат Василий. Спасаясь от голода, все они переехали в Москву и поселились у Фаины со Степаном в их однокомнатной квартире в Большом Гнездниковском переулке. Степан всех приютил, кормил, одевал, но каждое утро собирал своих родичей вокруг себя и, прежде чем сесть за стол завтракать, часа полтора или два обучал их буддизму Чистой Земли. — Не ищите славы и счастья в этой жизни ценой недостигнутого просветления и грядущего страдания, — он говорил, восседая на своем кресле среди пятерых Посиделкиных. — Старайтесь! Старайтесь! Чувствующие существа должны спасать себя сами. Будды не могут это сделать за вас. Если бы они могли, Будд было бы уже столько, сколько песчинок пыли! Каждый был бы теперь спасен. Тогда почему вы и я все еще мечемся в волнах жизни и смерти, вместо того чтобы стать Буддами?.. Надо сказать, что этими своими речами, исполненными убойной космической энергии, Степан Степанович Гудков очень сильно всех доставал. Особенно брата Василия, давно свернувшего со столбовой дороги постепенного просветления, по которой столь неуклонно шагали его дед и прадед, в конце концов уподобившиеся Буддам. Василий первым подавал голос на исходе второго часа: — Мы люди темные, деревенские, — заводил он свою волынку, — нам непонятна, Степа, твоя городская премудрость. Степан ему — моментально: — Остается ли человек в заблуждении или испытывает озарение, это зависит от него самого, а не от того, где он обитает: в городской или сельской местности. — Мы ваши бедные родственники, — жалобно продолжал Василий. — Мы к вам приехали не за наставлениями, а покушать. Если я сейчас же не сяду завтракать, я подохну от голода. Степан — этому испорченному сыну небес: — Волны моря поднимаются и опускаются. Но море от этого не прибывает и не убывает. Формы могут приходить и уходить, но чудесная сущность реальности не увеличивается и не уменьшается. Дохни, Вася! На твоем могильном камне будет начертано: «Сдох, не дождавшись завтрака». — Можно, я его убью? — спрашивал всякий раз Василий у своей мамы Аграфены Евдокимовны. Но мама ему не разрешала. 17. Аграфена Евдокимовна Посиделкина — мать Маруси, Фаины, Анны и дядьки Василия была простая деревенская неграмотная бабуся, кругленькая, румяная, как яблочко наливное, хотя ее звали Груша. Много раз бабушку Грушу пытались обучить грамоте, но она оказывала отчаянное сопротивление. — Все это мне лишнее! — отвечала она. Бабушка Груша знала главное, то, что действительно необходимо в жизни человека. Я имею в виду, что, несмотря на свою абсолютную неграмотность, она великолепно умела считать. Аграфена Евдокимовна Посиделкина была прирожденным мастером, даже, можно сказать, виртуозом устного счета. Она еще в деревне Семёнково этим отличалась. К ней все старушки приходили консультироваться — что им на рынке почем продавать, и какую выручку домой принести, и как при своей темноте и неграмотности не обсчитаться и не оказаться в убытке. Соседи просто диву давались, до чего она быстро и точно в уме все могла подсчитать. Когда бабушка Груша переехала в Москву, она часто ходила в Елисеевский магазин. Там тоже продавщицы удивлялись, как эта простая деревенская бабуля мигом обнаруживала, если они сдачу неправильно давали. Причем не только ей, но и другим покупателям. Однажды Аграфена Евдокимовна в своем черном платочке стояла в очереди за неким почтенным господином в шляпе, в очках и с можжевеловой тростью. Вдруг она видит — его обсчитали. — Вас, — говорит, — обсчитали, отец мой родной. Вам не додали тридцать три копейки. Он проверил — верно, именно тридцать три копейки! — Спасибо, гражданочка, — он говорит, — я, видимо, замечтался и не заметил. Хотя я профессор и даже автор учебника по высшей математике. Финкельштейн Лазарь Моисеевич. — А я бабушка Груша, — представилась Аграфена Евдокимовна. И приветливо добавила: — Неграмотная. — А как вы обнаружили, что меня обсчитали? — спросил Лазарь Моисеевич. — Причем с такой точностью? — Почуяла, — отвечает бабушка Груша. — Ну, вы ведь умеете прибавлять, вычитать? Таблицу умножения знаете? — заинтересовался Лазарь Моисеевич. — Нет, сударь мой, не знаю. — А, например, вы сможете сосчитать, сколько будет — три с полтиной прибавить к четырем рублям? — спрашивает профессор. Бабушка Груша: — Зачем это вам? — Дочь купила на рынке двух поросят, взяла с собой десять рублей, а сдачу принесла полтинник. — Обманули ее, — говорит Аграфена Евдокимовна. — Прохиндеи! Если парочка поросят — семь с полтиной, два с полтиной должны были сдачи дать, а ее, золотой мой, на два рубля обсчитали. Может быть, зайдете к нам чаю попить? — Охотно! — согласился Лазарь Моисеевич. — А если, к примеру, на даче, — они уже ехали в лифте, — мы с женой вырастили в огороде восемнадцать кабачков. Из них двенадцать мы собираемся увезти в Москву, а шесть продать соседям — профессорам математики и физики Чеснокову и Сорокину по семьдесят четыре копейки штука. Сколько мы получим от Чеснокова и Сорокина? — Четыре рубля сорок четыре копейки, — сказала бабушка Груша. — Если они возьмут у тебя по такой спекулятивной цене. Тогда ты им и остальные отдай — плюс еще будет восемь рублей восемьдесят восемь копеек, чем плохо? За весь урожай получите с супругой тринадцать рублей тридцать две копейки. А в городе на рынке кабачки сейчас по сорок копеек, если к закрытию подойти, то и по тридцать пять найти можно. Возьмешь двенадцать кабачков — отдашь четыре двадцать. А восемнадцать штук обойдутся тебе, душа моя, всего в шесть рублей тридцать четыре копейки. Да ты заходи, батюшка, вот это мои дети. А это, дети, мой знакомый профессор математики Лазарь Моисеевич. Его в Елисеевском обсчитали. И дочку его обсчитали на рынке, она поросят покупала, а ей двух рублей недодали. Они всей семьей на даче растят кабачки. Дочери Анна, Фаина и Маруся — с мужьями Гергардом, Степаном, отцом Никодимом и братом Василием прямо онемели от такого блестящего знакомства. А Лазарь Моисеевич Финкельштейн и бабушка Груша уединились на кухне, закрыв за собой дверь. Тогда дети бабушки Груши столпились у двери и стали подслушивать. — Моя лекция в университете длится шесть академических часов, — услышали они звучный баритон академика Финкельштейна. — В неделю я имею три присутственных дня. За каждый час мне платят двадцать семь рублей восемнадцать копеек. Сколько я должен получать в месяц? Уж не обманывает ли меня ректор университета? — Зарплата у тебя хорошая, — не раздумывая, отвечала бабушка Груша. — Тысяча девятьсот пятьдесят шесть рублей девяносто шесть копеек в месяц. За такое место зубами надо держаться. На кабачках сейчас вряд ли проживешь. — Не может быть!!! — воскликнул профессор Финкельштейн. — Я потрясен, как вы сосчитали?!! Впрочем, зарплата действительно неплохая, иной раз даже удается отложить на черную старость. Только вам, Аграфена Евдокимовна, доверю свою тайну вклада. У меня сейчас на сберкнижке девять тысяч восемьсот сорок восемь рублей пятьдесят семь копеек. И каждый месяц с зарплаты я регулярно кладу туда двести пятнадцать рублей восемнадцать копеек. До пенсии мне остается пять лет, плюс пять процентов годовых и тринадцатая зарплата. Не подскажете ли, на какую мне сумму рассчитывать, когда я уйду на заслуженный отдых? А бабушка Груша: — Деньги такие тебе набегут: тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей сорок одна копейка. С голоду, сударь мой, не помрешь. Только б не раскулачили. — А если взять, — закричал в страшном возбуждении Лазарь Моисеевич, — и на все — накупить лотерейных билетов по тридцать копеек штука. Сколько выйдет билетов? — Не одобряю я эту твою идею, Моисеич! — строго сказала Аграфена Евдокимовна. — Сто двадцать пять тысяч сто девяносто восемь билетов — ты их зараз не утащишь! И всего десять копеек получишь сдачи. Риск-то какой большой, а ничего не выйграешь? По миру пойдешь? В общем, дети бабушки Груши из-за двери только и слышали, как профессор высшей математики, мировое математическое светило Финкельштейн Лазарь Моисеевич в величайшем волнении восклицал: — Невероятно! — Потрясающе! — Фантастика! — Полностью за гранью человеческих возможностей! — Да вы гений, Аграфена Евдокимовна, — возопил он наконец. — У вас феноменальные математические способности! — Какой там гений, — скромно отвечала бабушка Груша. — Просто копейка рубль бережет, а денежки счет любят. — А если денежки, поросят, кабачки, лотерейные билеты мы отбросим в сторону? — вдруг спрашивает профессор. — И возьмем абсолютно абстрактные цифры, например: триста восемьдесят шесть умножить на семьсот семьдесят два? Сколько будет? А бабушка Груша: — Откуда мне знать, Лазарь Моисеич, я же неграмотная. — Ну, семь плюс восемь? — Не спрашивай, Моисеич, не знаю. — Не верю!!! — закричал заполошный Лазарь Моисеевич. — Вы меня просто хотите обдурить! Сестры с мужьями и брат Василий за кухонной дверью даже испугались, что Лазарь Моисеевич бабушке Груше сейчас по шее надает. Хотя он и пожилой благовоспитанный академик, но их мать-старушка любого доведет до белого каления. — А ну, посмотрите мне в глаза!!! — велел он бабушке Груше страшным голосом. И тут она посмотрела ему в глаза, ее дети поняли это даже из-за двери по звенящей тишине, которая разлилась по всей квартире. И в ее глазах он увидел глубокий покой, бездонную чистоту, запредельную ясность и неподвижность. — Она святая!.. — прошептал профессор Финкельштейн. Ударом ноги он резко распахнул дверь на кухне, стукнув по лбу приникшего к дверной щели отца Никодима, пошатываясь, вышел в прихожую и, отказавшись от чая, ушел, позабыв на вешалке трость, перчатки и шляпу. 18. Бабушка Груша ходила в церковь, молилась, крестилась, но иногда, случалось, лукавила, мошенничала и подворовывала. К примеру, гостит она у старшей дочери Маруси с ее мужем — священником отцом Никодимом. Пойдет — незаметно — из холодильника продуктов у них наберет — кефирчика, постного масла, сыра, пирожков, и едет с гостинцами к средней дочке — Фаине со Степаном. Все им отдаст, побудет у Фаины, потом без спросу, тайком, прихватит пару селедок и отнесет младшей дочери Анне. У той тоже втихаря из буфета отсыпет сахарного песка, конфет, печенья — вот и гостинец для сына Василия. А по секрету от Василия (уж он бы ей задал, если бы застукал!) — полную сумку гастрономических продуктов — Василий сало свиное любил, купаты, жирную колбасу, — такая радостная! — везет через всю Москву Марусе с Никодимом. Дети ее ругали. А между тем, такой круговорот еды в природе шел всем на пользу, хотя в то время об этом никто не подозревал. Тогда ведь не знали, что в Индии есть наука — аюрведа, которая как раз и занимается подобными вопросами: это можно есть, это нельзя — в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Бабушка Груша была стихийным мастером аюрведы. Поэтому ее родственники жили долго и умирали практически здоровыми. Точно так же Аграфена Евдокимовна обращалась с полностью незнакомыми людьми. На вокзале, например. Ей дали комнату недалеко от Павелецкого вокзала. Тихая, незаметная, придет бабушка Груша в зал ожидания, внимательно окинет взглядом пассажиров, их багаж, отметит про себя, у кого из спящих одинаковые чемоданы, возьмет — раз-раз и чемоданы поменяет! Раньше ведь не было такого чрезмерного разнообразия — все чемоданы были коричневые, фанерные, с кожаными или металлическими уголками и жесткой скрипучей ручкой. Я думаю, и содержимое было довольно однообразным, но бабушка Груша считала, что всем это будет веселый сюрприз. Обычно ее проделки сходили ей с рук, но как-то раз она все-таки попалась. Аграфена Евдокимовна шла в церковь Архангела Гавриила на Варварке, а на паперти сидел нищий с забинтованной ногой. И у него была картонка с просьбой: «Подайте на костыль!». Груша оглянулась — видит, в садике на лавочке дышат свежим воздухом старик со старухой, а рядом с дедушкой — видавший виды потрепанный костыль. Тогда Аграфена Евдокимовна со всем смирением и кротостью, на какие только была способна, приблизилась со стороны газона к этой весьма пожилой, почтенной паре, чуть ли не у них на глазах взяла без разрешения костыль и отнесла на паперть нищему. Тот даже заплясал от радости. В это самое мгновение старик, оставшись без своего верного потрепанного друга, внезапно обнаружил пропажу и поднял ужасный крик, мол, вот как в России относятся к герою, оставившему ногу на полях сражений. А там же — в садике церковном — стояла чья-то инвалидная коляска. Недолго думая Аграфена — хвать эту коляску! — и прикатила обобранному ею старику. — Садитесь, — говорит, — дедуля! Довольно вам, — она сказала, — в вашем преклонном возрасте, как мальчишке, на костыле скакать. А вы, бабуля, до конца дней своих теперь своего дедулю на коляске будете возить, как младенца. И с чувством выполненного долга пошла, наконец, в церковь. Зашла, перекрестилась и прямиком направилась к небольшой, потемневшей от времени, с виду не слишком приметной иконе Архангела Гавриила. Та за колонной висела слева от алтаря. Про эту икону ходили слухи, что с помощью ее чудодейственной силы русские одержали несколько знаменитых воинских побед — ну, и среди других называли Ледовое побоище, Куликовскую битву и Бородинское сражение. Тем временем из церкви на улицу выводят инвалида — хозяина той самой инвалидной коляски — большого парня с крепкими руками, но слабыми ногами. Вели его два бугая, видно, братья — уж очень они все трое были похожи друг на друга. И с ними мать-старушка. Как мать увидела, что нет коляски, так за голову и схватилась. — Люди добрые! — голосит. — У инвалида безногого коляску украли!!! Вдруг наша бабушка Груша появляется из церкви, и на груди у нее под кофтой замотанная в платок чудотворная икона с изображением Архангела Гавриила. Подходит Аграфена Евдокимовна к этой разнесчастной семье с голосящей на все лады матерью-старушкой, выуживает Архангела Гавриила и прикасается к слабым ногам инвалида. И хотя эта икона считалась отнюдь не целебной, а исключительно патриотической, ноги его, о великое чудо, окрепли! Да так, что ясно: никакая коляска этому бугаю теперь не понадобится лет семьдесят, а может, и семьдесят пять. Из церкви служки бегут, протодьякон и сам настоятель — отец Михаил. Хватают бабушку Грушу, отнимают икону и тащат в милицию. Короче, ее отдали под суд. Была весна, конец апреля, Пасха, как раз когда она любила шататься по Ваганьковскому кладбищу, пасхальные яйца на могилах менять. Бабушку Грушу выводят под конвоем, сажают на скамью подсудимых, и прокурор Альфред Штабель произносит обвинительную речь. Мол, иск предъявляет настоятель храма отец Михаил к Аграфене Посиделкиной, которая посреди бела дня утащила бесценную древнюю чудотворную икону — вполне возможно, кисти самого Андрея Рублева! — с изображением самого Архангела Гавриила! — Граждане судьи! — проникновенно говорил прокурор. — Мы можем верить или не верить в утверждение истца, что на счету этой иконы несколько известнейших побед в истории нашего отечества. Стоило ее вынести на поле боя, — голос Альфреда Штабеля гулко и торжественно звучал под сводами зала районного суда, — как бы ни теснили нас вражеские войска, как бы ни напирали, кто бы там ни был — татары, французы, шведы — все обращались в позорное бегство!.. Так это или нет, однако налицо факт похищения общественной ценности, народного достояния! И мы не имеем права смотреть на это сквозь пальцы. — Даже дотронуться до этой иконы — и то святотатство! — отметил в своем выступлении рассерженный отец Михаил. — А эта чертова старуха схватила своими руками и вынесла ее в мир из храма! Анафеме ее предать! И точка! — Таким несознательным бабулям только в геенне огненной гореть! — поддержал настоятеля протодьякон. — Да вкатать ей за это дело десять лет строгого режима! — крикнул со своего места служка. Все трое, бедные, потом скитались по ссылкам да по каторгам, хоть и остались, хвала Всевышнему, живы. Но на суде тогда проявили суровую непримиримость и требовали отмщения. Напрасно адвокат Никанорова Елена, молоденькая, неопытная, только в прошлом году закончила юридический факультет, звала к снисхождению, просила у судей дать бабушке Груше последний шанс начать новую честную жизнь. Никто и слушать не хотел. Суд был настроен очень враждебно. Даже два брата чудом исцеленного инвалида оказались не на стороне подсудимой, поскольку ее непрошеное вмешательство лишило это почтенное семейство кормильца. Кто им теперь подаст милостыню, когда они все трое такие бугаи? Бабушке Груше дали последнее слово, и это слово ее было таково: — Дети мои! — сказала она, обратившись к своим родным. — Берегите себя! А ты, Степа, не обижай Васю! Судьи встали, чтобы удалиться на совещание. И, судя по их строгим лицам, над Грушей за Гавриила нависло от трех до пяти лет самого натурального заключения. Внезапно легкий ветерок пробежал по залу, запах ладана почувствовали все, даже те, у кого вообще не было обоняния, откуда-то послышался тихий звон колокольчиков, а на свидетельском месте возник странный персонаж с огромными крыльями, в золотом облачении, с нимбом над головой. В руке он держал скипетр, увенчанный геральдической лилией, обвитый лентой, на которой что-то было написано, неясно что. Первым опомнился прокурор Альфред Штабель. — Не понял, — говорит прокурор. — Вы кто будете, товарищ? Как ваша фамилия? Пришелец молчал и с такою глубокой любовью смотрел на прокурора Штабеля, с какой на того с самого рождения в семье поволжских немцев, сосланных потом с берегов Волги в далекий уральский город Асбест, никто никогда не смотрел. Он так смотрел на него, смотрел, смотрел, пока прокурор Альфред Штабель не заплакал. — Гражданин! — подал голос тогда судья Тарасов. — Если вы что-то знаете по данному вопросу, — попробуйте пролить свет. В случае же, если вы забрели сюда случайно, то я вас попрошу очистить помещение. Тут незнакомец как начал лить свет — на судей Тарасова, Прошкина и Реброва, на молодую защитницу Никанорову, на прокурора Альфреда, на публику, весь залил светом зал суда. Распахнулись окна, подул сильный ветер, лента со скипетра развернулась и затрепетала на ветру прямо над скамьей подсудимых, где как раз в платочке сидела наша дорогая бабушка Груша. «РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ! — было начертано на ленте. — ГОСПОДЬ С ТОБОЮ!» — Да это ж ваш Архангел Гавриил!!! — узнал его Степан Гудков, зять бабушки Груши, секретарь партийной организации Рогожско-Симоновского райкома партии. — Господи Иисусе!.. — закричал настоятель храма и, осенив себя крестным знамением, повалился архангелу в ноги. За ним пали ниц протодьякон и служка. Свет стал уже нестерпимо ярок, все зажмурились, а когда открыли глаза, его уже не было, лишь запах ладана оставался еще некоторое время, да тихий звон колокольчиков. Само собой разумеется, церковнослужители, не сходя с этого места, сняли все свои обвинения. Однако судьи все равно удалились на совещание, чтобы не нарушать процессуальный судебный порядок. И, посовещавшись, учтя все отягчающие, а также смягчающие обстоятельства, дали нашей бабушке Груше год условно. 19. Дочь бабушки Груши Анна училась на рабфаке. Окончив рабфак, она пошла устраиваться работать на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь». Ее посадили за стол и дали шоколада. Все, что ей дали, она моментально съела. Ей дали еще. Она съела. Еще принесли — она съела. — Хороший работник, — сказали в дирекции. — А то у нас тут такой закон: кто мало ест сладкого, будет воровать. А кто много … тот — честный! 20. Ее взяли на фабрику «сухарным мальчиком». В трудовой книжке до конца дней ее (она умерла в глубокой старости) было записано: «Анна Кирилловна Посиделкина — сухарный мальчик». 21. Каждый вечер, когда Анна Кирилловна возвращалась домой со службы — с орденоносной ордена Ленина кондитерской фабрики «Красный Октябрь», она кричала с порога: — Говна мне, говна!.. 22. Однажды тетка Анна познакомилась с молодым человеком. Он был рабочим на заводе Гужона. Звали его Гергард Наполеонович Цвирко. Получалось, что папу его звали Наполеон. — Ты когда-нибудь видел своего папу? — спрашивала его тетка Анна. — Никогда, — отвечал Гергард Наполеонович. — А кто-нибудь видел его когда-нибудь? — Нет, никто, — отвечал Гергард. 23. Гергард Наполеонович и тетка Анна поженились. Вскоре у них родился мальчик, которого они тоже не могли назвать Ваня или Петя, и на его беду назвали Джемсом. В школе его дети дразнили «джем». Он ходил с «бабочкой» и с кружевным воротником. Белые ресницы, белые брови. Во дворе его звали Женька. В сорок пятом году Джемс погиб, дойдя до Берлина в штрафном батальоне. Подростком он был хулиган. Тетка Анна в церкви заказала поминальную молитву и написала: «Помянуть — Евгения». Побоялась, что «Джемс Гергардович» в одно ухо Богу влетит, в другое вылетит. Много лет она искала, где он похоронен. Наконец, ей пришло письмо: «Нашли имя вашего сына в архивах погибших под Берлином. Высылаем фотографию его могилы». На фотографии река Рейн, пологий берег, высокий тополь, обелиск со звездой и надпись: «Денис Гордеевич Цвирко». 24. Когда тетка Анна и Гергард Наполеонович поженились, они жили очень бедно, но счастливо. Анна вещи донашивала за Фаиной. Как и старшая, Маруся. Та была замужем за священником, отцом Никодимом, а тогда это не пользовалось почетом. Со временем Гергард Наполеонович перешел работать в Кремль помощником коменданта. Ему дали форму со «шпалами» на гимнастерке, кожаный портфель. Это был пик их жизни с теткой Аней. Они стали очень обеспеченные. Хорошая квартира в Кремле, кремлевские продуктовые пайки. Анна ходила модная, наряженная. Джемс надел тогда свою «бабочку» и кружевной воротник. Тетка Анна всем делала подарки, звала в гости, устраивала вечеринки. И вдруг в Кремле начались аресты в связи с подозрением в шпионаже. Одним из первых (с таким-то отчеством!) арестовали нашего Гергарда Наполеоновича. Из отдельной кремлевской квартиры Анну перевезли в деревянный стоквартирный барак. Теперь она мыла полы, выполняла всю черную работу. Но потом ее вызвали куда следует, и человек в форме по фамилии Лялин ей сказал: — Вы должны отречься от своего мужа и подтвердить, что он шпион. Если нет — то вас тоже ждет арест и многолетняя ссылка. За сына не беспокойтесь, с ним будет полный порядок — его сдадут в детский дом. И предоставил ей несколько дней на размышление. И вот наша тетка Анна пришла в свой барак, закрылась у себя в комнате, села на стул и думает: — Эрик, радость моя, любовь моя, жизнь моя, смерть моя, никогда я не отрекусь от тебя, пусть они что хотят со мной делают, я им ничего не подпишу. Пусть меня растерзают, на части разорвут — не поверю, что ты немецкий шпион. Даже если мне скажут, что ты французский шпион, не поверю! Хотя твой отец — Наполеон. Ты верный ленинец, коммунист, настоящий большевик, да я перед самим Господом Богом могу поклясться, что у тебя и в мыслях не было работать на иностранную разведку. Хоть меня на каторгу сошлют, не подпишу я этот подлый донос!.. Тут она живо представила себе свой арест, ссылку, товарные вагоны, лесоповал или бескрайние степи, голод, надсмотрщиков, холодный ветер, ледяную воду и — в любом случае — вечную разлуку. — Все равно, — тетка думала. — Будь что будет. Иначе как я нашему сыну в глаза посмотрю?.. Тут она вспомнила про Джемса, что, когда ее арестуют, его сдадут в детский дом. Она представила себе чужие стены, железные кровати, серое белье с лиловыми размытыми печатями «Детдом …» (номер неразборчиво), запах хлорки, очередь в столовую, алюминиевые миски, стриженые головки, чужие люди, косые взгляды… — Эрик, жизнь моя, смерть моя, — думала тетка Анна. — Только не это. Теперь перед ее мысленным взором возникла такая картина: она, тетка Анна, пишет донос, что ее муж иностранный шпион, проникший в сердце Кремля и тем самым нанесший Стране Советов невосполнимый ущерб. Его законная жена свидетельствует это, а посему их брак отныне просит считать недействительным. И вот на допросе Гергарду Наполеоновичу этот донос показывают. И он видит, что жена, единственная, навеки любимая Аннушка, предала его!.. — Что делать? — спрашивала себя моя тетка и не находила ответа. — Отречься? — думала тетка Анна. — Или не отречься? Предать? Или не предать? — Отречься, — она решала твердо и с той же твердостью она решала: — Ни за что! — Предать. Просто нету другого выхода, — думала тетка. А следующая мысль была: — Лучше смерть. — Как можно жить после этого? Нет, это невозможно. Значит, не отрекаться? Нет, нет, нет, нет, нет. Да! Нет! Да, да, нет. Да! Нет, нет, нет! Все! Это мое последнее слово! Нет! Нет, нет и нет! Да! Да, да, да, да, да! Нет! Нет, нет, нет, нет!.. Вот так она думала, думала, думала, три дня и три ночи она просидела на стуле, не двигаясь, не видя ничего и не слыша, почти не дыша, пока наутро четвертого дня эти «да» и «нет» каким-то чудесным образом не расплавились и не растворились друг в друге. Тут в нашей тетке Анне открылся невиданный ею — другой, обычно закрытый облаками и туманами берег, Чистая Земля, свободная от правильного и неправильного, от всех противоположностей и противоречий, иллюзий и заблуждений. В единый момент в своем собственном сознании узрела она Абсолютную Реальность, и Абсолютную Нереальность узрела она в окружающем мире, достигнув состояния, когда можно свободно уходить или оставаться, снимать или надевать одеяние жизни. С тех пор она обладала способностью появляться повсюду, поскольку ее духовное тело было неизмеримо, как космос. Попросту говоря, всего за три дня моя тетка Анна выскочила из круговорота рождений и смертей, на что даже древним продвинутым йогинам и аскетам требовалось немало эпох и тысячелетий. Стояла поздняя осень. А возле их барака росла яблоня. Она вся облетела. И вдруг случилось чудо: дерево покрылось листьями, бутонами и зацвело. Вокруг этой белой яблони в конце ноября собралась толпа людей. Никто ничего не понимал. Только подоспевший к цветению Степан Гудков понял, что к чему, быстро превратив это собрание вокруг цветущей ноябрьской яблони в бурный революционный митинг. — Товарищи! — сказал он. — Пусть это чрезвычайное происшествие поможет вам осознать полную бессмысленность и огромный вред беспокойства, которое вы испытываете, рассматривая несчастье как то, чего не должно быть. — Пока вы бесконечно вращаетесь в колесе жизни, — возвысил голос Степан Степанович, — где вы только и делаете, что гоняетесь за удовольствиями, возникновение несчастья не является несправедливым и нечестным — такова сама природа циклического существования. — «Что делать?» — спрашивал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин в своей одноименной статье, оказавшей огромное влияние на развитие революционного движения в России. Что нужно делать, товарищи, чтобы неисчислимые бедствия, которые обрушиваются на ваши головы, не сломили вас, а, наоборот, укрепили? И сам же Владимир Ильич отвечает: учиться, учиться и учиться! Сейчас я вам растолкую эту загадочную сутру Ильича. Вам нужно учиться видеть в катастрофах нечто бесценное. Ибо для нас наиважнейшим является развитие чувства такого глубокого разочарования, чтобы под натиском революционных марксистов народные массы в ужасе отвратились от мира сего и обратили взор внутрь в поисках истинной свободы, где нет места неблагоприятным обстоятельствам, несчастьям и страданию. Это заложено в основу всей тактики большевиков в эпоху революционных преобразований. И это по силам нашим замечательным работникам госбезопасности, благодаря которым все помрачения растворяются и природа Будды сама открывается человеку, как солнце из-за туч. Собственно, это и случилось с моей свояченицей Аннушкой, которая, судя по расцветшей у ее окна яблони, достигла полного и окончательного просветления. — Не поняли, какая связь? — крикнул кто-то из толпы. — Почему цветет яблоня? — Объясняю, — серьезно ответил Степан. — В природе есть такая добрая традиция. Как только человек просветлится — сразу около него расцветают, а то и начинают плодоносить огородные культуры, луговые травы, кустарники и деревья, причем независимо от сезона! — Ура, товарищи!!! — подытожил Степан. Все грянули: — УРРА!!! И захлопали. И вот что интересно, прокурора Лялина, который вел дело тетки Анны, внезапно самого арестовали. Дела, которые он вел, передали другому сотруднику госбезопасности товарищу Кобелю Николаю Евгеньевичу, но и Кобеля Николая вскоре арестовали. А того, кто стал вместо Кобеля, тоже арестовали и расстреляли. Так что дело моей тетки Анны само собой каким-то чудом утихло, улеглось и развеялось, как дым. 25. Как я уже говорила, Степан Степанович Гудков не являл собою образец красоты, он имел дичайший внешний вид, однако до глубокой старости пользовался колоссальным успехом у женщин. Его увела у Фаины вообще невообразимая красавица, дивнобедрая донская казачка Матильда. Матильда Ивановна. В паспорте у нее было записано: «МАТРЁНА». 26. Вторая жена Степана — Матильда Ивановна Гудкова — родом из Краснодарского края, станицы Суворовская, с детства неплохо держалась в седле. Всю юность она провела на коне. Станичная аристократка Бардина даже брала ее с собой в качестве компаньонки в Персию и в Турцию. Две эти мусульманские державы Матильда с Бардиной вдоль и поперек проскакали на пегих иранских жеребцах. Они миновали пустыни Персии, тропические побережья Оманского, Персидского заливов, бескрайние турецкие степи, преодолели Армянское нагорье, Понтийские горы… Проехали вдоль Тигра и Евфрата, Сакарьи, КызылИрмака… Коней купали в Средиземном, Эгейском, Черном, Мраморном морях. Когда Матильда с Бардиной прибыли в Анкару, турецкий султан Абдул-Хамид Второй случайно увидел Матильду, влюбился в нее, предложил стать его девятнадцатой самой любимой женой, осыпал драгоценностями, но она ему отказала. Он угрожал ей, вся эта история могла принять печальный для Матильды оборот, но, к счастью, в тот момент вдруг разразилась буржуазная младотурецкая революция, которая привела к свержению деспотического режима султана Абдул-Хамида Второго и установлению конституционной монархии. 27. Матильда любила плавать в море. После Октябрьской революции она работала сестрой-хозяйкой в санатории Военно-Морского флота в городе Феодосии. Когда Матильда входила в воду, все отдыхающие санатория, стоя, следили за ней в морские бинокли двадцатикратного увеличения до тех пор, пока она не исчезала в полосе неразличимости. Видны были только дельфины, которые играли с Матильдой и прыгали через нее в открытом море. Незадолго до эмиграции в Эстонию поэт Игорь Северянин оказался в Феодосии на черноморском берегу и стал случайным свидетелем купания Матильды. Он долго смотрел ей вслед, пока она не исчезла, ждал ее возвращения, томился. Отдыхающие санатория и обслуживающий персонал говорили, что она обычно возвращается к двум, но к двум она не вернулась. Ни к трем, ни к полчетвертому! Все стали волноваться, заявили на спасательную станцию, но все-таки надеялись на лучшее. Один Игорь Северянин — провидец и поэт — вдруг ясно понял, что она не вернется. Стремительным легким шагом вошел он в здание санатория, закурил папиросу и к ужину сочинил исполненное высокого трагического накала стихотворение «Наяда», используя форму, до него почти не применявшуюся и названную поэтом «гирлянда триолетов». В стихотворении Игорь Северянин воспевает златокудрую наяду, которая бесстрашно уплывает в океан, играет там с волнами и дельфинами, а влюбленный поэт, спрятавшись за скалы, тайно ею любуется. И тут она гибнет, эта наяда, к ужасу поэта, тонет в бушующем море. Поэт безутешен. И слезы катятся из его глаз, хотя многие думают, что это обычные морские брызги. Узнав, как звали сестру-хозяйку санатория красных морских капитанов, он посвящает стихотворение Матильде. И даже читает его в столовой во время ужина… Все смолкают, впечатленные его поэтическим гением и драматизмом происшествия. В эту минуту в столовую входит Матильда Ивановна и как ни в чем не бывало принимается из огромного жестяного чайника разливать отдыхающим чай. Северянин потупился, смутился, ему было неловко, он кинулся в свою комнату, схватил стихотворение, хотел сжечь его или разорвать, но потом опомнился и аккуратно положил в папку. Спустя некоторое время, убрав посвящение, поэт включил «Наяду» в сборник «Менестрель», вышедший в 1922 году в Эстонии, в городе Тарту. Многие считают, что именно благодаря «Наяде» книга имела успех. А Максим Горький назвал «Наяду», наряду с «Трагедией титана», одним из лучших произведений Северянина. 28. Матильда великолепно играла на бильярде — только с мужчинами. Она закуривала папиросу и до победы не выпускала ее изо рта. Это была очень серьезная классическая игра. Когда играла Матильда, в бильярдную феодосийского санатория Военно-Морского флота набивалась толпа народу. Смотреть, как она играет, съезжались профессионалы этого дела со всего Крыма. Впервые Степан Гудков увидел Матильду в 1928 году на Крымском побережье в бильярдной. В тот вечер ее соперником был Денис Черкасов, негласный чемпион России, завсегдатай самых респектабельных бильярдных столицы, который не проигрывал никому ни до, ни после революции. С Матильдой у них шла абсолютно равная борьба, хотя Черкасов чуть лидировал, до самого последнего удара. Этот удар должна была сделать Матильда, и если бы она положила оба шара в лузу, то выиграла бы! Но удар был очень сложный. Надо было положить и «своего» и «чужого», причем «чужого» — дуплетом от борта в середину. «Это невозможно!» — так думали многие присутствующие (они, кстати, в массе своей поставили на Черкасова), так думал сам Черкасов и потихоньку начала подумывать Матильда, когда зависла над зеленым сукном под абажуром, примериваясь для удара. Тут-то как раз и вошел в бильярдную Степан Гудков, секретарь Рогожско-Симоновского райкома партии, просветленный мастер, буддист Чистой Земли. Он с одного взгляда все понял про Матильду, увидел ее судьбу и место, которое эта женщина займет в его жизни. Матильда тоже что-то почуяла и, нарушая все обычаи бильярда, вдруг подняла голову и встретилась глазами со Степаном. Сколько длился этот взгляд, точно неизвестно. До нас дошли только слова Степана, которые он произнес в полной тишине: — Не трать время, играя на флейте перед буйволами. А потом повернулся и вышел из бильярдной. Не сводя глаз с Гудкова, Матильда вслепую ударила по шару, положила кий и вышла вслед за ним. Но этого никто не заметил. Зрители, затаив дыхание, следили, как «свой» мягко прикоснулся к «чужому», и оба они медленно, медленно-медленно — один за другим покатились и упали в лузу. Крик, свист, аплодисменты сотрясли феодосийскую бильярдную, на кленовый паркет которой больше никогда не ступала легкая нога сестры-хозяйки санатория Военно-Морского флота. Поскольку Степан Гудков увез Матильду из Феодосии и женился на ней. 29. Фаина очень страдала и ревновала Степана Степановича к Матильде. — Как ты можешь, — с укором говорил Фаине Степан, — считать Матильду индивидуальной и независимой сущностью, а не временной комбинацией элементов, которые должны распасться? 30. Однажды Иосиф Виссарионович Сталин прослышал о том, что Степан Гудков, занимая высокий руководящий пост секретаря партийной организации Рогожско-Симоновского райкома партии, распространяет среди рабочих и крестьян своего района какие-то нехитрые способы, как побыстрее и не слишком напрягаясь узреть в своем сознании природу Будды и выскочить из порочного круга рождений и смертей, которые, по его безапелляционному утверждению, являют собою лишь сон и мираж. Главное, это безобразие сопровождалось явной антикоммунистической пропагандой. В поступившем к Иосифу Виссарионовичу доносе была приведена стенограмма выступления Степана Гудкова на ХIХ партконференции, где, в частности, говорилось: «Товарищи! Ни за какие коврижки не позволяйте пришедшему к власти режиму воспитывать в вас Нового Человека. Это приведет исключительно к новым иллюзиям, заблуждениям и злодеяниям! Но лучше найдите в себе первобытного Бога, который одиноко сияет в каждом сердце, независимо от того, кому оно принадлежит — рабочему, крестьянину, солдату или интеллигенту. Вы Боги, товарищи! Только нигде и никогда не отходите от своей собственной божественной природы. Там чистота, там невинность, там ваше царство небесное, вечная жизнь и неизменная любовь. Теперь второе: товарищи! Хватит вам в самом деле уже стремиться от темного прошлого к светлому будущему. Когда, наконец, черт вас всех побери, узрите вы оком истины, что на свете в принципе нет ни темного прошлого, ни светлого будущего, но во всех явленных мирах есть постоянная смена четырех состояний: зарождения, бытия, разрушения и пустоты». Внимательно ознакомившись с этим донесением, Иосиф Виссарионович Сталин решил погубить Степана Степановича: арестовать, посадить в тюрьму и по-тихому расстрелять, чтобы тот своими восточными лжеучениями не подрывал единственно верное вечно живое революционное учение Марксизм-Ленинизм, в основе которого как раз и лежит ненависть к темному прошлому, мечта о светлом будущем, а также линейный процесс рождений и смертей, довольно бессмысленных, но данных нам в ощущениях, как объективная реальность. И вот черной ночью, безлунной и беззвездной, на станцию Кратово в поселок Старых Большевиков к дому Степана Степановича Гудкова подкатил черный «воронок». Из него вышли люди в длинных черных пальто и черных шляпах, надвинутых на глаза. Так вот, эти черные люди обязательно бы арестовали моего дедушку Степана и посадили в тюрьму, если бы его на день раньше уже не посадили за взятки. Лёне Тишкову 31. Напротив дома Степана в поселке Старых Большевиков по четной стороне улицы стояла дача абсолютно засекреченного авиаконструктора Ивана Поставнина и его жены тети Шуры. Степан Степанович дружил с Иваном, а тетя Шура водила знакомство с Матильдой. Тетя Шура была великосветская дама, носила дорогие меха, ей шили на заказ горжетки и палантины, она была очень пышная, наша тетя Шура, с утра себе волосы завивала горячими щипцами, имела толпы поклонников и никогда нигде не работала. Дядя Ваня был из простонародья. Он денно и нощно работал в ЦАГИ — Центральном Аэрогидродинамическом институте в городе Жуковском. Авиаконструкторы тогда очень высоко ценились, их считали элитой. Так что тетя Шура Поставнина была светской львицей при конструкторе. У них была дочка Таня — простоватая, некрасивая, похожая на папу. Она мечтала стать артисткой, но имела совсем непривлекательную внешность — волосы бесцветные, пепельные, жидкие косички заплетала с черными бантиками. Зато тетя Шура была яркая и сочная. Она пользовалась оглушительным успехом, и пока ей не позвонят и не назначат свидания (Поставниным во всем поселке первым установили телефон!), она вообще не вставала с постели. Она лежала, читала, слушала радио, пила кофе, и она очень любила рассказывать про свои романы. А дядя Ваня был ангел. Когда-то у него были крылья, но в молодости он упал с лошади и крылья потерял. С тех пор он мечтал об авиации, выучился на конструктора, и это стало его настоящим призванием. Вместе с Андреем Туполевым Иван Поставнин сконструировал немало самолетов, которыми в тридцатые годы гордилась советская страна. Но Ваня понимал, что это не те самолеты. Ему нужен был такой самолет, который унесет его совсем к другим землям и в иные небеса. А в это время наша авиация набирала силу и высоту, авиационная промышленность делала немыслимые успехи. Мы ведь тогда должны были все делать больше всех, лучше, скорее и высококачественнее. Арктику бороздил Папанин, небо — Чкалов. Воспользовавшись этим обстоятельством, в тридцать четвертом году в Центральном Авиационном институте в городе Жуковском Иван Поставнин предложил Андрею Туполеву проект гигантского агитационного самолета «Максим Горький». — Это будет невиданное в мире чудо, — говорил дядя Ваня Андрею Туполеву. — Восемь моторов, ты представляешь? Четыре с одной стороны, четыре с другой! Сорок две тонны! Восемьдесят пассажиров! Восемь членов экипажа. Размах крыльев — … шестьдесят три метра!.. — Не взлетит, — с сомнением отвечал Туполев. — С размахом ты, брат, явно перебарщиваешь. — Взлетит! — говорил дядя Ваня с горящими глазами. — Ты меня знаешь, Толя, я слов на ветер не бросаю. Голову даю на отсечение — взлетит. Он будет разбрасывать на годовщину Октябрьской революции листовки, прославляющие партию и советский народ. На праздник Первомая с него будут прыгать парашютисты и выпускать воздушные шарики! Перед парадом на Красной площади он станет тучи разгонять своими крыльями. А если осенью в городе недостаточно желтой осенней листвы, мы будем листья собирать в лесу и рассыпать над городом — желтые, алые, кленовые, чтоб было впечатление пылающей золотой осени. Причем это мероприятие можно проводить в любое время года… Вскоре группа самолетостроителей под руководством Андрея Туполева с его ближайшим сподвижником Иваном Поставниным соорудила в одном экземпляре громадный, невиданный по тем временам Ант-20, присвоив ему славное имя классика советского реализма Максима Горького. Когда «Максим Горький» был готов, на нем решили прокатить всех строителей, которые участвовали в его созидании. Им выдали пропуска и с большими семьями — женами, тещами, детьми — пригласили для увеселения полетать над Москвой. Дядя Ваня Поставнин тоже получил такие билеты. Он шел домой и думал: — Обычно туда, куда я собираюсь лететь, улетают по одному. Забрать с собой дочку? Ведь Шура так и так не полетит… А! Как получится, — подумал Ваня. Утром все спали, когда он проснулся, съел геркулесовой каши, выпил чаю, подошел к Тане, хотел разбудить, а она так сладко спит, и он пожалел ее. — Пусть спит, — подумал дядя Ваня. — И Шуру жалко. Ну, ладно, если я улечу, а Таня пусть у ней останется. И полетел сам. 18 мая 1935 года самолет «Максим Горький» со страшным ревом поднялся в небо и полетел над Москвой. Москвичи с изумлением следили за его полетом. Еще никогда в мире никто не видел в воздухе подобного чудовища. Тень от его крыльев пронеслась по Красной площади, улице Горького и легко заскользила к Белорусскому вокзалу. Почетным эскортом стального гиганта Ант-20 торжественно сопровождали два самолетика. Внезапно один самолетик не рассчитал траекторию полета и врезался в «Максима Горького». В тот же миг у «Максима Горького» отвалилось крыло. Он весь развалился и начал падать. Это было в центре Москвы. Город замер. Внизу был вокзал. Трамваи. Тысячи пассажиров с детьми в ужасе смотрели, как на них медленно летят обломки самолета. Но обломки «Максима Горького» не достигли земли. Они исчезли в воздухе, растворились: ни тел, ни следов катастрофы — будто самолет на глазах у всей Москвы перешел в какие-то другие миры. На Новодевичьем кладбище под могильной плитой, на которой золотыми буквами перечислены восемь членов экипажа и восемьдесят пассажиров «Максима Горького», в том числе и наш дядя Ваня Поставнин, нет никого. Это просто мемориальная плита. Специалисты утверждают, что по всем параметрам такой самолет не мог взлететь. Это какой-то нонсенс. Не летают такие самолеты. И приводят доказательства: когда авиаконструкторы решили повторить подобную конструкцию и соорудили точно такой же восьмимоторник «Илья Муромец», он даже и не подумал взлететь без дяди Вани. «Илью Муромца» потом разобрали, и в том году Центральный Авиационный институт города Жуковского получил первое место по сбору металлолома. А тетя Шура осталась с Таней без всяких средств к существованию. Хотя Таня некоторое время работала в Театре Советской Армии — она все же выучилась на артистку, и у нее там была одна второстепенная роль без слов. Она выходила на сцену, в нее стреляли, и она падала. Степан Степанович Гудков был приглашен ею на спектакль, увидел Таню Поставнину в этой роли и был восхищен. — Если б ты видела, как она упала! — рассказывал он Матильде. — Танька — великая актриса! Но дальше этого падения дело у нее не пошло, после войны они продали московскую квартиру и окончательно переехали в Кратово. Таня стала работать учительницей в сельской школе. А тетя Шура Поставнина разводила цветы. Цветов у них было полно, много роз и сирени. Розы выращивались под баночками, а сирень буйно расцветала весной — белая, махровая, лиловая, розовая и голубая, она аж полыхала за забором. Тетя Шура постоянно занималась садом, а дом забросила совершенно. У них были кучи барахла, все это валялось и ветшало, никогда они не подметали, просто утопали в пыли и грязи. Ни посуду не мыли, ни окна, да и сами они — Таня с тетей Шурой — не мылись никогда. Таня вышла замуж, родился мальчик Алеша. Но Танин муж очень скоро от них убежал. А мальчик рос, и вскоре выяснилось, что он гений. С шести месяцев этот Алеша читал научные журналы и рассуждал на философские темы, хотя он тоже никогда не мылся, с утра до вечера лежал в кровати, даже когда вырос и стал молодым человеком, и никто ему не стриг ногти. Однако вся их семья была сторонником здорового питания. Поэтому они в огромном количестве поедали зеленый лук. Таня нарезала огромные тарелки лука, поливала маслом — в день они обязательно съедали по тарелке лука. У них ничего не было, кроме сирени, роз и лука. Поставнины очень редко выходили из дома. Тетя Шура собирала на макушке седые волосы в пучок, носила шапку с отворотами, закрывающими уши, какую-то длинную рубаху по щиколотку и галоши на босу ногу. Все думали, что она сумасшедшая, в такой тетя Шура жила грязи. Она ходила по помойкам, набирала старую обувь, пустые банки, половики, разную дохлятину и сжигала все это на костре. Отвратительный запах сжигаемого мусора распространялся в поселке Старых Большевиков. Жители страдали от этой вони, писали жалобы в поссовет и всячески хотели выжить ее из поселка. Только мой дед Степан не давал тетю Шуру в обиду, разъясняя всем и каждому, что тетя Шура Поставнина — не сумасшедшая, а великий аскет, причем очень высокого уровня, у которого покончено со всеми жизненными правилами. — Это высочайшая дисциплина без какой-либо внешней дисциплины вообще! — заявил Степан на собрании в поссовете. — Для йога этой ступени нет никаких правил, касающихся еды, сна, чистоты, для них нет разницы между водой в грязной канаве и священной водой из Москва-реки, между чисто вегетарианской пищей и разложившейся плотью мертвых животных. Они находятся за пределами понятий «добра» и «зла» и даже могут съесть свои испражнения. Спустя пару дней после собрания, будто в подтверждение слов Степана, тетя Шура нашла дохлую собаку и бросила ее тушу в свой костер. Тогда все недовольные ее поведением собрались вокруг костра, взяли палки, стали разбрасывать мусор и требовать, чтобы она прекратила свой шабаш. В ответ тетя Шура вытащила из костра тушу мертвой собаки и стала ее есть. Нескольких человек вырвало, и они убежали прочь. Однако другие, настроенные более решительно, остались на месте. Неожиданно тетя Шура встала и протянула ногу дохлой собаки Матильде, которая с авоськой отправилась в булочную и совершенно случайно проходила мимо. Не думая, Матильда приняла эту ногу, а тетя Шура убежала. Народ молча наблюдал за происходящим. Когда тетя Шура скрылась из виду, все увидели, что нога дохлой собаки превратилась в изюм и миндаль. Тут ее соседям стало понятно, что тетя Шура и в самом деле величайшая святая. Кроме того, она исцеляла больных. Где бы она ни появлялась, люди сразу начинали следовать за ней, ибо ее внутренняя чистота и сверхъестественные силы все вокруг наполняли жизнью и свежестью, хотя она вела прежний, полностью антисанитарный образ жизни. Когда люди собирались вокруг тети Шуры, сразу начинались песнопения, пели «Вихри враждебные», «Каховку», «Прощание славянки», разные другие революционные песни, а затем возвращались домой, наполненные счастьем и спокойствием. Когда она умерла, жители поселка Старых Большевиков нашли ее сидящей в глубоком самадхи на речных камнях у самого берега. Душа тети Шуры безмолвно исчезла в сверкающей безмятежности полудня, вернувшись в Чистую Землю, где ее верно ждал дядя Ваня Поставнин. А что стало с Таней и Алешей — никто не знает. Со временем они вообще прекратили выходить из дома. Розы в саду завяли. Вечерами оконный свет еще пробивался сквозь заросли дикого винограда, а потом и вовсе погас. То ли лампочка перегорела, то ли густо пошел за окнами расти хмель и плющ, короче, дом этих двух отшельников так и зарос тропическими лианами, а также бушующей подмосковными вёснами сиренью. 32. А вот вам еще одна интересная новелла о неожиданном просветлении, события которой начали разворачиваться прямо перед Великой Отечественной войной. Тогда подобные черные «воронки» черными ночами подъезжали не только к дверям таких отвязанных личностей, обучавших своих сограждан буддизму Чистой Земли, как мой дедушка Степан Гудков, но и к самым обычным, ничем не примечательным жителям Подмосковья. Тут перед вашими глазами пройдут несколько почтенных и уважаемых фигур, не состоявших со мною в кровном родстве, однако они были близкими соседями Степана и Матильды Ивановны по даче в Кратово, поэтому нити судеб этих людей сами собой вплетаются в узор моего повествования. Итак, по соседству с Матильдой и Степаном в поселке Старых Большевиков жили мама и дочка. Фамилия у них Бронштейн. И вот эту маму — Сару Наумовну Бронштейн — однажды вдруг арестовывают и отправляют в лагерь для политзаключенных. Что такое? Оказывается, бедную Сару Наумовну заподозрили в очень нехорошем обстоятельстве, а именно, что она — близкая родственница оппозиционера и самого главного троцкиста Льва Борисовича Троцкого, чья настоящая фамилия, как выяснилось, была Бронштейн. А к этой Саре Наумовне Троцкий вообще никакого отношения не имел! Тем более, к тому времени бедный Лев Давидович, скрывавшийся от Иосифа Виссарионовича то ли в Мексике, то ли в Бразилии, был уже, кажется, по заданию нашего советского правительства убит человеком, который долгое время втирался к нему в доверие, приходил в гости, пил чай с вареньем, делал вид, что хочет поучиться у Льва Давидовича уму-разуму, почерпнуть его энциклопедических знаний. И такой он был вежливый, обаятельный, со всей открытой душой, что жутко недоверчивый Троцкий, подозревавший, кстати, о возможности покушения, совершенно утратил бдительность, и всем сердцем привязался к этому симпатичному юноше, прямо даже не знал — куда его посадить и чем угостить. А тот беседовал с ним — беседовал на разные философские темы, в один прекрасный день дождался удобного момента и стукнул своего уважаемого друга и учителя топориком по голове. Эхом того далекого мексиканского события стал арест нашей Сары Наумовны Бронштейн, невинной носительницы этой малопрестижной фамилии. И на таком пустом деле ей вкатали солидный срок! Впрочем, речь пойдет не о бедной Саре и не о Троцком Льве, а о дочери Сары Наумовны тете Свете, которая тогда была никакой не тетей, а юной девушкой, лишившейся в одночасье и мамы, и светлого будущего, поскольку теперь у нее появился статус дочери врага народа. А надо вам сказать, несмотря на свою несчастную судьбу, эта тетя Света в молодости была великой любительницей хорошей шутки и остроумного анекдота и благодаря веселому характеру привлекла к себе внимание одного очень вдумчивого студента из Института международных отношений, который учился на дипломата. Естественно, тетя Света смертельно влюбилась в этого будущего представителя нашей страны за рубежом, а чтоб их любовь с каждым днем становилась все более крепкой и нерушимой, она с ним как встретится — давай сыпать анекдотами на самую разнообразную тематику. Они даже собирались пожениться, и вдруг ее арестовали. Была такая статья в Уголовном кодексе: «За клевету на Советскую власть». Тетю Свету спросили: — Вы рассказывали этот анекдот?.. Наученная горьким опытом, она ответила твердо: — Ни боже мой! Я его впервые слышу. И даже удивляюсь, как у вас только язык поворачивается произносить такие слова о мудрых руководителях нашего советского государства. Тут дверь открывается, входит ее возлюбленный и говорит — так нежно, с некоторым укором: — Света, как же так? Ну, помнишь, мы стояли на площади Маяковского, еще троллейбус долго не шел, и ты мне его рассказала?.. Студента увели, он стал дальше учиться на дипломата, посланца Советской страны, а нашу тетю Свету посадили. Вот так они очень долго сидели — Света и Сара Наумовна, и ничего друг про друга не знали. Потом их обеих реабилитировали. Сара Наумовна вскоре умерла, ее похоронили на Новодевичьем кладбище в стене верных ленинцев. А тетя Света уже была не та, что раньше. Она часто болела, почти ни с кем не общалась и много-много лет жила одиноко в том подмосковном доме, откуда их обеих увезли, а дверь опечатали. И вдруг однажды она дала объявление в газету знакомств и брачных объявлений. Мол, так и так, ищу спутника жизни, немолодая, но миловидная, люблю хорошую шутку и остроумный анекдот. И ей откликнулся — «интеллигентный, с голубыми глазами, бывший морской офицер, капитан первого ранга, сейчас на пенсии, звать Николай Михайлович Орешкин». Они встретились. Орешкин показывал фотографии своей молодости, где он с другими офицерами стоит на палубе — у всех такие серьезные лица с налетом вечности, какие бывают на черно-белых групповых фотографиях, за бортом океан, в облаках — чайки. Крики замерших в небе чаек снова пробудили в душе тети Светы надежду на простое человеческое счастье. Ей понравилась великая доблесть этого хотя и немолодого, но еще не дряхлого Орешкина, проявленная во время боев с немецко-фашистскими захватчиками на Черном море, и его душевная щедрость — в первую встречу он принес ей шампанское, торт и цветы. Короче, они поженились. Тетя Света души в нем не чаяла, пылинки сдувала. Но вдруг у него обнаружился бзик. К громадному огорчению тети Светы, он постоянно накапливал крупу, макароны и спички на черную старость, хотя они оба получали приличные персональные пенсии: невинно пострадавшего в годы сталинских репрессий и ветерана Отечественной войны. Увы, этот психически неуравновешенный капитан и на свою пенсию и на ее — с горящими глазами бежал в сельмаг и накупал крупы с макаронами. Ни в театр, ни в музей, ни на речном трамвайчике вдвоем — о чем она мечтала, ни осенью в лес — пошуршать опавшими листьями, ни зимой на лыжах — хотя бы раз в сезон! — ни боже мой. Николай Михайлович Орешкин оказался полный псих, и ничего уже с этим нельзя было поделать. Крупами со спичками он завалил кухонный шкаф, забил бельевой, платяной, стал прятать пакеты с коробками за плиту и на антресоли, по всем углам в комнате уже стояли крупы: рис, гречка, пшено, крупа «Артек», в общем, своими стратегическими запасами он заполонил всю квартиру. Бедная тетя Света Бронштейн с ужасом наблюдала за тем, как сужается жизненное пространство и что собой представляет ее избранник. Все ей советовали выгнать к чертовой матери эту образину, палача невинных младенцев и пугало кротких голубиц. Нет, она не выгоняла, даже не упрекала капитана — видно, до последнего надеялась наладить свою препечальную жизнь. Когда же во всем ее отчем доме от макарон, крупы и спичек остался один свободный пятачок, она села на пол, скрестив ноги, сложила молитвенно руки на груди и, просидев так недели три с половиной, тихо, бесшумно и с христианским смирением ушла в нирвану. При этом весь Поселок Старых Большевиков наполнился необычайным благоуханием цветущих орхидей, аромат ощущался несколько дней, в течение которых ее тело — в сидячем положении с прямой спиной — казалось живым. Но капитан Орешкин, ненаблюдательный морской офицер, не сразу заметил отсутствие жены. Только через месяц, когда почтальон принес им пенсию, он стал ее звать, искать и наконец в лабиринте пакетов и коробок наткнулся на ее тело, сидящее в глубоком покое и умиротворенности. Тогда этот полупочтенный Николай Михайлович вернулся к почтальону и сказал: — Светлана Ильинична плохо себя чувствует, вон она сидит, видите? У ней с головой не в порядке. Я за нее распишусь, а деньги передам, когда она очухается! Так было один раз, второй, даже третий. А на четвертый раз почтальон что-то заподозрил неладное. В поселке поползли ужасные слухи, приехал врач, констатировал остановку дыхания и сердцебиения. А тетя Света Бронштейн, считай, полгода сидит как живая с блаженной улыбкой на устах — и никакого запаха тлена. Наехали телевизионщики, потом набежали корреспонденты журналов и газет, раздули сенсацию, это просочилось в зарубежную прессу, такая поднялась не нужная Николаю Михайловичу шумиха! И тут же в почтовом ящике Орешкин обнаружил повестку в суд за то, что он четыре месяца незаконно присваивал пенсию тети Светы в то время, как она больше не нуждалась в денежном вспомоществовании. В общем, когда ему в дверь позвонили, он понял: за ним пришли, и не дождаться ему своей черной старости, которую он изо дня в день маниакально пытался обеспечить макаронами. Уныло поплелся Орешкин открывать дверь и окаменел: на пороге стоял незнакомый индус в чалме. — Здравствуйте, Николай Михайлович, — произнес он, немного грассируя. — Меня зовут Свами Бодхидхарма. Примите мои извинения, но ответьте мне ради всего святого: здесь ли на протяжении нескольких месяцев находится нетленное тело вашей жены Светланы Ильиничны Бронштейн? — А что вам за дело до тела моей жены? — спросил удивленный капитан. — Я прибыл из Индии с тайной миссией, — сказал Бодхидхарма, — о которой сообщу Вам во всех подробностях, как только мы войдем в дом и окажемся наедине. С огромным подозрением Николай Михайлович смерил взглядом индийского гостя от чалмы до пят. Но не нашел ничего такого, чтобы иметь основание хлопнуть дверью перед его носом. Напротив, этот индус отличался столь небывалой учтивостью и обходительностью, какую редко встретишь в нашей среднерусской полосе, особенно когда тебя начнут таскать по судам да каждый день наведывается участковый. — Что ж, проходите, — сказал Орешкин. Тут юркий индус стремительно проскользнул в дом и, ловко лавируя между пакетами и коробками, пробрался к телу Светланы Ильиничны. — Ну, так и есть! — воскликнул он. — Это ОНА!!! И стал возжигать благовонные палочки, совершая бессчетное количество поклонов. — Вы мне пожар устроите! — забеспокоился капитан Орешкин. — У меня тут коробки со спичками. — Мой дорогой друг! — ликующе и торжественно произнес Бодхидхарма. — Сейчас я вам все объясню. Дело в том, что ваша жена Светлана Ильинична Бронштейн — это земное воплощение богини Дэви. — Какой богини? Что вы городите?!! — удивился Орешкин. — Дэви — богиня любви! — сказал Бодхидхарма. — Символ женственности, животворящее лоно! Это супруга Шивы, владыки миров и Бога богов… — Выходит, что я — воплощение Шивы? — спросил ошарашенный Николай Михайлович. — Ой, нет, — рассмеялся Бодхидхарма. — Вы капитан Орешкин, что само по себе совсем неплохо. Однако, оказавшись в вашем мире, она всю жизнь ждала своего потерянного в мирах возлюбленного — светозарного Шиву. Она могла не помнить этого, — продолжал индус, — но подспудно в каждом мужчине, которого любила (вас таких было двое), она искала подлинную сущность Шивы, то есть наполненную чудесами Вселенную. А ей, как назло, вместо божественного супруга попались два очень суетливых мирских существа: один стукач, а другой … — он сделал паузу и окинул пронзительным взором горы круп и макарон, — вы извините меня, — скопидом! — Если вы приехали сюда из далекой Индии осыпать меня оскорблениями, — вспыхнул капитан Орешкин, — то я вас быстро вышвырну за дверь. А вашей богине Дэви на завтра назначена кремация с последующим захоронением в Стене Старых Большевиков на Новодевичьем кладбище в нише у ее репрессированной мамы Сары Наумовны Бронштейн, которую и так подозревали в родстве с Троцким. Могу себе представить, что бы было, если бы на Лубянке узнали про эту любовную связь с Шивой! — Не надо Стены Коммунаров! — взмолился Бодхидхарма. — Отдайте ее тело мне! Я вам хорошо заплачу. — Это другой разговор, — смягчился Николай Михайлович. — Я только не могу понять, зачем вам ее тело? — Смотрите, вот изображенье Шивы, — индус протянул Орешкину портрет, там был нарисован какой-то странный субъект — наполовину мужчина, наполовину женщина. — Знаем мы таких, — неодобрительно заметил бывший капитан первого ранга в отставке. — Поймите меня правильно, — сказал индус набычившемуся Николаю Михайловичу. — Это Шива и Дэви. Богиня Дэви не просто его жена. Она — другая половина Шивы. Если двое любят друг друга — то чем они глубже входят в это, тем меньше и меньше они остаются двумя, тем больше и больше они становятся единым целым. И приходит момент, — так говорил Бодхидхарма Орешкину, — когда достигается вершина, и только кажется, что их двое. Границы двойственности преодолены. …Внимательно следите, Николай Михайлович, за моей мыслью: тела их различны, но нечто за пределами тел сливается. И это единственная реальность нашего жизненного опыта, которая приближает нас к Богу... …В течение многих веков мы не делали никаких скульптурных изображений Шивы. Мы только изготавливали фаллические символы — шивалинги. Но настал Темный век, Николай Михайлович, и людям непонятен язык бесформенных вещей. Сейчас необходимо простое и четкое изображение, открывающее Путь к познанию сокровенной мудрости. А если люди увидят тело Шивы и тело Дэви, то встреча этих великих возлюбленных в Темном веке имен и форм соединит в умах живых существ инь и ян — женское и мужское начала, вернет сознанию человечества утерянную Вселенскую гармонию и послужит пробуждению Истины в душе каждого живого существа. — Я с ума сойду! — сказал капитан Орешкин. — Давайте ближе к делу. — К делу подошли вплотную, — сказал Бодхидхарма. — В Индии на горе Кайлаш в пещере Агни Парамешвара до сих пор телесно присутствуя, сидит в безмятежной позе Шива — Бог богов и Владыка миров. Прямо над этой пещерой воздвигнут храм. Тело Шивы туда будет скоро доставлено. Но не хватало земного воплощения Дэви. А куда Шива без своей Дэви? Ему и поклоняться никто не станет. Даже не признают без нее, скажут, самозванец какой-то. Вот мы и ждали, вдруг она объявится? И точно. В «Дэйли-телеграф» читаем про этот ваш случай. Спрашиваем у астрологов, у предсказателей: «Да! — все они в один голос. — Это ОНА!». Ну, и фотография — правда, плохо видно — перепечатка из русской прессы. Но никаких сомнений: Светлана Ильинична Бронштейн — земное воплощение богини Дэви. Свами Бодхидхарма взял свой холщовый мешок и начал его развязывать: — Вот, — сказал он, — индусы собрали пожертвования на это предприятие — рубины, изумруды, алмазы. И командировали меня к вам в Советскую Россию. Надеюсь, мы сможем договориться. — Что ж, — ответил Николай Михайлович с тем знаменитым чувством собственного достоинства, которым всегда был славен гражданин Страны Советов, когда он вступал в подобные разговоры с богатыми иностранными туристами. — Конечно, ни за какие коврижки не отдал бы я никому свою дорогую Светлану Ильиничну. Но раз у вас так разработана вся философская подоплека, — поспешно добавил он, — ладно, берите ее у меня, а мне гоните поскорее ваши рубины, алмазы и изумруды. Тут под окно капитана Орешкина подъехала «газель», оттуда вышли два коренастых индуса с носилками. Они осторожно вынесли Свету Бронштейн из отчего дома и погрузили в машину. Когда ее увозили, весь поселок Старых Большевиков повысыпал из своих домов, и все очень удивлялись, как наша тетя Света хорошо сохранилась! Она была снова юной девушкой, золотистый свет окружал ее, а с неба падали лепестки календулы и пионов. Один капитан Орешкин по-прежнему не обращал на нее никакого внимания. Он схватил деньги, драгоценные камни и побежал покупать крупы, спички и макароны. Старожилы рассказывают, что, когда он всего этого накупил под завязку, а сам сел посредине, довольный, что черная старость его теперь голыми руками не возьмет, сотни килограммов риса, гречки, пшена и крупы «Артек» внезапно обрушились на его голову. Больше об отставном капитане Орешкине никто ничего не слышал, в то время как тетя Света сидит с Богом Шивой в глубокой нирване на священной горе Кайлаш, способствуя пробуждению Истины и Вселенской гармонии в наших заскорузлых сердцах. 33. В поселке, серьезно пострадавшем от сталинских репрессий, Степан Гудков опекал всех вдов репрессированных. Всем доставал хлебные карточки, предоставлял и стол, и дом. Хотя в те стремные времена мало кто с ними знался, это было опасно. Матильда за всеми ухаживала, всем делала омолаживающий массаж по системе профессора Эриксона. В поселке Старых Большевиков она была жрицей вечной молодости. Матильда владела рецептом неувядающей красоты: она делала уколы из яйца. Причем яйца нужны были неоплодотворенные. Из них не должны были вылупиться птенцы. Эта курица, которая несла такие яйца, вообще не встречалась с петухом. Матильда была великая рукодельница. Шила, вышивала. Она любила вышивать болгарским крестом. Степан Степанович всегда ходил в вышитых рубашках. Из какой-нибудь драной кофты она могла вылепить шедевр! Но все это в свободное от работы время. Была война. Немцы подходили к Москве. Наши готовились поднять в небо защитные аэростаты. Сутками напролет Матильда шила чехлы на цеппелины. 34. Во время Великой Отечественной войны Степан работал на заводе. ЦАГИ — Центральный Авиационный институт в городе Жуковском. Тот самый, где когда-то его друг Ваня Поставнин сконструировал самолет «Максим Горький». Все годы, что дед служил на заводе, он обходился без пропуска. Любой дежурный на заводской проходной издалека видел: идет Степан Степанович, Степан Гудков — и этим все сказано. Однажды вахтер Кривошеев, старый заводской кадр, остановил Степана у проходной и сказал: — Степан Степанович! Мы тебя, конечно, знаем. Нам удостоверять твою личность не надо. Но время военное, сам должен понимать. Иди сфотографируйся на пропуск. Степан взглянул на вахтера Кривошеева. Голосом, подобным грому, он произнес: — Это относится к области преходящих явлений, Виктор Иванович, или к Вечной Реальности? — Неважно, — стоял на своем вахтер. — Порядок есть порядок. Без фотографии я тебя больше не пущу. — Ладно, — сказал Степан. — Я это сделаю только ради чувствующих существ, потерявшихся в своих заблуждениях. Он пошел в фотографию — там был пластиночный фотоаппарат на треножнике, сел перед объективом и состроил кошмарную рожу. Его сняли, и он приклеил эту фотографию на удостоверение. На заводской проходной прямо перед носом Виктора Ивановича Степан Гудков развернул удостоверение личности. Что-то ужасное смотрело на вахтера с обычной черно-белой фотокарточки: грозное божество, царь с лошадиной шеей, зубы торчат изо рта и сверкают, волосы дыбом, глаза широко раскрыты, глядят устрашающе, а в глазах этого чудовища полыхает Огонь Рудры. Виктор Иванович испытал страх, и ужас, и трепет. Он хотел убежать, но не мог покинуть пост. Поэтому он с силой захлопнул удостоверение Степана, чтоб никогда его больше не раскрывать. Но с этих пор стал относиться к Степану Степановичу еще более уважительно и благоговейно. Степан, со своей стороны, заметил, что Виктор Иванович после этого случая сделался уж совсем молчаливым и задумчивым. — Ты что такой невеселый? — спросил однажды Степан у вахтера. — Меня с малых лет терзают вопросы, — признался вахтер Кривошеев. — Какие, Виктор Иванович? — Вот, например, почему одни с хорошей фамилией — Алмазов или… Сталин. А ктонибудь другой — с нехорошей: как я — Кривошеев или мой сменщик — Данила Жопин? Потом, почему среди вахтеров, гардеробщиков и слесарей нет ни одного еврея, а среди главных инженеров их пруд пруди? Почему у Петра Григорьевича жена молодая и красивая, а у Николая Ильича — старая, угрюмая, сварливая карга? А я сам лично бобыль? И что бы было бы, если б я, Виктор Иванович Кривошеев, родился немцем? Тоже стал бы безжалостным фашистом? Или в подполье развернул бы антифашистскую борьбу? — Эх, не о том ты думаешь! — сказал Степан.— Не те себе вопросы задаешь. — Вот тебе на! — удивился Виктор Иванович. — Понимаешь, — сказал Степан, — есть такие бессмысленные вопросы, что, даже получив на них ответ, человек ни на миллиметр не приблизится к Истине. Ломать над ними голову — только попусту время тратить. А есть вопросы, Виктор Иванович, которые как стрела, пущенная из лука, сами ведут тебя к пониманию тайны жизни, хочешь ты этого или не хочешь. — А что это за вопросы? — заинтересовался вахтер. — Ну, вот тебе хороший вопрос, — сказал Степан Степанович. — Очень важный и нужный: «В чем смысл прибытия Бодхидхармы в Китай?». 35. Две с половиной недели думал вахтер Кривошеев над этим вопросом. Думал постоянно, когда шел на работу, когда ел и пил, даже когда он спал, этот вопрос пульсировал у него в голове, не давая покоя. Особенно Виктор Иванович погружался в него на вахте, во время рабочего дня, этот вопрос вытеснил все остальные вопросы. Виктор Иванович был как в тумане, он отвечал невпопад, вообще не заглядывал в удостоверения, и если бы о его состоянии узнала разведка Абвер, то на секретный авиазавод в Жуковский нагрянули бы десятки, а может быть, и сотни немецких шпионов и выведали все тайны и секреты нашей авиационной промышленности. Да если бы сам Гитлер неожиданно пожаловал, Виктор Иванович его бы равнодушно пропустил на авиазавод, хотя он знал Адольфа Гитлера в лицо по рисункам Кукрыниксов. На исходе третьей недели, когда Степан Степанович возвращался с завода, он обнаружил на проходной вахтера Кривошеева в полном и абсолютном смятении. — Я три недели, — воскликнул несчастный вахтер, — бьюсь над вопросом, который ты мне, Степан Степанович, задал, и не могу найти ответа. Ради всего святого, ответь мне: «В чем смысл прибытия Бодхидхармы в Китай?». — Ответ такой: никакого смысла! — бросил мимоходом Степан и поспешил на последнюю электричку. 36. Когда ранним утром Степан пришел на завод, Виктор Иванович Кривошеев был уже другим человеком. Все его взгляды на мир полностью переменились. Он поклонился Степану Степановичу и сказал, что намерен удалиться в леса или горы, не теряя ни минуты. — Хочется побыть одному, — он сказал, — посидеть на природе без всякого дела. Но Степан ему посоветовал оставаться на проходной. — Время военное, Виктор Иванович, завод секретный. Не уходи, а то найдут и расстреляют. Зачем тебе это надо? А заводская проходная — идеальное место, где посредством созерцания можно освободиться от рождений и смертей и обрести силы для преображения этого мира в царство будды. С этими словами Степан Степанович раскрыл серебряный портсигар, подаренный ему лично председателем Президиума Верховного Совета, членом Политбюро ЦК товарищем Калининым, и угостил Виктора Ивановича Кривошеева папиросой «Герцеговина флор». 37. У Степана Степановича Гудкова все фотографии, какую ни возьми, носили несерьезный характер. Особенно одна — он там уже в зрелом возрасте сидит у окошка в платке, по-бабьи подперев голову рукою. Но речь тут пойдет не о нем, а о девице Луше по фамилии Беленькая, домработнице из деревни. Она жила у Матильды со Степаном и помогала Матильде по хозяйству. Когда началась война, Степан Степанович устроил ее посудомойкой в их заводскую столовую, чтобы Луше доставались хлебные карточки. Жила она по-прежнему у них в доме в поселке Старых Большевиков и переписывалась с фронтовым солдатом Пашей. Луша с Пашей переписывались четыре года, и такое между ними все это время царило взаимопонимание, что уже между строк Пашиных писем отчетливо проглядывало: «…а когда мы покончим с фашистской чумой и я вернусь с фронта, мы обязательно встретимся и заживем иной счастливой жизнью…», чуть ли он уже не писал ей: с тобой, моя милая Луша! Он только настойчиво в каждом письме просил прислать фотографию, ведь они никогда не виделись. Луша все собиралась пойти в фотоателье, да ей было здорово некогда. В один прекрасный день Степан Степанович увидел на столе готовое письмо к Паше, еще не запечатанное, взял и вложил туда свою фотографию, где он в зрелом возрасте в бабьем платке, глядит из окна, подперев кулаком щеку. Ждет-ждет Луша писем с фронта, то Паша часто писал, а тут ни ответа ни привета. «Погиб, наверное», — решила она, и давай о нем горевать, всячески печалиться и оплакивать Пашу с большим размахом. Тут Степан Степанович признался, что он послал ее Паше свою фотографию. Я уже говорила, дед не был красавцем в том смысле, в каком понимают красоту мирские люди, скорее, наоборот, тем более, на этой фотографии ему было хорошо за пятьдесят. Словом, Луша обиделась, разозлилась, разревелась, прямо скажем, она погрузилась в пучину ужасных душевных страданий. — Зачем вы послали ему не мое лицо? — вскричала она в великом гневе. — А где твое лицо? — внезапно спросил Степан. — Где твое истинное лицо, Лукерья, которое было у тебя ДО твоего рождения?!! Этот странный вопрос поставил Лушу в тупик. Больше того, он ее настолько впечатлил, что она застыла, как загипнотизированная. А Степан Степанович Гудков пошел с Матильдой к соседке тете Пане Вишняковой. Вечерами они там собирались, играли в преферанс и выпивали до трех утра. 38. Однажды после войны, ближе к осени, где-то в конце августа или в начале сентября в дом Степана и Матильды кто-то позвонил. Дверь открыла Матильда Ивановна. На пороге стоял солдат в гимнастерке и хромовых сапогах с вещмешком на плече и очень крепко скрученной шинелью. — Здесь живет Луша Беленькая? — спрашивает он и показывает Матильде хорошо ей знакомую фотографию Степы в платке. — Тут, — сказала Матильда и впустила солдата в дом. Она сразу догадалась, что это Паша-солдат вернулся с фронта, но прямо не верила своим глазам. Она так ругала Степана за эту выходку. — Если бы мне, — она говорила, — ты, Степа, до личного знакомства прислал свою фотографию, даже серьезную, без платка, я бы ответила, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Матильда усадила Пашу за стол, накормила обедом, он чаю попил и спрашивает: — Как думаете, она меня простит? Я так виноват перед Лушей. Мы с ней переписывались почти всю войну. Она мне писала: «Павел! Бей фашистскую сволочь! А сам береги себя, ради меня. Что бы с тобой ни стряслось, знай, я жду тебя верно. Приезжай к нам в поселок Старых Большевиков. Будем вместе работать в Жуковском на авиазаводе!..». И до того, Матильда Ивановна, меня грели эти письма! — воскликнул Паша. — Так поддерживали в трудную минуту! Что я стремился к вам сюда и душой и телом. …И тут Луша прислала свою фотографию, — Паша тяжело вздохнул. — Налить еще чаю? — понимающе спросила Матильда Ивановна. — Да! — ответил Паша. Он пил чай, кружка за кружкой, вспотел, раскраснелся и все рассказывал взволнованно Матильде — как на духу — да! первая мысль была затаиться, не отвечать на письма Луши, как будто он пал на полях сражений, погиб смертью героя. Но вот прошло некоторое время, и в нем заговорила совесть. Не то слово «заговорила», она его поедом ела. Ведь Луша не виновата, что такой уродилась. Но Лушины глаза — они буравили Пашу, всего пробуравили насквозь, сильнее всяких слов звали в поселок Старых Большевиков по Казанской железной дороге. Тогда он решил: покончу с фашистской гидрой, и если останусь в живых — то просто приеду и все. Вернусь к ней с войны. В конце концов, как говорится, с лица воду не пить, а Луша — золотой души человек, насколько Паша вообще разбирается в женщинах. На этой жизнеутверждающей ноте с завода вернулся мой дедушка Степан и прямо с порога кричит хриплым басом: — Матильда! Кто к нам пожаловал? Степан заходит на кухню, Паша видит — а это Луша, но без платка, с огненно-рыжим бобриком над ушами и конопатой плешью. — Так вы мужчина!!! — вскричал тут Паша ужасным голосом. Матильда: — Степа! Это Паша-солдат вернулся к нам с фронта. — Да ну?!! — Степан Степанович внимательно поглядел на солдата, потом на свою фотокарточку в платке, пронесенную по всем фронтам до Берлина… и как захохочет! — Ха-хаха! Ха-ха-ха-ха-ха!!! Паша вскочил, весь объятый пламенем, глаза горят. — Значит, все это просто шутка?! — в ярости и отчаянии воскликнул он. — Мы там за вас кровь проливали, а вы?!. — кричит. — Вы!.. Вы!.. Степан глядит на его лицо, внимательно, неотрывно, и видит, что все погибли у него. Ни родни не осталось, ни дома. После того, что он пережил на войне, ему даже некуда податься. Все было истреблено неясными стихиями. Сюда он ехал с последней надеждой на счастье. Но люди обманули и предали его. Короче, Степан Гудков ясно понял, что этот парень является потенциально великой личностью дзен, полностью созревшей для внезапного просветления. Именно Паше-солдату он сможет сейчас передать свое Учение, которое передавали из поколения в поколение сменявшие друг друга патриархи от самого Бодхидхармы. — Смотри! — приказал он Паше-солдату, ударив себя в грудь кулаком. Смотрит Павел, а перед ним стоит его мать. Такая добрая, ласковая. Она обнимает его, гладит ладонью по стриженой голове, он чуть не расплакался. И вдруг — раз! Мама превратилась в отца. Тот брови сдвинул. Глаза из-подо лба глядят на Пашу, как будто говорят: «Ты, Пашка, не балуйся, а то получишь затрещину!». Зато его отец превратился в немца, которого Павел убил в рукопашном бою, штыком заколол. А в мертвом немце, к своему удивлению, Паша узнает живую тетку Васену, да не одну, а с козой! Дальше тетка развеялась, как дым, и превратилась в его товарища, тоже пехотинца, Никиту Лиходеева, погибшего под Ржевом. Еще Павел увидел Сталина, своих дедушку с бабушкой и напоследок — Владимира Ильича Ленина, которого он никогда до этого не видел, но сразу понял, что это он. Паша — бух! на колени. — Владимир Ильич! — он бормочет и руки протягивает. — Владимир Ильич!.. Но Ленин затуманился, подернулся розоватой дымкой, а когда туман рассеялся, вновь перед Пашей ясно и определенно возник Степан Степанович. Вся тьма вещей, те, кого Паша любил и ненавидел, невозвратимое и утраченное — всё было, как это ни странно, в одном лице Степана Гудкова. — Да кто же вы?!! — вскричал тут Павел, вообще не понимая, на каком свете он находится. — А ты-то кто? — спросил Степан, и тысячи громов разом громыхнули над Пашейсолдатом. Тут что-то замерло внутри у Паши, как будто он только что родился и ничего не понимал. Он стоял, пошатываясь, уже совсем обалдевший, и с напряженным вниманием всматривался в себя. Настала такая тишина, что даже яблоки за окном перестали падать с яблони. Матильда, которая хотела убрать со стола, почувствовала важность происходящего и оцепенела, подняв тарелки, чтоб как-нибудь случайно не звякнуть и не спугнуть момент. Паша-солдат уходил все дальше и дальше в себя, домой, в свою бессмертную сущность, туда, где нет тревог, нет страха смерти, ужаса войны, страстей, желаний и немыслимых надежд на мирную послевоенную жизнь. Он уходил, как рыба в глубину, к истоку своего бытия, к тому, что называют чудесным, неуловимым, вечно пребывающим и неизменным, он заглянул в самую суть существования — еще немного, он бы не вернулся, исчез в нирване, только бы его и видели. Но тут Степан Степанович с силой дернул Пашу-солдата за нос. Паша вскрикнул — и именно в этот момент обрел полное, абсолютное и окончательное просветление. — Да меня ведь нет!!! — сказал он радостно. — Конечно! — воскликнул Степан, ликующе хлопнув себя по ляжкам. — И меня тоже нет! И ее нет! — Ах! — облегченно вздохнула Матильда и с грохотом опустила тарелки в раковину. — Поэтому, — сказал Степан, — спокойно, Паша, созерцай поток меняющихся форм и твердо знай: ни одна из них не реальна. Степан обнял его, поздравил и сказал: — Ну, а теперь ступай. Трудись усердно и неси мое Учение в Сибирь и на Дальний Восток. И повсюду распространяй Истину об иллюзорности феноменального мира. Павел поклонился Степану Степановичу, простился с Матильдой Ивановной, взял вещмешок со скрученной шинелью и вышел на улицу. Был вечер, и уже сгустились сумерки. Кузнечики поют. Пахнет яблоками, травой, зажглись звезды в небе. Идет Паша — и весь светится. Видит, навстречу ему тоже движется некий светящийся объект. Это Луша помыла в столовой посуду и возвращалась домой. А дальше Степану с Матильдой приходит письмо: «Здравствуйте, дорогие Степан Степанович и Матильда Ивановна! Пишут вам Луша и Паша. В тот вечер мы встретились, сразу узнали друг друга, сами не помним, как очутились на станции Кратово, пригородной электричкой доехали до Москвы, а на вокзале смешались с толпой, сели на поезд в Сибирь и поехали на комсомольскую стройку в Актюбинск. Я теперь знатная плиточница, Паша — в бригаде шофером. Мы живем в общежитии, нам дали комнату. А Ваша фотография, Степан Степанович, стоит у нас на комоде. К нам с Пашей часто приходят друзья и все всегда спрашивают: «Что это за баба в платке?». А Паша им отвечает: «Это наш с Лушей Учитель, известный просветитель и мастер дзен». И обращает тут всех без разбору в буддийскую веру. С приветом, Луша». И маленькая приписка в конце — от Паши: «Тут очень много морошки!». 39. Степан прожил долго и до старости отличался завидным здоровьем, хотя выпивал. Матильда его за это ругала, а в день получки встречала у проходной и отбирала всю зарплату. Но Степан Степанович заначивал. Причем по двум направлениям. Втайне от Матильды он припрятывал дома деньги и спиртное. И в этом деле проявлял исключительную изобретательность и виртуозность. Матильда в ответ развивала мудрую интуицию, перед которой меркло хитроумие Степана. Куда бы он ни спрятал поллитру, даже четвертинку, как бы ни замаскировал — хоть в печь, хоть в печную трубу, и в подпол, и на чердак, и в сарай, и в темный уголок за буфетом — повсюду она отыскивала ее и ставила на стол, когда приходили гости. Припрятанные Степаном деньги найти было труднее: бумажные денежные знаки он, например, раскладывал между страниц Большой Советской Энциклопедии в пятидесяти томах. Он клал деньги в наволочку от своей подушки, рассовывал в башмаки под стельки, хранил в пакетах с мукой, сахаром или крупой, закапывал в огороде в железной кружке с крышкой!.. Матильда Ивановна искала и находила, звала гостей и закатывала пир. Однажды Матильда никак не могла отыскать заветный тайник. В великом нетерпении ходила она по комнате, заглядывая туда-сюда, шарила по карманам его пиджака и брюк, воскресного пальто, садовой телогрейки, разворошила постель, взглянула под матрац, полезла под кровать… Вдруг Степан возвращается с работы и застает вышеописанную картину. — Матильда! — строго сказал он. — Из-за дурной кармы, накопленной тобой в прошлых перерождениях, имеется препятствие, которое не позволяет тебе отыскать мою заначку. Поэтому тебе следует успокоиться и перестать хлопотать. — Все равно найду! — сказала Матильда. Она села в кресло, вздохнула глубоко, закрыла глаза и погрузилась в молчание, очищая свой дух. Так она сидела, прислушиваясь к собственному сердцу, отрешаясь от всех возникающих мыслей, успокаиваясь и входя в согласие с тем, что называют чудесной, неуловимой, вечно пребывающей окончательной реальностью и свободным путем вещей. После длительного молчания она произнесла одно только слово: — Будда. — Да, — сказал расстроенный Степан и посмотрел на медную статуэтку пузатого хохочущего Хотея, японского Будды, который стоял у них на телевизоре. Она была полая внутри и Степан Степанович неделю назад засунул туда деньги. Матильда встала с кресла, подошла к телевизору и вытряхнула из хохочущего Хотея Степину заначку. Степан Степанович сделал паузу и сказал: — Теперь ты видишь, Матильда, как созерцание своей собственной сущности может привести к постижению истинного содержимого не только людей, но и богов. 40. Однажды Матильда снова принялась искать деньги Степана. Она перекопала весь огород, вверх дном перевернула квартиру. И наконец, потеряв терпение, схватила смеющегося Хотея и стала его трясти в надежде, что Степан опять сунул туда свою заначку. — Сразу видно, Матильда, — сказал Степан, — что ты еще не постигла великого смысла. Сколько раз тебе можно повторять: всё, что имеет форму, — он отобрал у нее Будду и поставил его обратно на телевизор, — нереально и обманчиво. Ты больше, Матильда, чем это тело и ум, ты охватываешь собою Вселенную, а всё тебе, дуре, кажется, что чего-то не хватает. Внутри тебя заключены мириады миров, а ты рыскаешь и вынюхиваешь мои скромные заначки. Сразу видно, что ты Матрена, а никакая не Матильда. Эти его слова поколебали тысячелетнее невежество Матильды Ивановны, и она воскликнула в великом волнении: — Клянусь успешно завершить Путь Будды, сколь бы непревзойденным он ни был! Только прошу тебя, Степан, из сострадания ко мне сказать, куда ты спрятал заначку на этот раз? Степан Степанович молча задрал майку — рыжий, волосатый, конопатый, хромой, он ходил по дому в белой майке, в черных семейных трусах по колено — и показал, что деньги были закручены в резинку от трусов. В этот миг Матильда обрела окончательное просветление, избавилась от ложных взглядов и никогда больше не допускала неправильного функционирования своего сознания. 41. У моей бабушки, первой жены Степана, Фаины был кот. Звали его Пушок. У кота были пышные бакенбарды, зеленые глаза, по спине шла черная полоса, хвост, как у енота. Его отдал Фаине один специалист по коже Александр Сергеевич (он шил хромовые сапоги), потому что жена Александра Сергеевича Лариса Михайловна, женщина тонкая, интеллигентная, окончившая в свое время Смольный, не могла слышать, как этот кот истошно вопит по ночам. У него была тьма дурных привычек и хамские замашки: он кусался, царапался, рвал занавески, когтил мебель. Над столом у Фаины свисал шелковый китайский абажур, так этот кот вцеплялся в абажур и раскачивался на нем с душераздирающими воплями, пока не превратил его в лохмотья. Но он был не просто хам и жлоб. Этот Пушок был отъявленный ворюга. Фаина его хорошо кормила. У него в ванной комнате стояло блюдечко с молоком и блюдечко с колбасой. Она ему мясо давала и котлеты. Он ничего этого не хотел. Но если хлеб на столе оставишь — он этот хлеб хватал, и отобрать было невозможно. Он урчал, рычал и кровожадно разрывал батон на куски. А если Пушок попадал между оконными рамами, где мои предки хранили продукты зимой, его уже никто не ругал, а ругали того, кто оставил окно открытым, поскольку все знали, какой он законченный и неисправимый вор. Однажды к Фаине пришел Степан. Он долго сидел и наблюдал, как это исчадие ада крушит все вокруг себя и сеет ростки зла. — Дай, я у тебя его заберу, — сказал он наконец. — Матильда все уши прожужжала, что хочет кошечку. — Боюсь, это не та кошечка, которая ее порадует, — ответила Фаина. — Та! — сказал Степан, сгреб кота, запихнул его в сумку и унес. Дома он посадил его перед собой и подробно объяснил правила поведения в своем доме. А также научил Пушка произносить имя Будды, правда, по-китайски, так, ему казалось, легче коту: «Фо! Фо! Фо!», что по-китайски значит «Будда». В благоговейном молчании выслушал Пушок прочитанную лично для него в присутствии Матильды и тети Пани Вишняковой «Алмазную сутру». А по окончании, ко всеобщему изумлению, четыре раза воззвал к Амитабхе и Авалокитешваре Боддхисаттве: — Фо! Фо! Фо! Фо! Степан был очень доволен. Он отметил выдающиеся способности этого кота к дзен, предсказал ему феерическое перерождение в будущей жизни, а также привел Пушка в пример Матильде и тете Пане. — Хоть он и кот, — сказал Степан, — заметьте, как он мгновенно проникся буддизмом. Так можем ли мы, люди, себе позволить быть ниже кота? Весь вечер Пушок просидел на диване, почтительно повторяя имя Будды, ночь тоже прошла спокойно, а утром все проснулись от нестерпимой вони. Повсюду были лужи и кучи, «Алмазная сутра», изодранная, валялась на полу, а сам Пушок сидел на кухне между оконными рамами и доедал копченую колбасу. Степан встал посреди комнаты, мрачно оглядел метки просветленного кота, почтительно сложил клочья «Алмазной сутры» в мусорную корзину, и в его голове родилось вот какое стихотворение: Мы сегодня славно поспали, Вьюга шумела за окном. Где-то кошки насрали, Пахнет кошачьим говном. Кот пожил у них еще немного старой бандитской жизнью, только теперь к месту и не к месту на разные лады повторяя святое имя Будды, как-то раз выпрыгнул в форточку и не вернулся. Наверно, его кто-нибудь взял к себе, потому что он был ужасный красавец. 42. Матильда любила гостей. Кто бы ни пришел — бродяга, цыгане, вечные странники, какой-нибудь дяденька бутылки собирает — зайдет, Матильда всегда у всех спрашивала: — Вы есть хотите? И все ей всегда отвечали: — Хотим! Она говорила: — Садитесь. И накрывала стол: скатерть накрахмаленная, хрустальный графинчик с водкой, тарелки кузнецовские, купленные в комиссионном магазине, стол накрывался — идеально. Пироги доставались из духовки — четырехначиночные: один угол грибной, другой мясной, третий рыбный и четвертый овощной. Любой угол отрезай! Это все происходило в гостиной. Кофе она подавала на веранде. А в тот осенний ноябрьский вечер Степан своими руками раздвинул их знаменитый дубовый стол, вытащил из буфета тарелки, которые Степан Степанович в качестве почетного водолаза поднял с затонувшего корабля «Женя-Роза» в Новороссийской бухте. Судовладелец Иван Кочергин дал судну имя «Женя-Роза» — в честь жены и дочки. Сам корабль поднимали понтонами. Такие резиновые штуки громадные подсовывали под днище корабля, а потом надували. И он всплывал. Тарелки с «Жени-Розы» были очень тяжелые — специально, чтоб не падали со стола во время корабельной качки. И абсолютно белые. Единственным украшением с краешка служил маленький андреевский флаг. Восьмого ноября Степану Степановичу исполнилось восемьдесят восемь. Празднование этой даты решили соединить с годовщиной Октябрьской революции. На вечер пригласили гостей: аскета тетю Паню Вишнякову, блаженную Ксению Ивановну, святую тетю Шуру Поставнину, дважды рожденного Николая Михайловича Карпухина, а также чету Коган-Ясных, прославившуюся в поселке тем, что Семен Аркадьевич каким-то чудом вернулся из сталинских лагерей, где в общей сложности провел без права переписки двадцать четыре года по обвинению в безродном космополитизме. А его жена Эля на пятнадцатом году заключения Семена Аркадьевича достигла просветления, глядя на цветущую сливу в саду у тети Пани Вишняковой. Все было готово к торжественному приему, вдруг дед Степан себя плохо почувствовал. — Я, пожалуй, лягу, — он говорит. Степан лег. Матильда его прикрыла своим пальто. Он лежит, а Матильда ему говорит: — Степа! Не вздумай богу душу отдать. Мы так долго зазывали Коган-Ясных, я давно Ксению Ивановну не видела, Шурочку Поставнину… Будет очень неудобно, если они придут, а ты умер. — Будь спокойна, — сказал Степан Степанович. — И дай миру вершиться. — Нет, Степан, если что — я, конечно, скажу: не обращайте внимания! Пусть он тут лежит, ведь он никому не мешает? А если кому-то неприятно, то я могу его прикрыть простыней. Но все равно это будет неприлично. — Зачем вокруг такого пустяка поднимать столько шума? — с трудом уже проговорил Степан. — Войди в согласие с путем вещей. Матильда смотрит, у Степана Степановича на правой ладони проступили очертания планетарной системы с солнцем и луной посередине. Все звезды и планеты ярко сияли в его руке. Она раскрыла ему левую ладонь, а там трезубец — символ Шивы, эмблема Верховной Власти. — Степан! — заволновалась Матильда. — Ты что это, всерьез собрался помирать? Давай я отменю гостей и вызову «Скорую помощь»! — Ни в коем случае, — проговорил Степан. — Это апофеоз моего планетарного существования. Зачем стремиться отвратить неотвратимое? — Не покидай меня, Степан! — заплакала Матильда. — Глупая ты баба, — вздохнул он. — Кто плачет? О ком? — Я понимаю, — ответила Матильда. — А только слезы сами льются и льются из глаз. — Отсюда никому не выбраться живым, — собрав последние силы, произнес мой дед Степан. Он устремил взгляд в ясное пространство, затем сделал сильный выдох, и его сознание вошло в свет. Застывший профиль Степана, лежащего на кровати, укрытого осенним пальто Матильды, и плачущая Матильда, припавшая к его груди, — все это отразилось в их старинном трюмо из красного дерева, которое стоит сейчас у меня и отражает мое иллюзорное тело. Тем временем в дверь позвонили. Явились гости — с подарками и цветами. И хотя каждый из приглашенных обрел око истины и осознал единство изменяющегося и неизменного, старики, конечно, расстроились, потому что хотели все вместе выпить и поболтать о том о сем. Но когда они горестно окружили Степана, то увидели: он и теперь, как всегда, беспечален и чист, безмятежен и невзволнован, свободный от привязанности, разорвавший путы. Невооруженным глазом было заметно, что он вошел во Врата Бесконечности и уже странствует в беспредельных просторах, а это тело для него — последнее. Тут Николай Михайлович Карпухин, который в поселке Старых Большевиков на протяжении многих лет бессменно возглавлял поссовет, организовал небольшую панихиду. — Товарищи! — он сказал. — Наш поселок, давший стране большое количество просветленных мастеров дзен, потерял Патриарха. Все мы — друзья и соседи Степана Степановича, а также наш поссовет всегда считали и будем считать его символом Бесконечного Сострадания и Безграничного Света. — Он не искал ни славы, ни богатства, — отметил в своей речи Коган-Ясный, — но имел непоколебимую веру в Истину. Член партии с 1917 года, он стремился только уподобляться Буддам и всегда мог выбрать самый подходящий способ для освобождения страждущего существа, обманутого своими страстями и не способного самостоятельно достичь просветления. — Он призывал блуждающих людей Кали-юги освободить свой ум от бесполезных мелочей, — сказала тетя Паня Вишнякова. А жена Семена Аркадьевича Эля добавила: — Степа странствовал за пределами мирской пыли!.. Тетя Шура Поставнина в глубоком молчании сидела у его ног на полу. Последней выступила Матильда. Она сказала: — Он был высоким и стройным. Тело его было очень гармоничным, мягким, гибким и юным. У него были светло-голубые глаза. Приятный запах цикория распространялся всюду вокруг него. Он никогда не страдал ни от голода, ни от жажды, но ел, когда ему подносили пищу, пил, когда ему подносили воду. Хотя четвертинку он всегда покупал себе сам. Его экскременты, — добавила Матильда, — не давали никакого запаха и распадались очень быстро. Гости сели за стол. Матильда наполнила рюмки. В полном молчании они выпили, закусили. И Матильда запела свою коронную застольную песню. Степан любил, когда она ее пела: С времен давным-давно прошедших Сказанье иверской земли От наших предков знаменитых Одно мы слово сберегли: «Алаверды» — «Господь с тобою», Вот слова смысл, и с ним не раз Готовился отважно к бою Войной взволнованный Кавказ. И шли мы прямо, гордо, смело, Не ожидая череды, Хвала погибшим, а живущим — — ...Алаверды, Алаверды, — тихо подхватили тетя Паня Вишнякова, Ксения Ивановна, Семен Аркадьевич, Эля и Николай Михайлович Карпухин. Дальше они пели вместе: Нам каждый гость дается Богом Какой бы ни был он земли, Хотя бы в рубище убогом, Алаверды, Алаверды. Неугомонно ходит чаша, И вплоть до утренней зари С небес несется песня наша: «Алаверды, Алаверды!..». Все так увлеченно пели, так самозабвенно. Всем уж давно перевалило за восемьдесят. И никто не удивился тому, что Степан вдруг сел на кровати, спустил ноги в тапочки, пошел на кухню, попил заварки из носика чайника — он любил пить заварку из носика чайника. У него и отец так любил пить из носика — тоже Степан Степанович, и сын его — Степан Степанович — тоже заварку любил так пить. Потом он вернулся обратно, лег и, как утверждают хмельные участники того знаменательного застолья, — весь изошел сияющими радугами. 43. Как я узнала о смерти Матильды? Фаина по телефону в соседней комнате рассказывала сестре Аннушке: — Знаешь, Матильда умерла. Пошла встречать Новый год со своими пирогами к Пане Вишняковой. Мороз был — жуткий. Пурга, ветер ледяной, а у нее ведь сердце… Она взяла нитроглицерин, положила в карман платья. Посредине пути ее прихватило. Она попробовала достать лекарство, но далеко положила — не успела. Когда ее нашли, пироги были еще теплые. Этими пирогами ее и поминали. А она, ты помнишь? разные сюрпризы в пирогах запекала — кому попадется, тому будет счастье. Мне в куске пирога от Матильды досталась записка: Путник усталый! В тяжелых и долгих скитаньях Сядь на пенёк — съешь пирожок. С моей легкой руки Ты почувствуешь вкус Беззаботной жизни. 44. У Фаины было шикарное шерстяное платье — синее в белую крапинку. Она его редко надевала, шерсть грубоватая, оно кололось. Рачительная Фаина, у которой ничего не пропадало даром, говорила нам: — Я это шерстючее платье надену в гроб. У нее уже были наготове: платье, белье, косыночка, белые тапочки сложены в дубовом зеркальном шкафу и перевязаны алой атласной лентой. — Если не умру на зимний солнцеворот, буду жить дальше, — она говорила нам. — День прибавляется, близится весна… Только бы дожить до этого момента. Однажды она сказала мне: — Кажется, колокольчики звенят. — Я ничего не слышу, — говорю. — Значит, это у меня в ушах, — сказала Фаина. Она покинула свое тело двадцать первого декабря — в день зимнего солнцестояния. Мы сами с мамой надели на нее платье, надели косынку и вдруг обнаружили, что в ее свертке — одна только белая тапочка. Мы чуть с ума не сошли — искали. Мы перебрали все вещи в ее зеркальном шкафу. Просто не верили своим глазам. Фаина была чудовищно аккуратна! И как настоящий просветленный мастер, готовилась к смерти с самого рождения. Мы были изумлены. Мы снова и снова заглядывали под стопки выстиранных и выглаженных простыней и пододеяльников с вензелями Фаины, везде проверили, всюду, но белой тапочки не было нигде. Фаина лежала — сияющая, безмолвная, безмятежная. В конце концов она не выдержала и сказала: — Ну и балбески же вы! Тапочка в тапочке!.. Это были ее последние слова. 45. Вот вам россыпь историй про моих стариков. Повторяю, что это были люди выдающихся способностей, даже не люди, а переходные существа между человеком и богом, лишенные определенных внешних признаков, без корней, без истоков, без прибежища, без опоры, но они, полные жизни, зримые, подобные Луне, отражались в тысяче рек — во всей своей силе и чистоте. Теперь, когда эта история подошла к концу, хочу от всего своего собачьего сердца поблагодарить за помощь моего друга — мастера дзен Сергея Седова, а также шестого патриарха Хуэйнэна и учителя Сюй-юня по прозвищу Порожнее Облако. Пусть все существа достигнут освобождения! Москва, Орехово-Борисово, 13 октября 2000 года Годовщина нирваны Степана Степановича Гудкова Электронная версия данной книги создана исключительно для ознакомления только на локальном компьютере! Скачав файл, вы берёте на себя полную ответственность за его дальнейшее использование и распространение. Начиная загрузку, вы подтверждаете своё согласие с данными утверждениями! Реализация данной электронной книги в любых интернет-магазинах, и на CD (DVD) дисках с целью получения прибыли, незаконна и запрещена! По вопросам приобретения печатной или электронной версии данной книги обращайтесь непосредственно к законным издателям, их представителям, либо в соответствующие организации торговли! www.e-puzzle.ru