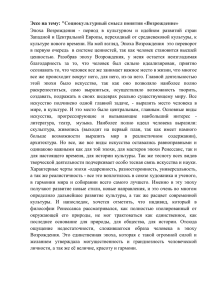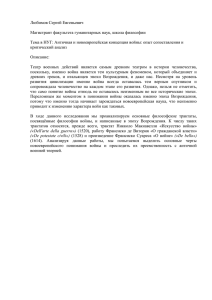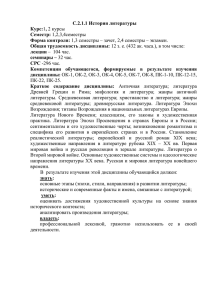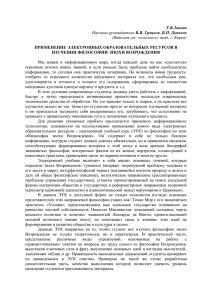(Kultura_Hrest.) - Кафедра Истории и Теории Культуры
реклама
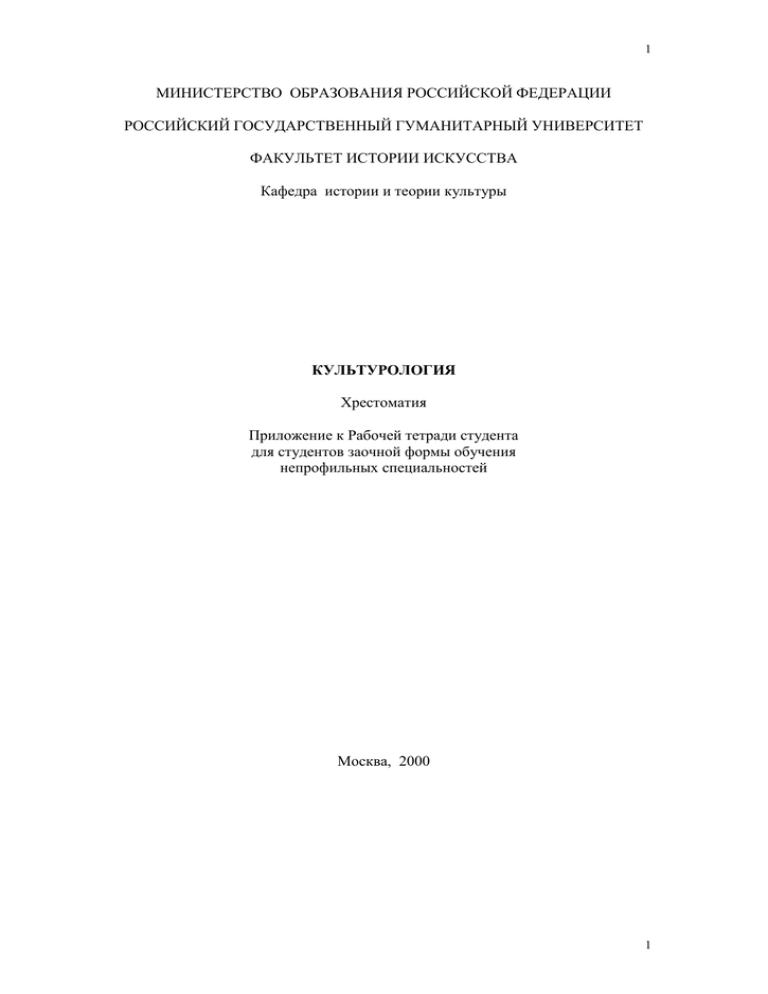
1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА Кафедра истории и теории культуры КУЛЬТУРОЛОГИЯ Хрестоматия Приложение к Рабочей тетради студента для студентов заочной формы обучения непрофильных специальностей Москва, 2000 1 2 КУЛЬТУРОЛОГИЯ Хрестоматия Приложение к Рабочей тетради студента для студентов заочной формы обучения непрофильных специальностей Составитель - к.геогр.н., доцент Волкова Э.Н. Российский государственный гуманитарный университет, 2000 2 3 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Хрестоматия составлена как приложение к Рабочей тетради студента по культурологии для студентов-заочников непрофильных специальностей, в соответствии с основными темами и заданиями РТС. Цель составления хрестоматии - помочь студентам, для которых доступность рекомендуемых источников и литературы может быть затруднена. Предлагаемые фрагменты из учебных пособий и монографий по культурологии выбраны таким образом, чтобы в совокупности составить цельный текст курса лекций, помогающий студентам ориентироваться в каждой из тем и отвечать на вопросы РТС. Кроме того, выбор текстов по каждой теме определялся стремлением представить их таким образом, чтобы положения каждого из авторов дополняли утверждения другого (или полемизировали с ними), давая возможность студентам сопоставить их и самостоятельно обдумать. Задача данной подборки текстов, кроме того, - привлечь внимание студентов к работам цитируемых авторов и вызвать желание познакомиться с их полными текстами, независимо от учебных заданий по курсу. 3 4 СОДЕРЖАНИЕ К теме № 1. Понятие о культуре. Э.В.Соколов. Культурология. М. 1994 (стр. 10-41). М.Бубер. Я и Ты. М.. 1993 (стр. 6-24) К теме № 2. Антропогенез и начало культуры. Б.Ф.Поршнев. О начале человеческой истории. М., 1974 (стр. 124-201, 352-459). К теме № 3. Архаические формы общения как первоосновы культуры. М. Элиаде. Священное и мирское. М.,1994 (стр.20-232). Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980 (стр.237-256). К теме № 4. Традиционные культуры Древнего Востока. М.К. Петров. Язык, знак, культура. М., 1991 (стр.21-128) Е.М. Мелетинский. Поэтика мифа. М., 1995 (стр. 163-171). Е.А. Торчинов. Религии мира. С.-Пб., 1997 (стр. 148-167). К теме № 5. Становление античной культуры: переход от мифа к логосу. М.К. Петров. Язык, знак, культура. М., 1991 (стр. 145-179). А.Ф. Лосев. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963 (стр. 50-135). Е.А. Торчинов. Религии мира. С.-Пб., 1997 (стр. 131-148). К теме № 6. Средневековая европейская культура. Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992 (стр. 910). С.С. Аверинцев. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью //Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976 (стр. 17-62). С.С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977 (стр. 10-29). А.Я.Гуревич. Категории средневековой культуры. М., 1972 (стр. 5-100). К теме № 7. Новоевропейская культура. Л.М. Баткин. Итальянское Возрождения: проблемы и люди. М., 1995 (стр. 25-92). Л.М. Косарева. Социокультурный генезис культуры Нового времени. М., 1989 (стр. 16-37). К теме № 8. Современные проблемы культуры. И.П. Ильин. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. М., 1998 (стр. 3-205). У. Эко. Когда на сцену выходит Другой // У. Эко. Пять эссе на темы этики. С.-Пб., 1998 (стр.6-14). К теме № 9. Место и роль России в истории мировой культуры. И.Г. Яковенко. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999 (стр. 6-222). И.В.Кондаков. Культура России. М., 1999 (стр. 196-202). Н. Бердяев. Психология русского народа //Н.Бердяев. Судьба России. М., 1990 (стр. 8-23). 4 5 К ТЕМЕ № 1. ПОНЯТИЕ О КУЛЬТУРЕ. Э.В. Соколов. Культурология. Очерки теорий культуры. М., 1994 (стр.1041) Слово “культура” (лат) происходит от глагола “коло”, что значит “возделывать почву”, “обрабатывать”. Отсюда - “агрикультура”, т.е. земледелие... Итак, первоначальный смысл слова культура - это возделывание, очеловечивание природы как среды обитания. Природа - естественное, культура - искусственное. Но, как это часто случается, исходное, узкое значение слова постепенно меняется, переходя в широкую языковую категорию. Сначала расширение термина выглядит как остроумная метафора, а позже становится привычным. Уже у Цицерона мы встречаем выражение: “философия есть культура души”. Подобно тому, как плуг, взрыхляя почву, готовит ее к посеву, философия возвышает и просветляет душу человека, делая ее восприимчивой к истине, добру и свету. Понятие культуры обогащается в процессе развития языка, философии, науки. В нем появляются все новые оттенки. В каждом национальном языке это понятие имеет свою специфику, обусловленную историей и образом жизни народа. Иногда понятие, принятое в одних языках, в других передается иными словами. Так, в России в многочисленных статьях на философские и исторические темы, опубликованных до середины Х1Х века, слова “культура” обнаружить не удается. Его сегодняшнее значение передавалось тогда словами “образованность”, “гуманность”, “просвещение”, “разум”, “воспитанность”... Раньше чем в других европейских языках слово “культура” в его современном значении утвердилось в Германии. В немецких книгах оно появляется уже в конце ХУШ столетия. Тогда оно имело два смысловых оттенка. Первый господство над природой с помощью знания и ремесел. Культура в этом случае рассматривалась как вечное, материальное достояние человека, а близкое ему по смыслу понятие “цивилизация” (от латинского “цивилист” - гражданский) ассоциировалось с социальными установлениями, правами и свободами, мягкостью нравов и вежливостью в обращении. Второй оттенок - духовное богатство личности - обозначалось чаще словом “билдунг” - образование. Кант называл культурой силу и дисциплинированность разума, достигаемые благодаря занятиям философией. Цивилизацию он понимал как совершенство, удобство общественных отношений. Гегель почти не употреблял понятие “культура”. Когда он говорил о культуре отдельного человека, он использовал понятие “билдунг”. Когда речь шла о развитии культуры в обществе, у него появилось понятие “объективного духа”, т.е. системы идей, воплощаемых в материальных и общественных формах. Культура способ жизни человека, продукт его творчества и необходимая среда обитания. Понять культуру нельзя, не поняв человека. Что есть человек? Какова его природа? ... Проблема человеческой природы и ее отношения к культуре ставилась уже в античности. В христианстве человек понимается как созданный по образу и подобию Божию, но склонный к греху и соблазнам. При этом он свободен выбирать между добром и злом. Христианское сознание открывает в человеке целый душевный материк, множество тончайших, переменчивых чувствований. 5 6 Проблема человека активно обсуждалась в течение последних трех столетий в науке и философии. При этом наметились три основных подхода к ее решению - натуралистический, социологический и философский. Натурализм представлен просветителями ХУШ-ХХ веков, а также рядом современных ученых и философов. Суть его в том, что основные характеристики человека и создаваемой им культуры выводятся из биологических влечений и инстинктов... Второй, отличный от натурализма подход может быть назван “социологизмом”. Он характерен для Аристотеля, Маркса, Дюркгейма. Суть его в том, что главным свойством человеческой природы признается социальность. Аристотель прямо определял человека как “животное политическое”. Третий - философско-антропологический подход отличается сложностью и множественностью позиций. Он представлен философами-антропологами М.Шелером, А.Геленом, Э.Ротхакером; экзистенциалистами - М.Хайдеггером, Ж.П.Сартром; персоналистами - Н.Бердяевым и Л.Шестовым, представителем гуманистического психоанализа - Э.Фроммом. Общие черты этого подхода таковы. Во-первых, подчеркивается, что человек - уникальное существо, инстинкты которого “расшатаны” и который биологически “недостаточен”, он хуже приспособлен к земным условиям, чем другие животные. Развитие разума у человека определяется его неприспособленностью и уязвимостью. Разум возникает и становится главным инструментом адаптации в результате “расщепления” психики, постоянного ее травмирования. Но и разум, как говорит Э.Фромм, - не только благо, но и проклятье. Разум помогает человеку понять, что он смертен, что его ждут многочисленные опасности и страдания. Во-вторых, благодаря разуму и своей биологической неспециализированности, человек вступает в диссонанс с природой. У него нет четко очерченной экологической ниши. Но благодаря технике и социальной организации он может выжить в очень широком диапазоне природногеографических условий. Человек как бы выпадает из надежных и прочных форм животного существования. Он живет, существует, но не имеет сущности. Он “обречен на свободу”, он должен каждый раз заново определять себя. В-третьих, вместо фиксированной сущности, составляющей некий “центр бытия” каждого вида, человек испытывает настроения тоски, тревоги, заботы, заброшенности, страдает от чувства одиночества и избытка общения. На самые значительные и важные события он реагирует смехом, плачем. Человек - эксцентрическое существо. В-четвертых, человек чувствует свою “разорванность”. Он есть “трещина бытия”. Собственное существование является для него проблемой. Он удивляется тому, что существует. Он сознает неизбежность смерти и не может до конца в нее поверить. Он знает, что принадлежит к человеческому роду и потенциально мог бы быть таким, как любой другой. Но почему-то из всех возможных ролей и позиций ему выпала в жизни именно эта роль, эта позиция, и он не может этого объяснить. Человек - свободное, открытое существо, не знающее своих границ и своих целей. Ничто его до конца не удовлетворяет, он каждый день должен все начинать с начала. Подобно Сизифу, он обречен снова и снова вкатывать свой камень на вершину горы. Человек обречен на творчество. Он должен отвечать на вызовы природы и строить вокруг себя “культурные миры”. 6 7 Философско-антропологический подход, несмотря на некоторую свою абстрактность, имеет особенно большую “объяснительную силу” в отношении культуры, подчеркивая ее игровой, творческий характер, глубокую укорененность в человеке и несостоятельность утилитаристских проектов, в которых культуре отводится роль падчерицы, некоего украшения. В современных концепциях человеческой природы, как правило, присутствуют в своеобразном сочетании все три подхода. Действительно: и биопсихологические качества, и социальность, и уникальное положение в природе тесно взаимодействуют и проявляются в культурном творчестве. М. Бубер. Я и Ты. М., 1993 (стр.6-24). Мир для человека двойствен в соответствии с двойственностью основных слов, которые он может произносить. Основные слова суть не единичные слова, а словесные пары. Одно основное слово - это пара Я-Ты. Другое основное слово - пара ЯОно; причем можно, не меняя этого основного слова, заменить в нем Оно на Он или Она. Тем самым Я человека также двойственно. Потому что Я основного слова Я-Ты - другое, чем Я основного слова Я-Оно. ...Основное слово Я-Ты можно сказать только всем своим существом. Основное слово Я-Оно никогда нельзя сказать всем существом. Когда человек говорит Я, он имеет в виду одно из этих двух. ...Я воспринимаю Нечто. Я ощущаю Нечто. Я представляю себе Нечто. Я желаю чего-то. Я чувствую Нечто. Я мыслю Нечто. Жизнь человеческого существа не сводится ко всему этому и ему подобному. На всем этом и подобно этому основывается царство Оно. Царство Ты имеет другую основу. Кто произносит Ты, не имеет никакого “Нечто”, не имеет ничего. Но он вступает в отношение. Говорят, что человек познает мир. Что это значит? Человек обследует поверхность вещей и знакомится с ними. Он добывает сведения об их структуре; он приобретает знания. Он узнает то, что присуще вещам. ...Я познаю Нечто. Тут ничего не изменится, если к “внешним” присоединить “внутренние” знания - деление преходящее, продиктованное жаждой рода человеческого притупить жало таинства смерти. Внутренние вещи - как внешние вещи, вещи среди вещей! Я познаю Нечто. Тут ничего не изменится, если к “очевидным” присоединить “тайные” знания - в той самоуверенной мудрости, которая знает о вещах сокровенное, предназначенное для посвященных - обладателей ключа. О таинственность без тайны, о нагромождение сведений! Оно, Оно, Оно! Познавая, человек остается непричастен миру. Потому что знания локализуются “в нем”, а не между ним и миром. Мир не сопричастен процессу познания. Он позволяет изучать себя, но ему нет до этого дела, ибо он никак этому не способствует, и с ним ничего не происходит. 7 8 Как опыт, мир принадлежит основному слову Я-Оно. Основное слово ЯТы утверждает мир отношений. Есть три таких сферы, в которых возникает мир отношений. Первая: жизнь с природой. Здесь отношение - доречевое, пульсирующее во тьме. Создания отвечают нам встречным движением, но они не в состоянии нас достичь, и наше Ты, обращенное к ним, замирает на пороге языка. Вторая: жизнь с людьми. Здесь отношение очевидно и принимает речевую форму. Мы можем давать и принимать Ты. Третья: жизнь с духовными сущностями. Здесь отношение окутано облаком, но раскрывает себя - безмолвно, но порождает речь. Мы не слышим никакого “Ты”, и все же чувствуем зов, и мы отвечаем - творя образы, думая, действуя; мы говорим основное слово своим существом, не в силах вымолвить Ты своими устами. Но что же дает нам право приобщать к миру основного слова то, что лежит за пределами речи? В каждой сфере, через все, обретающее для нас реальность Настоящего, видим мы кромку вечного Ты, в каждом улавливаем мы Его веяние, говоря с каждым Ты, мы говорим с вечным Ты. ...Если я обращен к человеку, как к своему Ты, если я говорю ему основное слово Я-Ты, то он не вещь среди вещей и не состоит из вещей. Он уже не есть Он или Она, отграниченный от других Он и Она; он не есть точка, отнесенная к пространственно-временной сетке мира, и не структура, которую можно изучить и описать - непрочное объединение обозначенных словами свойств. Нет: лишенный всяких соседств и соединительных нитей, он есть Ты и заполняет собою небосвод.. Не то чтобы не было ничего другого, кроме него, но все другое живет в его свете. Как мелодия не есть совокупность звуков, стихотворение - совокупность слов и статуя - совокупность линий; но надо раздирать на куски, чтобы из единого сделать множественное, - так и с человеком, которому я говорю Ты.. Я могу извлечь из него цвет его волос, или окраску его речи, или оттенок его доброты, - мне придется делать это вновь и вновь; но вот я сделал это - и он уже больше не Ты. ...Пока распростерт надо мною небосвод Ты, ветры причинности сворачиваются клубком у моих ног, и колесо судьбы останавливается. Человека, которому я говорю Ты, я не познаю. Но я нахожусь в отношении к нему, в святом основном слове. И только выйдя из этого отношения, я буду снова познавать его. Знание есть отдаление Ты. Отношение может существовать и в том случае, если человек, которому я говорю Ты, не слышит этого, поглощенный познанием. Ибо Ты больше, чем знает Оно. Ты совершает больше и претерпевает больше, чем знает Оно.. Сюда не приникает никакая ложь: здесь колыбель Подлинной Жизни. Вот вечный источник искусства: к человеку подступает образ и хочет через него воплотиться, сделаться произведением. Не порождение его души, но видение, подступающее к ней и требующее от нее творческого воздействия. Оно ждет от человека сущностного акта: совершит он его, скажет своим существом основное слово явившемуся образу - и хлынет творящая сила, и родится произведение. ... Жертва и риск заключены в этом акте. Жертва: бесконечность возможностей, приносимых на алтарь образа; все, что в этот миг проносится, играя, через поле зрения, нужно полностью отбросить, ничто из этого не 8 9 должно проникнуть в произведение; так велика исключительность предстающего передо мной. Риск: основное слово может быть сказано лишь всем существом; кто отдает себя этому, не смеет ничего утаить; творение не потерпит, ...чтобы я ускользнул отдохнуть в мире Оно; творение властвует надо мной, и если я не служу ему, как должно, оно разрушается - или разрушает меня. Образ, который выступает мне навстречу, я не могу ни познавать, ни описывать; я могу его только воплотить. И все же я вижу его - сверкающий в лучах предстающего передо мной, яснее всей ясности познанного мира. Не как вещь среди “внутренних” вещей, не как “плод воображения”, но как Настоящее. Если проверить предметность образа, окажется, что “здесь” его вовсе нет; но чье присутствие в настоящем может быть подлиннее? И отношение, в котором я нахожусь к нему, - истинное отношение: он действует на меня, и я действую на него. ...Ты встречает меня через благодать - его нельзя обрести в поиске. Но когда я говорю ему основное слово, это есть акт моей сущности, акт, которым осуществляется мое бытие. Ты встречает меня. Но я вступаю в непосредственное отношение с ним. Следовательно, отношение - это значит одновременно быть избранным и избирать, оно одновременно страдательно и активно. .. Основное слово Я-Ты может быть сказано лишь всем существом. Сосредоточение и слияние воедино всего существа не может осуществиться ни через меня, ни помимо меня. Я становлюсь собой лишь через мое отношение к Ты; становясь Я, я говорю Ты. Всякая подлинная жизнь есть встреча. ...Отношение есть взаимность. Мое Ты воздействует на меня, как я воздействую на него. Наши ученики воспитывают нас, наши произведения создают нас. “Дурной” человек, если его коснулось святое основное слово, превращается в дарующего откровение. Как воспитывают нас дети, как воспитывают животные! Мы живем, непостижимым образом включенные в поток вселенской взаимности. ...Пока любовь “слепа”, т.е. пока она не видит существа, на которое направлена, в его целостности, она еще не принадлежит по-настоящему основному слову отношения. Ненависть по-природе своей слепа; лишь часть существа можно ненавидеть. Кто видит существо в целом и вынужден его отвергнуть, тот уже не в царстве ненависти, а во власти человеческого несовершенства, ограничивающего способность говорить Ты. Он не способен сказать предстоящему перед ним другому человеку основное слово, всегда заключающее в себе утверждение бытия того, к кому оно обращено, и потому вынужден отвергнуть либо другого, либо себя. У этой преграды вступающий в отношение осознает свою подвластность взаимосвязи с партнером, и лишь одновременно с этим исчезает преграда. Все же непосредственно ненавидящий ближе к отношению, чем тот, кто лишен любви и ненависти. Но вот в чем состоит возвышенная печаль нашего жребия: каждое Ты в нашем мире обречено превратиться в Оно. Столь исключительным было присутствие Ты в непосредственном отношении; но как только отношение исчерпает себя или в него проникнет средство, Ты становится объектом среди объектов - пусть важнейшим, но все же одним из них, имеющим меру и границы. В творчестве реализация в одном смысле означает утрату реальности в 9 10 другом. Подлинное созерцание кратковременно; жизнь в природе, только что раскрывшаяся передо мной в таинстве взаимодействия, теперь снова может быть описываема, расчленяема, классифицируема - как точка пересечения множества различных законов. И сама любовь может не сохраниться в непосредственном отношении; она длится, но в чередовании актуальности и латентности. Человек, который только что еще был единственным и лишенным свойств, который не был в наличии - только присутствовал, которого нельзя было познавать, но можно было коснуться, - этот человек теперь снова стал Он или Она - суммой качеств, количеством в конкретном образе. Теперь я снова могу извлечь из него цвет его волос, окраску его речи, оттенок его доброты; но пока я это могу, он уже не мое Ты и еще не стал им снова. Каждое Ты в мире по сути своей обречено стать вещью или, во всяком случае, вновь и вновь погружаться в вещность. На языке объективном можно было бы сказать, что каждая вещь в мире может до или после своего овеществления являться какому-либо Я в качестве его Ты. Но объективный язык ухватывает лишь краешек подлинной жизни. Оно - куколка, Ты – бабочка. Только не всегда это состояния, которые четко отделены одно от другого: часто это одно, в глубокой двойственности запутанное событие. В начале было отношение. Возьмите язык “дикарей”, т.е. тех народов, чей мир еще беден объектами и чья жизнь строится в тесном кругу действий, насыщенных присутствием. Ядра их языка - слова-предложения, первичные драматические конструкции, из расщепления которых возникает все многообразие грамматических форм, - чаще всего выражают цельность отношения. ...При встрече мы приветствуем человека, желая ему благополоучия, уверяя его в своей преданности или поручая его Богу. Но как мало непосредственности в этих стершихся формулах (улавливается ли хоть чтонибудь в “Хайль!” от первоначального наделения властью?) в сравнении с не теряющим свежести телесным приветствием кафров: “Я тебя вижу!” или с его забавным и возвышенным американским вариантом: “Услышь мой запах!”. Можно предположить, что понятия и связи, да и сами представления о лицах и вещах, выделились из представлений о таких событиях и состояниях, которые имели характер отношений. Стихийные впечатления и волнения, пробуждающие дух “первобытного человека”, вызываются событиямиотношениями - жизнью с тем, что предстает перед ним. …То, что всякое значительное явление поначалу имело и долго сохраняло характер отношения, делает более понятным один широко наблюдаемый и обсуждаемый, но не вполне разгаданный современными исследователями духовный элемент примитивной жизни - ту таинственную силу, представление о которой в разных видах прослеживается в верованиях или знаниях (а они там еще суть одно целое) многих диких племен, ту Мана или Оренда, путь от которой ведет к Брахману в его первичном смысле и далее к Динамис и Харис “Волшебных папирусов” и апостольских посланий. ...”Мировоззрение” дикаря - магическое, но не потому, что в центре его стоит магическая сила человека, а потому, что она есть лишь особая разновидность всеобщей магической силы, из которой проистекает всякое значительное действие. ...Совершенствующаяся память выстраивает в ряд друг за другом большие события-отношения, стихийные потрясения; важнейшее для охранительного инстинкта и интереснейшее для познавательного инстинкта - 10 11 само “воздействующее” - запечатлевается наиболее ярко, выделяется и приобретает самостоятельность; менее важное, всеобщее, изменчивое Ты отдельных событий отступает на задний план, остается изолированным в памяти, постепенно объективируется и очень медленно объединяется в группы и классы. ... Фундаментальное различие между двумя основными словами проявляется в духовной истории дикаря в том, что уже в первоначальном событии-отношении он произносит основное слово Я-Ты естественно, как бы дообразно, т.е. еще до того как он осознал себя в качестве Я; тогда как основное слово Я-Оно вообще становится возможным лишь через это осознание, через выделенное Я. Первое из основных слов может, разумеется, распадаться на Я и Ты, но оно не возникло из их соединения; оно - до Я. Второе же слово возникло из соединения Я и Оно; оно - после Я. ...Противоположность основных слов имеет много имен в мирах и эпохах; но в своей безымянной истинности она имманентна Творению. ...Каждое человеческое дитя, как и все живое, при своем становлении покоится во чреве великой матери: нерасчлененного, дообразного первичного мира. Отделяясь от нее, оно становится личностью, со своей жизнью, и уже только в часы мрака, когда мы ускользаем от личного существования (от ночи к ночи это повторяется с каждым здоровым человеком), становимся мы вновь к ней близки. Это отделение не происходит, однако, так внезапно и катастрофически, как отделение от телесной матери; ребенку дано время, чтобы заменить утрачиваемое им природное единство с миром на связь духовную, т.е. отношение. Из раскаленной тьмы хаоса он вышел на холодный свет творения, но он еще не владеет им, он еще должен вызвать его к жизни и превратить в реальность для себя, он должен увидеть свой собственный мир, услышать, нащупать, выразить его. ...Как дикарь, ребенок живет между сном и сном (да и большая часть яви - еще тоже сон), во вспышках и отражениях встречи... Раскрытие души ребенка неразрывно связано с развитием потребности в Ты, со сбывающимися надеждами и разочарованиями. С игрой его экспериментов и трагической серьезностью его растерянности... ...Бывают мгновения безмолвной глубины, когда мировой порядок открывается человеку как полнота Настоящего. Тогда можно расслышать музыку самого его строения; ее несовершенное изображение в виде нотной записи и есть упорядоченный мир. Эти мгновения бессмертны, и они же самые преходящие из всего существующего: они не оставляют по себе никакого уловимого содержания, но их мощь вливается в человеческое творчество и в человеческое знание, лучи этой мощи изливаются в упорядоченный мир и расплавляют его вновь и вновь. Это случается и в истории личности, и в истории рода. Мир для человека двойствен в соответствии с двойственностью его позиции. Он воспринимает то, что существует вокруг него. - просто вещи и существа как вещи ... Этот мир в известной степени надежен, он обладает плотностью и длительностью, его структура обозрима, ее можно выявлять снова и снова, ее повторяют с закрытыми глазами и проверяют, открыв глаза; он ведь тут распростерся у самой твой кожи, или, может, съежился внутри твоей души смотря по тому, какую точку зрения ты предпочитаешь; это ведь твой объект, 11 12 он остается таковым по твоей милости, остается изначально чуждым тебе, будь он вне или внутри тебя. Ты воспринимаешь его, берешь его как “действительность”, и он позволяет брать себя; но он не отдается тебе. Только относительно такого мира ты можешь “объясниться” с другими; он, хотя и связанный с каждым по-разному, готов служить вам общим объектом; но в нем ты не можешь встретиться с другими. Без него ты не можешь устоять в жизни, его надежность поддерживает тебя; но если ты умрешь в нем, ты будешь погребен в Ничто. Или же человек встречает бытие и становление как то, что предстает именно перед ним, всегда только одну сущность и каждую вещь только как сущность; ...кроме этого одного ничего нет в настоящем, но это одно - весь мир; исчезли мера и сравнение; от тебя зависит, сколь много от неизмеримого станет реальностью для тебя. ...Он не вне тебя, он шевелится в твоей глубине, и, сказав: “Душа души моей”, - ты скажешь не слишком много, но остерегайся желания поместить его к себе в душу - этим ты его уничтожишь. Он есть твое настоящее: лишь имея его, имеешь ты настоящее... Между тобой и им взаимность даяния; Ты говоришь ему Ты и отдаешь себя ему, он говорит тебе Ты и отдает себя тебе. Относительно него ты не можешь объясниться с другими, с ним ты остаешься один на один; но он учит тебя встречать других и уметь устоять при встрече; и он ведет тебя - через благодать своих приходов, через печаль расставаний - к тому Ты, в котором сходятся параллельные линии отношений. Он не помогает тебе удержаться в жизни, он лишь помогает тебе прозревать вечность. ...Отдельное Ты обречено, по завершении события-отношения, превратиться в Оно. ...В одном только настоящем жить невозможно, оно истощило бы человека вконец, если бы не было предусмотрено, что оно быстро и основательно преодолевается. А в одном только прошедшем жить можно; как раз только в нем и возможно устроить жизнь. Нужно лишь заполнить каждый миг познанием и использованием - и он уже не опаляет. Но выслушай истину во всей ее серьезности: человек не может жить без Оно. Но тот, кто живет только с Оно, - не человек. К ТЕМЕ № 2. АНТРОПОГЕНЕЗ И НАЧАЛО КУЛЬТУРЫ. Б.Ф.Поршнев. Оначале человеческой истории палеопсихологии). М., 1974 (стр. 124-201, 352 -459). (Проблемы ...Речь пойдет в этой книге о великой теме философии и естествознания: о соотношении и генетическом переходе между биологическим и социальном. ...Иначе, о природе совершившегося преобразования между животным и человеком. Не это ли подразумевают под “загадкой человека”? Загадка человека и состоит в загадке начала человеческой истории. Что началось? Почему и как началось? Когда началось? ...Фундаментальным тезисом, который ляжет в основу дальнейшего изложения, является идея, что человеческая история представляет собой прогрессивно ускоряющийся процесс и вне этого понята быть не может. ...Не подтвердил ли весь материал об ископаемых гоминидах идею, что между ископаемыми высшими обезьянами... и человеком современного 12 13 физического типа, т. е. человеком в собственном и единственном смысле, расположена группа особых животных: высших прямоходящих приматов?... Высшая форма из них, именуемая палеоантропами, ... вся в целом и особенно в некоторых ветвях, по строению тела, черепа, мозга, в огромной степени похожа на человека. ...В родословном древе приматов в миоцене от низших обезьян ответвилось семейство антропоморфных обезьян-понгид. В плиоцене от линии антропоморфных обезьян ответвилось семейство троглодитид... Троглодитиды, включая неандертальцев (палеоантропов), абсолютно не люди. Давайте смотреть на них такими же глазами, какими предшествующие поколения зоологов смотрели на антропоидов, или антропоморфных обезьян: здесь аккумулируются известные биологические предпосылки очеловечения, но здесь еще нет очеловечения. ...Семейство троглодитид (питекантропид) включает всех и любых высших прямоходящих приматов, в том числе и тех, которые не изготовляли и не использовали искусственных орудий. Принимаемое ныне на практике за основу классификации наличие или отсутствие сопровождающих каменных орудий противоречит принципу чисто морфологической систематики видов. Отсюда легко усмотреть принципиальное различие между классификацией Г.Ф.Дебеца и моей. Оно состоит в том, что я не отношу семейство троглодитид к людям. …Однако этот тезис встречает то кардинальное возражение, которое фигурировало и у Ляйеля, и у Мортилье еще сто лет назад: раз от них остались обработанные камни, значит, они люди. Так, в вузовском учебнике “Антропология” читаем в императивной форме: “Древность человека. При разрешении этого вопроса следует основываться на определении человека как существа, производящего орудия труда. Древность человека, таким образом, это древность его орудий”. …Такая уверенность предполагает либо очень определенное конкретное знание, для какого именно “труда” изготовлялись эти каменные “орудия”, либо, наоборот, неконкретные умозрительные постулаты. …Мировая наука за сто с лишним лет предложила лишь немного легко опровержимых допущений: для изготовления с их помощью деревянных орудий охоты и копания, для “универсальных трудовых функций” и т. п. Останки троглодитид всех уровней находят в сопровождении костей крупных четвертичных животных, нередко расколотых, но это не дает права на логический скачок к заключению, будто они их убивали. ... Нет, троглодитиды включились в биосферу не как конкуренты убийц, а лишь как конкуренты зверей, птиц и насекомых, поедавших “падаль”, и даже поначалу как потребители кое-чего оставшегося от них. ...Троглодитиды ни в малейшей мере не были охотниками, хищниками, убийцами, хотя и были с самого начала в значительной мере плотоядными, что составляет их специальную экологическую черту сравнительно со всеми высшими обезьянами. Разумеется, они при этом сохранили и подсобную или викарную растительноядность... Троглодитиды... умели лишь находить и осваивать костяки и трупы умерших или убитых хищниками животных... Троглодитиды стали высоко эффективными и специализированными раскалывателями, разбивателями, расчленителями крепких органических покровов с помощью еще более крепких и острых камней. Тот же самый механизм раскалывания был перенесен ими и на сами камни для получения рубящих и режущих свойств. 13 14 Это была чисто биологическая адаптация к принципиально новому образу питания - некрофагии. ... Тот факт, что троглодитиды для своего специфического образа питания принуждены были оббивать камни камнями, несет в себе и разгадку появления у них огня. Искры сыпались в большом количестве при ударах друг о друга кремней и других пород, ... эти искры способны зажечь любой вид трута. А в роли такового выступала настилка любого логова и жилья троглодитид, несомненно, однородная с настилкой берлог, нор, гнезд других животных. Иными словами, зачатки огня возникали непроизвольно и сопровождали биологическое бытие троглодитид. ...Таковы некоторые основания для восстановления идеи обезьяночеловека в ее первоначальном смысле, но на уровне современных биологических представлений. Для выделения же “хомо сапиенса” в особое семейство, более того, в качественно и принципиально новое явление, служат другие аргументы... Примем как исходный тезис В.А.Звегинцева: человек говорит, мыслит и действует. Все это вместе составляет его деятельность. Иными словами, триада деятельности человека включает мышление, речевое общение и поведение. Этой триаде в свою очередь соответствует триада качеств языка: интегрировать и синтезировать опыт, воплощать мысль, осуществлять общение. ...Проблема антропогенеза безжалостно требует указать, что первичнее в этой триаде компонентов, составляющих деятельность современного человека. По первенству, отдаваемому одному из трех, можно в известном смысле разделить направления научной мысли в “вопросе всех вопросов” происхождения человека, его отщепления от мира животных. ... Возникновение человеческой речи - одновременно и “вечная проблема” науки, и проблема, всегда остававшаяся в стороне от науки: на базе лингвистики, психологии, археологии, этнографии, тем более спекулятивных рассуждений или догадок, даже не намечалось основательного подступа к этой задаче. ...Со второго плана на первый план проблема возникновения речи перемещается, как только выдвинута идея объединения всех прямоходящих высших приматов в особое семейство троглодитид. Это семейство может быть описано словами “высшие ортоградные (прямоходящие - Э.В.) неговорящие приматы”. ...Невозможно вообразить себе семейство троглодитид в роли хищников, - у его представителей на всех уровнях не было почти ничего для нападения; ...столь же трудно, оказывается, вообразить себе и защиту его самого от хищников. Что касается обезьян, они защищены древесным образом жизни (некоторые виды - наскальным). …Однако, за прошедшие сто лет мы неоспоримо узнали, что они-таки к тому времени спустились с деревьев. Значит, нужно как-то иначе объяснить их существование среди крупных хищников. Мысль археологов и антропологов искала разгадку лишь в одном направлении: в увеличении боевой силы наших предков в результате, с одной стороны, их вооруженности палками и камнями, с другой - соединенных действий группами. Это имеет некоторый филогенетический резон, так как обезьяньи стаи подчас успешно противостоят таким хищникам, как леопард. Но все это, даже если бы отвечало действительности, рисовало бы нам картину “оборонительного” приспособления к хищникам. А не было ли оно “наступательным”, хотя и не в обычном смысле слова? 14 15 Экологический анализ показывает нам колоссальную связанность палеоантропа со всем окружающим животным миром. И абсолютно иными путями, “палеонтологическим анализом языка”, столько раз оспоренный и все же притягательный своим талантом и прозрениями лингвист Н.Я.Марр снова и снова возвращался к одному из своих казавшихся парадоксальными тезисов: наидревнейшие слои языка свидетельствуют о такой тесной связи перволюдей с окружающим животным миром, какую нынешний человек не может себе и представить. Не упускала ли до сих пор наука о происхождении человека из виду гигантские возможности активного воздействия высокоорганизованные предков человека на центральную нервную систему животных, на их высшую нервную деятельность? Если змеи “гипнотизируют” обезьян, то почему бы отказать высшим приматам в свою очередь в чем-либо подобном? У них степень подвижности нервных процессов выше, чем у других животных. Почему бы не применить это преимущество, не использовать слабые стороны нервной деятельности, поведения других видов? К сожалению, нигде не обощены широко известные, но разрозненные сведения, что хищные не могут долго выдерживать взгляд человека. Не остаток ли это некоторой древней адаптации? Представим себе, что, еще не умея говорить между собой, троглодитиды могли адресовать каким-либо животным зримые или слышимые тормозные сигналы типа интердикции, которые в нашей сегодняшней речи преобразовались во чтонибудь вроде “киш”, “фу”, “брысь”. Только не упрощать! Конечно, палеоантроп не мог оказывать сигнального воздействия на все виды, на всех особей. Палеоантроп прежде всего укрывался от опасных видов тем, что использовал их природных антогонистов и конкурентов, стимулируя их враждебность и разобщение... Так, гиена отгоняла других от своей норы, и палеоантроп в какой-то мере, найдя те или иные успешно воздействующие на нее сигналы, был в некоторой безопасности “за ее спиной”, по крайней мере пока находился в соседстве с ней. Впрочем, во множестве случаев это средство не годилось и приходилось больше рассчитывать на преимущество, которое давали собственные цепкие руки, отсюда пристрастие и археоантропов и палеоантропов к обрывам, отвесным берегам и т.п. ... ...Однако. Как мало-мальски регулярная добыча, человек не только сейчас нигде не входит в нормальный пищевой рацион хищника, но и не входил на памяти истории, такие факты в биологии хищников всегда представляли отклонения от нормы. ... В отношениях человека с животными и в настоящее время дело отнюдь не сводится к простой противоположности: дикие и домашние животные... Лишь недавно выяснилось, что подчас бабуин в Африке выступал как бы в роли пастуха в стадах некоторых парнокопытных. Обезьяна издавала предупреждающие крики при возникновении опасности, подтаскивала заблудившихся детенышей при беспокойном крике самок в стаде, но зато, видимо, сама поедала их ослабевших или больных детенышей, можно предположить, что иногда и сосала молоко. Готтентоты издавна дрессируют отдельных бабуинов, используя их инстинкты и превращая в неплохих “пастухов” козьих стад. ...По такому образцу мы можем представить кое-что и во взаимоотношениях ископаемых троглодитид со стадами травоядных. Если не усматривать предвзято в доисторическом прошлом обязательно войну нашего 15 16 предка со всем животным миром, то откроется широчайшее поле для реконструкции его необычайно тесной и бескровной связи с этим миром. Это, а не версия об охоте, важнейшая сторона процесса, который приведет его к порогу очеловечения. Даже в памяти первых европейских переселенцев в Южную Америку запечатлелось явление обитания вместе с семьями индейцев большого числа практически бесполезных разнообразнейших прирученных животных. Но тогда эти нравы и сцены, конечно, были не более чем реликтом. ...В современной человеческой речи в отличие от звуков, издаваемых животными, господствуют звуки, производимые струей выдыхаемого воздуха; животные, напротив, как правило, используют вдыхаемую струю... Но дело в том, что и во всех человеческих языках такие инспираторные звуки используются в качестве междометий или в обращении к животным. Это дает основания считать такие звуки остатком древнейшей стадии. Следующий логический шаг, может быть, и ведет к представлению, что древнейшая “звуковая речь” адресовалась не от человека к человеку, а от человека (точнее его предка) ко всевозможным иным животным. ...Пока назовем это лишь допущением. Подражая видовым голосам животных, ...палеоантоп был вооружен сильным и небывалым оружием: он вызывал их имитативно-интердиктивную реакцию. В своем еще нечеловеческом горле он собрал голоса всех животных раньше, чем обрел свой специфический членораздельный голос. …Он как бы отразил в себе этот многоликий и многоголосый мир и смог в какой-то мере управлять поведением его представителей благодаря опоре на описанные выше механизмы высшей нервной деятельности. ...Мы близимся в науках о человеке к такому сдвигу, который можно сравнить с революцией в физике, развернувшейся в первой половине ХХ века. Роль, аналогичную “атомному ядру”, здесь сыграет начало человеческой истории. Но сегодня это еще только штурмуемая загадка. Если принять, что все сказанное выше об экологии троглодитид более или менее соответствует истине, то начало человеческой истории круто переносится во времени в сравнении с принятой сейчас датировкой. Еще недавно длительность истории определяли в полмиллиона - миллион лет, и уже эта цифра в известной мере оправдывала тезис А.Тойнби, что сравнительно с нею история всех выделенных им “цивилизаций” (числом около двадцати) настолько кратковременна, что последовательностью их можно пренебречь и рассматривать их почти как одновременные друг другу, т.е. не имеющие соизмеримости с гигантской величиной бытия людей на земле. Однако с тех пор раскопки Лики, Арамбура, Коппенса и других в Африке увеличили ее еще значительно больше, так что сегодня людям приписывают возраст около двух с половиной миллионов лет и, судя по всему, завтра могут последовать новые открытия еще более древних костных останков австралопитеков в сопровождении примитивных оббитых камней. Но вот что качается неоантропа (“хомо сапиенса”), он появляется всего 35-40 тыс. лет тому назад. Его исторический марш, обгоняющий темпы изменения окружающей природы, т.е. обретающий относительное самодвижение и ускорение (при неизменной телесной организации), начинается и того много позже. …Если отсчитывать начало такового самодвижения с неолита, эти недолгие тысяч восемь лет человеческой истории по сравнению с масштабами биологической эволюции можно приравнять к цепной реакции взрыва. История людей - взрыв. В ходе ее сменилось всего несколько сот поколений. 16 17 ...Толчком к взрыву, очевидно, послужила бурная дивиргенция двух видов палеоантропов (троглодитидов) и неоантропов, стремительно отодвигавшихся друг от друга. …Именно природа этой дивиргенции и есть “атомное ядро”, тайну которого надлежит открыть. ... В своих цифровых таблицах различных параметров строения мозга В.И. Кочеткова убедительно выделила ископаемых неоантропов в особую группу, оказавшуюся глубоко специфичным перевалом в антропогенезе. …В переводе на хронологию его длина - всего лишь 15-25 тыс. лет. Но на этом-то отрезке и укладывается почти все таинство дивиргенции, породившей людей. ...В этом интервале в числе остатков жизнедеятельности наших ископаемых предков появляются сначала краски, в конце - изображения. Но как мустьерское использование охры для пятен на камнях, для отпечатков пятерни, так же и ориньякско-солютрейские насечки и полоски, графические и скульптурные изображения животных и людей, - все это не имеет ни малейшего отношения к категориям эстетики и отвечает столь ранним ступеням подготовки специфической человеческой психики, что эти явления должны быть поставлены в порядке эволюции у самых истоков возникновения речи. И все-таки тут налицо нечто высоко специфичное для становления человека: если и мыслимо животное, которое применяет элементарную окраску, то ни одно животное не создает изображения чего-либо. ...Кроме того, есть и еще один совершенно специфический факт, который мы можем локализовать в данном хронологическом интервале: расселение ранних неоантропов по обширной ойкумене, чуть ли не по всей пригодной к обитанию территории нашей планеты, включая Америку, Австралию, Океанию. Эта дисперсия человечества по материкам и архипелагам земного шара, если сравнить ее с темпами расселения любого другого биологического вида, по своей стремительности может быть уподоблена взрыву. За эти полтора-два десятка тысячелетий кроманьонцы преодолели такие экологические перепады, такие водные и прочие препятствия, каких ни один вид животных вообще никогда не мог преодолеть. Нельзя свести это рассеяние людей по планете к тому, что им не доставало кормовой базы на прежних местах: ведь другие виды животных остались и питаются на своих древних ареалах нередко и до наших дней корма хватает. Нельзя сказать, что люди в верхнем плейстоцене расселялись из худших географических условий в лучшие, - факты показывают, что имело место и противоположное. Им не стало “тесно” в хозяйственном смысле, ибо их общая численность тогда была невелика. Но им стало, несомненно, тесно в смысле трудности сосуществования с себе подобными. Старались ли они отселиться в особенности от палеоантропов, которые биологически утилизировали их в свою пользу, опираясь на мощный и неодолимый нейрофизиологический аппарат интердикции? Или они бежали от соседства с теми популяциями неоантропов, которые ... уже развили в себе более высокий нейрофизиологический аппарат суггестии, перекладывавший тяготы на часть своей или окрестной популяции? Вероятно, и палеоантропы, и эти суггесторы пытались понемногу географически перемещаться вслед за такими беглецами-переселенцами... На самые далекие края пригодного к обитанию мира неоантропы отселились особенно рано в эпоху дивиргенции с палеоантропами. А судя по тому, что расселение ранних неоантропов происходило в особенности по водным путям - не только по великим рекам, но и по океанским течениям, на бревнах, - люди искали отрыва сразу на большие 17 18 дистанции, передвигались они при этом, конечно, поодиночке или очень небольшими группами. Но вот процесс разбрасывания то в том, то в ином направлении достигает такого предела, когда по природным причинам простое взаимное отталкивание оказывается уже далее невозможным. Достигнуты ландшафтные экстремальные условия, или океан останавливает перемещение дальше вперед. Но торможение может быть и иного рода: настигают новые волны человеческой миграции, отрываться все труднее. И вот рано или поздно в разных местах не в одно и то же время, но в общем повсюду приходит пора нового качества: взаимного наслаивания мигрирующих популяций неоантропов, откуда проистекают попытки обратного, встречного переселения... Иссякает отлив, начинается прилив. Люди возвращаются к людям. Или - что равнозначно они уже не отселяются, они остаются среди людей. Вот этот второй, обратный вал перемещений неоантропов и есть уже не просто история их взаимного избегания или избегания ими палеоантропов, но начало истории человечества... Земля начала покрываться антропосферой: соприкасающимися друг с другом, но разделенными друг от друга первобытными образованиями. Земной шар перестал быть открытым для неограниченных перемещений. Его поверхность стала уже не только физической или биогеографической картой, но картой этногеографической, а много позже и политико-географической. ...Раздробленность первобытного человечества на огромное число общностей или общин (причем разного уровня и пересекающихся), стоящих друг к другу так или иначе в отношении “мы - они”, было объективной хозяйственной необходимостью. Но норма экономического поведения каждого индивида внутри этих рамок состояла как раз во всемерном “расточении” плодов труда: коллективизм первобытной экономики состоял не в расстановке охотников при облаве, не в правилах раздела охотничьей добычи и т.п., а в максимальном угощении и одарении каждым другого, хотя и только по сформировавшимся обычным каналам. Дарение, угощение, отдавание, основная форма движения продуктов в архаических обществах. Такая экономика подразумевает соответствующую психику. Это поведение явно противоположно “зоологическому индивидуализму”, да и не может быть приравнено к действию у животных, скажем, родительского инстинкта кормления детенышей или призыву петухом куриц к найденному корму. Взаимное отчуждение добываемых из природной среды жизненных благ было императивом жизни первобытных людей, который нам даже трудно вообразить, ибо он не соответствует ни нормам поведения животных, ни господствующим в новой и новейшей истории принципам материальной заинтересованности. “Отдать” было нормой отношений. ...Вот каков корень у закономерности экономического поведения первобытных людей. Как мы видим, он уходит в наидревнейшую глубину истории. Мы находим там не дятельность одиночек, оббивающих камни, ...а прежде всего отношения людей ...То были антибиологические отношения и нормы - отдавать, расточать блага, которые инстинкты и первосигнальные раздражители требовали бы потребить самому, максимум - отдать своим детенышам либо самкам. Остается повторить, что такой распорядок вещей требовал необходимого корректива - распадения человечества на великое множество общностей с разными искусственными признаками их обособления и культурами, которые 18 19 ставили предел отчуждению благ “вовне”. Эти признаки одновременно и отмежевывали общность и сплачивали ее. К ТЕМЕ № 3. АРХАИЧЕСКИЕ ПЕРВООСНОВЫ КУЛЬТУРЫ. ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ КАК Мирча Элиаде. Священное и мирское. М., 1994 (стр. 20-132). Наша первая цель - представить специфические масштабы религиозного опыта и показать, в чем его отличия от опыта мирского в познании мира. Мы не будем углубляться в описание многочисленных факторов, воздействовавших на религиозный опыт на протяжении столетий. …Различие опыта - это результат экономических, социальных и культурных различий, одним словом - Истории. Вместе с тем у кочевых охотников и оседлых земледельцев есть одна общая черта в поведении, которая нам представляется значительно более важной, чем все различия: и те и другие живут в священном Космосе, они приобщены к космической священности, проявляющейся через мир животных и растений. Достаточно сравнить их бытийные ситуации с ситуациями современного человека, живущего в неосвященном Космосе, чтобы отчетливо понять все, что отличает нашего современника от представителей других обществ. Одновременно обнаруживаются и основания для сравнения религиозных фактов, принадлежащих различным культурам: все эти факты происходят от одного и того же поведения - поведения “человека религиозного”. Для религиозного человека пространство неоднородно: в нем много разрывов, разломов; одни части пространства качественно отличаются от других... Более того, для религиозного человека эта неоднородность пространства проявляется в опыте противопоставления священного пространства, которое только и является реальным, существует реально, всему остальному - бесформенной протяженности, окружающей это священное пространство. Оговоримся сразу, что религиозный опыт неоднородности пространства является основополагающим, сравнимым с “сотворением Мира”. Речь идет не о теоретических построениях, но о первичном религиозном опыте, предшествующем всякому размышлению о Мире... Проявление священного онтологически сотворяет мир. В однородном и бесконечном пространстве, где никакой ориентир невозможен, где нельзя сориентироваться, иерофания (явление священного - Э.В.) обнаруживает абсолютную “точку отсчета”, некий “Центр”... Чтобы жить в Мире, необходимо его сотворить, но никакой мир не может родиться в хаосе, однородности и относительности мирского пространства, ...где человек перемещается, движимый житейскими потребностями, обычными для существования в индустриальном обществе. Но и в этом мирском восприятии пространства продолжают оставаться некие величины, которые в большей или меньшей степени напоминают о неоднородности, характеризующей религиозное восприятие пространства. Какие-то особые места, качественно отличные от других: родной пейзаж, место, где родилась первая любовь... сохраняют даже для человека искренне нерелигиозного особое качество - быть “единственными”. Это - “святые места” его личной вселенной, как если бы это нерелигиозное существо открыло для себя иную реальность, отличную от той, в которой происходит его обыденное существование. 19 20 ...Всякое священное пространство предполагает какую-либо иерофанию, некое вторжение священного, в результате чего из окружающего космического пространства выделяется какая-либо территория, которой придаются качественно отличные свойства... Теофания освящает какое-либо место уже только тем, что делает его “открытым” вверх, т.е. сообщающимся с Небом. Оно становится тем необычным местом, где осуществляется переход от одного способа существования к другому. Очень скоро мы продемонстрируем другие, еще более точные примеры: алтари, являющиеся “Вратами Божьими”, местами нисхождения с Неба на Землю. Но даже и не требуется какой-то теофании или иерофании в собственном смысле: достаточно одного какого-то знака, чтобы указать на священность места... Нечто не принадлежащее данному миру неопровержимо проявляется и тем самым указывает какое-то направление или определяет какое-то поведение. Требуется знак, чтобы положить конец напряженности, вызванной относительностью и чувством неуверенности, происходящей от отсутствия ориентиров, одним словом, для того, чтобы найти абсолютную точку опоры. Например: преследуют дикое животное и в месте, где его убивают, возводят алтарь; или выпускают на свободу какое-то домашнее животное, например быка, через несколько дней его находят и там же на месте приносят в жертву, затем на этом месте возводят жертвенник, а вокруг него строят деревню. Во всех этих случаях священность места обнаруживают животные; люди, следовательно, не свободны в выборе священного места. Им дано лишь искать и находить его с помощью таинственных знаков. Для традиционных обществ весьма характерно притивопоставление между территорией обитания и неизвестным, нелпределенным пространством, которое их окружает. Первое - это “Мир” (точнее “наш мир”), Космос. Все остальное - это уже не Космос, а что-то вроде “иного мира”, это чужое и хаотическое пространство, населенное ларвами (злыми духами), демонами, “чужими” (приравниваемыми, впрочем, к демонам и привидениями). “Мир” (т.е. “наш мир”) это вселенная, внутри которой священное уже проявило себя и где, следовательно, разрыв уровней оказался возможным и повторяющимся. ...Неизвестная, чужая, незанятая (что часто означает - незанятая “нашими”) территория еще пребывает в туманных и зачаточных условиях “Хаоса”. Занимая его и особенно располагаясь в нем, человек символически трансформирует его в Космос путем ритуального воспроизведения космогонии. То, что должно стать “нашим миром”, нужно сначала “сотворить”, а всякое сотворение имеет одну образцовую модель: сотворение Вселенной богами. “Своей” территория становится лишь после ее “сотворения” заново, т.е. ее освящения. Это религиозное поведение по отношению к неизведанным землям распространилось и на Запад и просуществовало вплоть до начала современной истории. Испанские и португальские “конкистадоры” захватывали во имя Иисуса Христа открытые и покоренные ими земли. Возведением Креста они освящали местность, придавая ей этим актом как бы “новое рождение”. ...Вновь открытые страны были “обновлены”, “вновь сотворены” Крестом. ...Тесная взаимосвязь, существующая между космизацией и освящением, отмечается еще на самых элементарных уровнях культуры, например у австралийских кочевников, хозяйство которых строилось на сборе плодов и мелкой охоте... Найти “свое место”, оборудовать его, обжить - все эти действия предполагают жизненно важный выбор Вселенной, которую они “сотворяют”, чтобы сделать своей. И эта “Вселенная” всегда является подобием образцовой 20 21 Вселенной, созданной и обитаемой Богами. Она составляет, таким образом, часть священного деяния Богов. ...Возглас неофита племени квакиутли “Я нахожусь в Центре Мира” сразу же открывает нам одну из наиболее глубоких значимостей священного пространства. Там, где через иерофанию осуществляется разрыв уровней, одновременно происходит “открытие” пути вверх (в божественный мир) или вниз (в нижние области, в царство мертвых). Таким образом, три космических уровня - Земля, Небо, нижние области - оказываются сообщающимися. ...Тот же символизм Центра объясняет и другие серии космологических и религиозных образов. Мы приведем лишь наиболее важные из них: а) святые города и жертвенники располагаются в Центре Мира; б) храмы воспроизводят космическую Гору и вследствие этого представляют собой в наилучшем виде “связующее звено” между Землей и Небом; в) фундаменты храмов глубоко погружены в нижние области. …Можно констатировать, что “образ мира”, точно также как и символизм “Центра”, повторяется в обитаемом мире. Палестина, Иерусалим и иерусалимский Храм представляют вместе и одновременно картину Вселенной и центра Мироздания. Эта множественность “Центров”, это повторение картины Мира во все более скромных масштабах составляют одну из отличительных черт традиционных обществ. ...Вселенная берет начало в своем Центре, она простирается от центральной точки, как от “пупа”. Именно так, согласно “Ригведе, зарождается Вселенная: от ядра, центральной точки. Иудейская традиция еще более откровенна: “Святейший сотворил Мир как эмбрион. Подобно тому, как эмбрион растет от пупа, мир был создан Богом от пупа, а затем распространился во все направления”. …Сотворение предполагает избыточность реальности, иначе говоря, вторжение священного в мир. ... В самых различных культурных контекстах мы обнаруживаем одну и ту же космологическую схему, один и тот же ритуальный сценарий: размещение на какой-либо территории уподобляется сотворению мира Если верно, что “наш мир” - это Космос, то всякое нападение извне грозит обратить его в “Хаос”, и так как “наш мир” был образован по образу и подобию творения Богов, т.е. космогонии, враги, нападающие на этот мир, воспринимаются как враги богов - демоны и в первую очередь архидемон, первый Дракон, поверженный богами у истоков времен... Враги приравниваются к могущественным силам Хаоса. Всякое разрушение поселения равноценно возвращению в Хаос, всякая победа над захватчиком воспроизводит победу Бога над Драконом (т.е. над “Хаосом”). ...Те же образы используются в наши дни, когда речь идет об опасностях, угрожающих некоторым типам цивилизации. В частности, говорят о “хаосе”, “разрухе”, “мраке”, в который погружается “наш мир”. Все эти выражения обозначают нарушение порядка, Космоса, органической структуры и погружение в текучее, аморфное состояние; одним словом, в хаос. Это подтверждается, как нам кажется, тем, что эти образы до сих пор живут в языке, в фразеологии современного человека. Что-то от традиционной концепции Мира все еще свойственно его поведению, даже если он и не всегда осознает это древнее наследие. ... Для нашего исследования наибольший интерес представляет тот факт, что во всех традиционных культурах жилище несет в себе нечто священное и одним только этим уже отражает Мироздание. ...Небо мыслится как огромная палатка, поддерживаемая центральным столбом: кол палатки или центральная 21 22 опора дома ассоциируется со Столбом Мироздания и получает то же наименование... Подобное видение мира мы встречаем и в такой высокоразвитой цивилизации, как индийская. Прежде чем каменщики заложат первый камень фундамента, астролог указывает точку на земле, которая находится над Змеем, поддерживающим мир. Старший каменщик вырезает колышек и вбивает его в землю точно в указанном месте, чтобы прочно закрепить голову змея. Затем на это место укладывается первый камень. Таким образом, угловой камень располагается прямо в “Центре мироздания”. Однако, с другой стороны, действия по заложению фундамента повторяют акт космогонии: забить кол в голову Змея и “закрепить” ее - это означает повторить изначальные действия Сомы или Индры, который, согласно “Ригведе”, “поразил Змея в его логове”. Как мы уже отмечали, Змей символизирует Хаос, аморфное состояние, нечто не проявившееся. Обезглавить его значит совершить акт Сотворения, т.е. перейти от потенциального и аморфного к имеющему форму. ...Религиозный человек испытывает глубокую ностальгию по “божественному миру”, по дому, напоминающему “дом божий” - такой, каким его воспроизвели впоследствии в Храмах и Святилищах. В общем эта религиозная ностальгия выражает желание жить в некоем чистом и святом Космосе, каким он был изначально, когда только что вышел из рук Создателя. И религиозный человек периодически получает возможность найти Космос таким, каким он должен быть в принципе, в мифический момент Сотворения, благодаря познанию Священного Времени. * * * Равно как и пространство, Время для религиозного человека не однородно и не беспрерывно. Есть периоды Священного Времени. Это время праздников (большинство из которых повторяется с определенной периодичностью). С другой стороны, есть Мирское Время, обычная временная протяженность, в которой разворачиваются действия, лишенные религиозной значимости. ...Главное различие между этими двумя качествами Времени, на первый взгляд, поразительно: Священное Время по своей природе обратимо, в том смысле, что оно буквально является первичным мифическим Временем, преобразованным в настоящее. Всякий церковный праздник, всякое Время литургии представляют собой воспроизведение в настоящем какого-либо священного события, происходящего в мифическом прошлом, “в начале”. Таким образом, Священное Время может быть возвращено и повторено бесчисленное множество раз. ... Для религиозного человека древних цивилизаций Мир обновляется ежегодно. Иначе говоря, с наступлением каждого нового года он вновь обретает исходную “святость”, которая была свойственна ему, когда он вышел из рук Создателя. …С каждым Новым Годом наступает “новое”, “чистое”, “святое” (еще не изношенное) время. ...Легко понять, почему воспоминание о том чудесном времени неотступно преследовало религиозного человека, почему он стремился периодически приобщаться к нему: в начале времен боги демонстрировали апогей своего могущества. Космогония есть высшее проявление божественного, пример силы, сверхъестественного изобилия и созидательности. Религиозный человек жаждет реального. Всеми средствами он пытается оказаться у истока первичной реальности, когда мир был в стадии 22 23 зарождения... Участвуя путем обрядов в “конце света” и его “воссоздании”, человек становится современником изначального времени, следовательно, он рождался заново, вновь начинал свое существование с нерастраченным запасом жизненных сил, таким, как в момент рождения. ...Таким образом, религиозный человек периодически становится современником богов в той мере, в какой он восстанавливает в настоящем первичное Время, когда были совершены божественные деяния. На уровне “примитивных” цивилизаций все, что делает человек, имеет сверхчеловеческую модель: даже в обычное “непраздничное” Время их действия имитируют образцовые модели, ниспосланные богами или мифическими Предками. Но подобная имитация может становиться все менее и менее точной, модель может искажаться или вовсе забываться. Поэтому необходимо периодическое восстановление божественных актов - религиозные праздники; они призваны показать человеческим существам священные модели. Ритуальная починка лодки или выращивание ямса не похожи на аналогичные операции, осуществляемые в интервалах между священными периодами. Они более точны, более похожи на божественные образцы, а с другой стороны, они ритуальные: их замысел имеет религиозную основу. Обрядная починка лодки проводится не потому, что лодка нуждается в ремонте, а потому, что в мифическую эпоху боги показали людям, как нужно ремонтировать лодки. …Следовательно, Время, когда осуществляется ритуальная починка лодок, восходит к первичному Времени: это то самое время, когда совершали деяния боги. Религиозный человек ощущает потребность периодически погружаться в священное и непроходящее Время. Для него именно благодаря священному Времени существует другое, обычное время, та мирская временная протяженность, в которой проходит все человеческое существование. Именно вечное настоящее мифического события делает возможным ход мирской истории. ...Все, что при современном взгляде на вещи представляется “прогрессивным” (не важно какого характера: социального, культурного, технического и т. п.) по отношению к предшествующей ситуации, все это было принято различными примитивными обществами в ходе их длительной истории как новые божественные откровения. …У нас нет оснований для того, чтобы трактовать периодическое возвращение в священное Время начала как отказ от реального мира, бегство в мир мечты, в мир воображений. Напротив, в этом еще раз отчетливо проявляется онтологическая одержимость - главная отличительная черта человека первобытных и древних обществ. Ведь, в конечном итоге, желание восстановить Время начала - это желание пережить время, когда боги присутствовали на земле, обрести сильный, свежий и чистый Мир, такой, каким он был “в начале времен”. Это жажда священного и одновременно ностальгия по Бытию. В экзистенциальном плане этот опыт порождает уверенность в возможности периодически вновь начинать жизнь с максимумом “шансов”. ...Религиозный человек воспринимает человечество таким, каким оно представлено в сверхчеловеческих всевышних моделях. Он осознает себя истинным человеком лишь в той мере, в какой он походит на богов, Героевоснователей цивилизаций, мифических Предков. Короче говоря, религиозный человек желает быть иным, нежели он есть с точки зрения его мирского опыта. Религиозный человек - это не некая данность; он формирует себя сам по 23 24 божественным образцам. …Настоящим человеком он становится, лишь следуя учению, содержащемуся в мифах, и подражая богам. ... И тот, кто поднимается по ступеням жертвенника или восходит по ритуальной лестнице, ведущей в Небо, перестает на это время быть человеком: тем или иным образом он приобщается к сверъестественному. …Одной лишь своей формой существования Небо открывает человеку запредельность, силу, вечность. Его существование абсолютно, потому что оно высоко, бесконечно, вечно и могущественно. …Множество высших божеств первобытных народов получают имена, обозначающие высоту, небесный свод, метеорологические феномены; они могут также просто называться “Владельцами Неба”, “Жителями Неба”. ...Однако мы полагали важным напомнить об одном факте, имеющем, на наш взгляд, первостепенное значение: Высшие Существа небесной структуры постепенно исчезают из культов: они “отдаляются” от человека, уходят в небо и становятся “богами в отставке”. Эти боги, создав Космос, дав человеку жизнь, чувствуют, можно сказать, нечто вроде “усталости”, как если бы великий промысел Сотворения исчерпал их ресурсы. Они укрываются в Небе, оставив на земле своего сына или какого-нибудь демиурга, на которых возлагается завершение или совершенствование Сотворения. Мало-помалу их место занимают другие божественные персонажи: Мифические Предки, Божьи Матери, животворные Боги и т. д. Бог Грозы сохраняет еще небесную структуру, но он уже не Высшее созидающее Существо. Он лишь “оплодотворитель” Земли, а иногда лишь помощник своей Земли-Матери. ...Явление «отдаления» Высшего Бога отмечается уже на первобытных уровнях цивилизации. ...Великий небесный Бог, Высшее Существо, Всемогущий Создатель играет весьма незначительную роль в религиозной жизни племени. Он слишком далек или слишком добр, чтобы нуждаться в каком-либо культе; о нем вспоминают лишь в самых крайних случаях. К нему обращаются как к последней надежде во время бедствий... если все действия, предпринятые в отношении других богов, богинь, предков или демонов, оказались тщетными. Как говорят ораоны: “Мы испробовали все, но у нас есть еще Ты, чтобы нас спасти!” ...В “удалении божьем” на самом деле выражается все возрастающее стремление человека к самостоятельным открытиям в области религии, культуры и экономики. …Открытие земледелия коренным образом преобразует не только экономический уклад жизни первобытного человека, но прежде всего его экономику священного. Другие религиозные силы начинают играть свою роль: сексуальность, плодородие, мифология женщины и Земли и т.п. Религиозный опыт становится более конкретным, более тесно связанным с Жизнью. Великие Богини-Матери, сильные Боги или гении плодородия оказываются значительно более “динамичными” и более доступными человеку, чем Бог Создатель. ...Такое поведение характерно не только для первобытных народов. Возьмем древних евреев. Всякий раз, когда они переживали эпоху мира и относительного экономического процветания, они отдалялись от Яхве и сближались с Астартами и Баалами соседних народов. И только исторические катастрофы заставляли их вновь поворачиваться к Богу Яхве. И тогда они звали Вечного и говорили: “Мы согрешили, так как забыли Вечного и служили Баалам и Астартам, но сейчас освободи нас из рук наших врагов и мы будем служить тебе” (1 Самуил, 12,10). 24 25 ... Внешне эта ситуация представляется парадоксальной: божества, заменившие у первобытных народов богов небесной структуры, были подобно Баалам и Астартам древних евреев божествами плодородия, изобилия, полноты жизни, короче, божествами, стимулирующими и наполняющими Жизнь, как космическую жизнь растительного и животного мира, так и само человеческое существование. Внешне эти божества были сильными, всемогущими. Их религиозная значимость объясняется именно их силой, их неисчерпаемыми жизненными запасами и плодовитостью. И в то же время их поклонников, как первобытных людей, так и древних евреев, не покидало чувство, что все эти Великие Богини, все эти боги покровители сельского хозяйства - были не в силах спасти их, охранить их жизнь в реальных критических ситуациях. Эти боги и богини могли лишь воспроизводить и умножать Жизнь, более того, они были способны на это лишь в “нормальные” периоды. Божества, превосходно управляющие космическими ритмами, оказываются бессильными, когда речь идет о спасении Космоса или человеческого общества в момент крайней опасности (“исторического” кризиса у древних евреев). Различные божества, заместившие Высших существ, обладали наиболее конкретными и наиболее яркими возможностями - возможностями способствовать Жизни. Но именно поэтому они не являются “специалистами” зарождения, они утратили наиболее тонкие, “благородные”, “духовные” способности Богов Создателей. ... Будучи буквально изгнанным из религиозной жизни, небесная священность остается жить в символизме. Религиозный символ передает сообщение, даже если он и не осознается более во всей своей полноте, так как символ адресован человеческому существу в целом, а не только его разуму. ...Для апологетов христианства символы всегда несут в себе некие послания: они открывают нам священное толкование космических ритмов. Откровения, привнесенные христианством, не разрушали дохристианского значения символов: они лишь добавляли им новые смыслы. …Священные космические откровения являются в некотором смысле первичными; они происходили в самом далеком прошлом человечества, и нововведения, привнесенные впоследствии Историей, не смогли их сокрушить. …Вынашивание и порождение Землей живых существ относится к общераспространенному верованию. Во многих языках человек называется как “рожденный Землей”. …Даже современные европейцы испытывают смутное чувство мистического единства с родной Землей. Это не что иное, как религиозный опыт... Вынашивание и разрешение от бремени представляют собой микрокосмические вариации образцового деяния, выполненного Землей; женщина-мать всего лишь имитирует и повторяет этот первичный акт возникновения Жизни в чреве Земли. Следовательно, она должна находиться в прямом контакте с Великой Родительницей, чтобы та направляла ее в выполнении таинственного действа, коим является рождение новой жизни, чтобы получать от нее благоприятную энергию и найти у нее материнскую защиту. …Символическое погребение, полное или частичное, обладает той же религиозно-магической значимостью, что и погружение в воду при крещении. …Процедура сохраняет ту же эффективность, если необходимо смыть тяжкий грех или излечить душевнобольного. …Посвящение заключает в себе ритуальную смерть и возрождение. Так, у многих первобытных народов неофита символически “убивали”, зарывали в землю и сверху покрывали 25 26 листвой. Когда он поднимался из могилы, то считался уже новым человеком, так как был выношен вторично и непосредственно космической Матерью. ...Как мы видели, космогонический миф - это самый что ни на есть совершенный миф-модель, он являет собой образец для поведения человеческих существ. Именно поэтому бракосочетание людей расценивается как подражание космической иерогамии. Уже в Атхарваведе муж и жена уподобляются Небу и Земле. …В Греции брачные ритуалы воспроизводили пример Зевса, тайно соединявшегося с Герой... Нерелигиозному человеку современных обществ трудно осознать этот космический и одновременно священный масштаб брачного союза. Но не нужно забывать, что для религиозного человека архаических обществ Мир представлялся наполненным посланиями. Иногда эти послания предстают в зашифрованном виде, но для того и существуют мифы, чтобы помочь человеку их расшифровать... Человеческий опыт во всей своей полноте может быть уподоблен Космической Жизни. Следовательно, он может быть освящен, ведь Космос - это высочайшее творение богов. ...На уровне мирского опыта растительная жизнь открывает лишь последовательность “рождений” и “умираний”. И только религиозное видение Жизни позволяет “расшифровать” в ритме растительной жизни иные значения, и в первую очередь идеи возрождения, вечной молодости, здоровья, бессмертия. ...Вспомним также мифы о поисках бессмертия или вечной молодости. Эти символы Космического Дерева бессмертия, или Познания с наибольшей силой и ясностью выражают то великое значение, какое придается религией растительности. …Только религиозному человеку ритмы растительного мира открывают Таинства Жизни и Сотворения, обновления, вечной молодости и бессмертия. Как отмечают некоторые авторы, все растения, выращиваемые сегодня, первоначально считались священными. То, что мы называем любовью к растениям (например, когда весной растения пробуждаются от сна), восходит не к мирскому “натуралистическому” опыту. Напротив, в этом проявляется религиозный опыт возобновления (нового начала, нового сотворения) Мира, который и позволяет расценивать весну как воскрешение Природы. И в основе той значимости, какая придается религией весне, лежит Таинство периодического возрождения Космоса. Впрочем, в поклонении растениям важен зачастую не столько сам природный феномен весны и появления растительности, а знак, предвещающий космическую тайну. ...Христианство смогло внести глубокие коренные изменения в религиозные оценки Космоса и Жизни, но не отбросило их и космическая жизнь во всей ее полноте еще ощущается как некий божественный шифр. ...Всякое космическое существование обречено на “переход”: человек переходит от дожизни к жизни, а затем к смерти, подобно тому, как мифический Предок переходил от до-бытия к бытию, как Солнце, возникая из мрака, переходит в свет... Следует уточнить, что все эти ритуалы и символы “перехода” отражают специфическую концепцию человеческого существования: родившись, человек еще не завершен, он должен родиться еще раз, духовно; он становится окончательно человеком, переходя от несовершенного, эмбрионального состояния к совершенному, взрослому. Одним словом, человеческое существование обретает полноту посредством серии обрядов перехода, которые в конечном счете есть не что иное, как последовательное посвящение. ...Посвящение, как и смерть, как и мистический экстаз, как и абсолютное знание, как и вера в иудео-христианстве, равноценны переходу от одного способа бытия к другому; через них осуществляется истинная онтологическая 26 27 перемена. …Следует запомнить, что религиозный человек не желает быть таким, каким он является на естественном уровне, он стремится сделаться таким, каким видится ему идеал, открываемый мифами. Первобытный человек стремится достичь некоего религиозного человеческого идеала, и уже в этом стремлении содержатся зародыши всех этик, разрабатывавшихся впоследствии в развитых обществах. ...От одной религии к другой, от одной доктрины или теории к другой древнейшая тема второго рождения обогащалась новыми значениями, иногда полностью изменяя содержание опыта. Однако всегда сохранялся один общий и неизменный элемент, который можно сформулировать следующим образом: доступ к духовной жизни всегда предполагает смерть для мирской жизни, за которой следует новое рождение. ...В некотором смысле даже можно утверждать, что и у тех наших современников, которые объявляют себя неверующими, религия и мифология “скрыты” в глубине подсознания. Это означает также, что возможность вновь приобщиться к религиозному опыту жизни все еще жива в недрах их “Я”. Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление // Хрестоматия по истории психологии. М. 1980 (стр. 237-256). ...Для первобытного сознания нет чисто физического факта в том смысле, какой мы придаем этому слову. Текучая вода, дующий ветер, падающий дождь, любое явление природы, звук, цвет никогда не воспринимаются так, как они воспринимаются нами, т.е. как более или менее сложные движения, находящиеся в определенном отношении с другими системами предшествующих и последующих движений. Перемещение материальных масс улавливается, конечно, их органами чувств, как и нашими, знакомые предметы распознаются по предшествующему опыту, короче говоря, весь психофизиологический процесс восприятия происходит у них так же, как и у нас. Однако продукт этого восприятия у первобытного человека немедленно обволакивается определенным сложным состоянием сознания, в котором господствуют коллективные представления. Первобытные люди смотрят теми же глазами, что и мы, но воспринимают они не тем же сознанием, что и мы. ...Таким образом, даже в самой обычной перцепции, даже в самом повседневном восприятии простейших предметов, обнаруживается глубокое различие, существующее между нашим мышлением и мышлением первобытных людей. Мышление первобытных людей является в основе своей мистическим: причиной этого являются коллективные представления, мистические по своему существу, составляющие неотъемлемый элемент всякого восприятия первобытного человека. Наше мышление перестало быть мистическим по крайней мере в том, что касается большинства окружающих нас предметов. Нет ничего, что воспринималось бы одинаково ими и нами. ...Поэтому не следует говорить, как это часто делают, что первобытные люди ассоциируют со всеми предметами, поражающими их чувства и воображение, тайные силы, магические свойства, что-то вроде души или жизненного начала, не следует думать, что первобытные люди загромождают свои восприятия анимистическии верованиями. Здесь нет никакого ассоциирования. Мистические свойства предметов и существ образуют 27 28 составную часть имеющегося у первобытного человека представления, которое в любой данный момент являет собой неразложимое целое. ...То, что мы называем опытом, и что в наших глазах имеет решающее значение для признания или непризнания чего-то реальным, оказывается бессильным по отношению к коллективным представлениям. ....За неимением лучшего термина, я назову “законом партиципации” характерный принцип “первобытного” мышления, который управляет ассоциацией и связями представлений в первобытном сознании. Так, например, “трумаи (племя Северной Бразилии) говорят, что они водяные животные. Бороро (соседнее племя) хвастают, что они - красные арара (попугаи)”. Это вовсе не значит, что только после смерти они превращаются в арара или что арара являются превращенными в бороро и поэтому достойны соответствующего обращения. Нет, дело обстоит совершенно иначе. “Бороро, говорит фон ден Штейнен, -...бороро совершенно спокойно говорят, что они уже сейчас являются настоящими арара, как если бы гусеница заявила, что она бабочка”. Значит, это не имя, которое они себе дают, это не провозглашение своего родства с арара, нет, на чем они настаивают, это то, что между ними и арара существует тождество по существу. Однако, для мышления, подчиненного “закону партиципации”, в этом нет никакой трудности. Все общества и союзы тотемического характера обладают коллективными представлениями подобного рода, предполагающими подобное тождество между членами тотемической группы и их тотемом. ...Мышление первобытных людей может быть названо пралогическим с таким же правом, как и мистическим. Это скорее два аспекта одного и того же основного свойства, чем две самостоятельных черты. Под термином “пралогический” отнюдь не следует разуметь, что первобытное мышление представляет собой какую-то стадию, предшествующую во времени появлению логического мышления. …Называя его пралогическим, я только хочу сказать, что оно не стремится прежде всего, подобно нашему мышлению, избегать противоречия. …Чаще всего оно относится к ним с безразличием. Этим и объясняется то обстоятельство, что нам так трудно проследить ход этого мышления. ...Почему, например, какое-нибудь изображение, портрет являются для первобытных людей совсем иной вещью, чем для нас? …Очевидно, дело в том, что всякое изображение, всякая репродукция “сопричастны” природе, свойствам, жизни оригинала. …В силу мистической связи между оригиналом и изображением, связи, подчиненной “закону партиципации”, изображение одновременно и оригинал, подобно тому как бороро суть в то же время арара. Значит, от изображения можно получить то же, что и от оригинала, на оригинал можно действовать через изображение. ...Дальше я рассмотрю лишь с формальной точки зрения известное количество магических и религиозных обрядов в целях показать в них игру механизма пралогического мышления; эти обряды вытекают из указанных представлений: они окажутся вдохновляемыми и опирающимися на веру в наличие сопричастия. Таковы, например, верования, относящиеся к разным видам табу. Когда австралиец или новозеландец, устрашенный мыслью о том, что он, не ведая того, поел запретной пищи, умирает от нарушения табу, то это происходит потому, что он чувствует в себе неизлечимое смертельное влияние, проникшее в него вместе с пищей. Самим влиянием этим пища также обязана 28 29 “сопричастию”, будь то, например, остатки трапезы вождя, которые по неосторожности доел обыкновенный человек. Такие же представления лежат в основе общераспространенного верования, согласно которому известные люди превращаются в животных каждый раз, когда они надевают шкуру этих животных (например, тигра, волка, медведя и т.д.). В этом представлении для первобытных людей все является мистическим. Их не занимает вопрос, перестает ли человек быть человеком, превращаясь в тигра, или тигром, делаясь снова человеком. …Точно также гуичол, который надевает на голову перья орла, имеет целью не только украсить себя и не это главным образом. Он помышляет о том, чтобы при помощи перьев приобщиться к зоркости, прозорливости, силе и мудрости птицы. Сопричастие, лежащее в основе коллективного представления, - вот что заставляет его действовать таким образом. ...В пралогическом мышлении память имеет совершенно иную форму и другие тенденции, ибо материал ее является совершенно иным. Она является одновременно очень точной и весьма эффективной. Она воспроизводит сложные коллективные представления с величайшим богатством деталей и всегда в том порядке, в котором они традиционно связаны между собой в соответствии с мистическими отношениями. ...Особенно замечательной формой этой памяти, столь развитой у первобытных людей, является та, которая до мельчайших деталей сохраняет облик тех местностей, по которым прошел туземец, и которая позволяет ему находить дорогу с такой уверенностью, которая поражает европейца. Эта топографическая память у североамериканских индейцев “граничит с чудом: им достаточно побывать один раз в каком-нибудь месте для того, чтобы навсегда точно запомнить его. Каким бы большим и непроходимым ни был лес, они пробираются сквозь него не плутая, как только они достаточно сориентировались. ...Остается показать, что образ и способы действия и поведения первобытных людей находятся в полном соответствии с их образом мышления в том их виде, в каком они были нами анализированы, что в их учреждениях находят себе выражение их коллективные представления с тем мистическим и пралогическим характером, который мы за ними признали. ...Возьмем сначала те действия, посредством которых общественная группа добывает себе пищу или, говоря более узко, рассмотрим охоту и рыбную ловлю. Успех зависит здесь от известного количества объективных условий, от наличия дичи или рыбы в определенном месте, от предосторожностей, которые дают возможность не вспугнуть их при приближении, от силков и запажней, расставленных для поимки, от метательных снарядов и т.д. Для мышления низших обществ эти условия, будучи необходимыми, не являются, однако, достаточными. Требуется наличие еще и других условий. Если последние не будут соблюдены, то пущенные в ход средства и приемы не достигнут цели, какова бы ни была ловкость охотника или рыболова. Эти средства и приемы должны на взгляд первобытного человека обладать магической силой, они должны быть облечены, так сказать, в результате особых операций мистической мощью совершенно так же, как в восприятии первобытного человека объективные элементы включены в мистический комплекс. Без совершения этих магических операций самый опытный охотник и рыболов не встретит ни дичи, ни рыбы, либо они ускользнут из его сетей, с его крючков, либо его лук или ружье дадут осечку, 29 30 либо добыча, даже достигнутая метательным снарядом, останется невредимой, либо, наконец, даже будучи раненой, она затеряется так, что охотник ее не найдет. Мистические операции отнюдь не являются также простой прелюдией к охоте или рыбной ловле подобно, например, мессе св. Губерта (покровителя охотников у католиков), так как в последнем случае существенной считается все же сама охота. Напротив, для пралогического мышления этот момент не является наиболее важным. Существенными для него являются мистические операции, которые одни в состоянии обеспечить наличие и поимку добычи. Без этих операций не стоит даже и приниматься за дело. ...Первобытное мышление, как и наше, интересуется причинами происходящего, однако оно ищет их в совершенно ином направлении. Оно живет в мире, где всегда действуют или готовы к действию бесчисленные, вездесущие тайные силы. …Первобытный человек не отправится на охоту или рыбную ловлю, не пустится в поход, не примется за обработку поля или постройку жилища, если при этом не будет благоприятных предзнаменований, если мистические хранители социальной группы не обещали формально своей помощи, если те самые животные, на которых собираются охотиться, не дали своего согласия, если охотничьи и рыболовные снаряды не освящены и не осенены магической силой и т.д. Одним словом, видимый и невидимый мир едины, и события видимого мира в каждый момент зависят от сил невидимого. Этим и объясняется то место, которое занимают в жизни первобытных людей сны, предзнаменования, гадания в тысяче разных форм, жертвоприношения, заклинания, ритуальные церемонии, магия. Этим и объясняется привычка первобытных людей пренебрегать тем, что мы называем естественными причинами, и устремлять все внимание на мистическую причину, которая одна будто бы и является действительной. ...Это сравнительное исследование освящает нам также и нашу собственную умственную деятельность. …Разумение в собственном смысле стремится к логическому единству, оно провозглашает необходимость такого единства. В действительности, однако, наша умственная деятельность является одновременно рациональной и иррациональной. Пралогический и мистический элементы сосуществуют в нем с логическим. С одной стороны, логическая дисциплина стремится навязать себя всему, что представляется и мыслится. С другой стороны, коллективные представления социальной группы, даже когда они носят чисто пралогический и мистический характер, стремятся сохраниться возможно дольше, подобно религиозным, политическим и т.д. институтам, выражением которых, а в другом смысле и основанием которых они являются. Отсюда и проистекают конфликты мышления, столь же трагические, как и конфликты совести. Источником этих конфликтов является борьба между коллективныи привычками, более древними и более новыми, различно направленными, которые так же оспаривают друг у друга руководство сознанием, как и различные по своему происхождению требования морали раздирают совесть. Именно этим, несомненно, и следовало бы объяснить мнимые битвы разума с самим собой, а также то, что есть реального в антиномиях разума. И если только верно, что наша умственная деятельность является одновременно логической и пралогической, то история религиозных догматов и философских систем может впредь оказаться озаренной новым светом. 30 31 К ТЕМЕ № 4. ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. М.К. Петров. Язык, знак, культура. М., 1991 (стр. 21-128). Основным средством общения и его орудием справедливо считается язык, знаковый способ воздействия друг на друга людей единой языковой и, обычно, социальной принадлежности, для достижения самых различных целей. ...Поводы, цели, формы, назначения, запланированные и незапланированные эффекты общения настолько пестры и многообразны, что любая попытка их классификации всегда будет огрубляющей и неполной. …Мы же ограничиваемся предельным минимумом видов общения, обеспечивающих функционирование социокода. В такой минимум должны, видимо, войти обеспечение целостности и координации, обеспечение передачи фрагментов знания новым поколениям, обеспечение социализации результатов познавательных усилий индивидов, для которых мы предлагаем соответственно термины: коммуникация, трансляция, трансмутация. Коммуникация в последующем изложении - самый широкий и поэтому наиболее редко употребляемый термин, связанный с координацией деятельности тех, кто уже стал “живущим поколением”, …т.е. прошел процедуру социализации, унаследовал какой-то фрагмент знания, стал полноправным членом общества. ...В целом же коммуникация, постоянно напоминая индивидам о существовании норм и правил, бесспорно, работает на закрепление и стабилизацию реалий социокода, на их притирку и подгонку, на поддержание и сохранение однозначных соответствий между массивом знания и миром деятельности. Трансляция в последующем изложении будет означать общение, направленное на социализацию входящих в жизнь поколений, на их уподобление старшим средствами соответствующих институтов и механизмов. Трансляция всегда направлена от старших к младшим, и, поскольку человеческий материал детства и юности в любых культурах один и тот же, направленные на уподобление младших старшим усилия, приемы, методы не могут не иметь общего. Основной элемент трансляционной структуры “ученик учитель” универсален для всех типов культуры, хотя каждый из типов накладывает свои ограничения на должность учителя. Трансмутация ниже будет означать все разновидности общения, в результате которого в социокоде, в одном из фрагментов и в соответствующем канале трансляции появляются новые элементы знания, или модифицируются наличные, или одновременно происходит и то и другое. Роли воспитателя и новатора, учителя и исследователя часто совпадают, как две роли одного и того же лица. Такое совпадение, к примеру, широко признается как норма академической жизни. Но то все же две разные роли с различными задачами, целями и ориентирами. ...Любое общество на любом этапе его существования обладает некоторым массивом социально необходимых форм деятельности, причем массив этот намного превышает возможности отдельно взятого индивида, требует фрагментации в некоторое множество посильных для индивидов, сопряженных и дополняющих друг друга видов деятельности. В отличие от биокода пчел, муравьев, термитов, биокод человека не справляется с задачей 31 32 воспроизводства этих фрагментированных видов деятельности в смене поколений, что вынуждает все виды социальности искать внебиологические средства кодирования, иметь долгоживущий, рассчитанный на множество поколений, бессмертный и вечный с точки зрения смертного индивида “социокод”, несущий примерно тот же набор функций, что и биокод для других видов. Материалом, “геном” социального кодирования как раз и является знак. ...Присутствие в социальном кодировании и в человеческом общении имен индивидуализирующих адресов может, по нашему мнению, рассматриваться как отличительный признак человеческого общения. Сегодня, когда расплывчато определенные понятия “знак”, “общение”, “язык” переносятся и на животных (пчелы, муравьи, термиты, дельфины), применение критериев адресности (индивидуализирующее имя)... дает возможность отличить человеческое от нечеловечесого... Ниже термины “знак”, “общение”, “значение”, “язык”, “социокод” мы будем употреблять в узкочеловеческом значении как видовую особенность человека, существа социального по необходимости или, что то же, по биологической несостоятельности. Мы не будем развивать эту точку зрения на происхождение общества как на вынужденный, под угрозой вымирания, ответ биологического вида на длительные и неблагоприятные изменения среды. Гл.Ш. Неевропейские типы социального кодирования. Технологическим условием профессинально-именного кодирования выступает наличие большого числа типизированных ситуаций индивидуального социально значимого действия, которые могут стать основанием типизации индивидов в массовую группу-профессию, где каждый “делает одно и то же”, может без затруднений использовать текст деятельности коллеги по профессии, поскольку их тексты идентичны... Это технологическое условие начинает выполняться с появлением земледелия - первой массовой профессии, производно от которой, от единообразия ее запросов на обеспечение и услуги, получают статус массовости и другие профессии: ремесла, управление, защита. Между такими профессиями наблюдаются довольно строгие соотношения, регулирующие их численность. Очевидна зависимость этих соотношений от положения в земледелии, от возможностей земледелия отчуждать часть продукта на нужды других профессий. ...В среднем же 20% отчуждаемого продукта земледелия могут рассматриваться и экономическим и демографическим законом традиционных обществ, живущих по нормам профессионально-именного кодирования. 80% населения должно быть занято в земледелии, где также возможно почкование по профессиональному принципу, а 20% населения может распределяться в другие профессии, быть гончарами, плотниками, парикмахерами, кузнецами, воинами, писарями, правителями вплоть до мумификаторов в Египте или душителей в Индии. Присутствие в механизме социального кодирования семьи как основного транслятора освоенных профессиональных навыков делает либо все, либо подавляющее большинство профессий наследственными: сын наследует навыки отца. Межпрофессиональная миграция обычно крайне невелика и носит компенсирующий характер - институт ученичества, общественные работы, духовно-религиозные ордены не только поглощают избыточное население, но и постоянно корректируют демографические параметры распределения населения в профессиональную матрицу или, что то же, в матрицу 32 33 фрагментирования корпуса социально необходимой деятельности по контурам сил и возможностей индивида. ...Профессионал не может по собственному произволу изменить ассортимент поставляемых в другие семьи продуктов и услуг, предложить, скажем, земледельцу вместо привычного набора хозяйственного инвентаря какой-то иной, непривычный, хотя, возможно, и более эффективный. И дело здесь не только в непривычности, но и в согласованности межпрофессиональной кооперации, когда попытка плотника, например, “внедрить” новый продукт наткнется на неготовность кузнеца или шорника дополнить этот продукт до действующей схемы. Иными словами, этот первый и, видимо, основной тип трасмутационного общения не может, похоже, выйти за пределы того, что мы привыкли называть “рационализацией” эволюционным совершенствованием наличного технологического арсенала без попыток обновления его номенклатуры. ...Второй тип допустимого для традиции трансмутационного движения связан с принципиальной возможностью увеличения объема транслируемого обществом знания через увеличение числа профессий, т.е. общей емкости социокода. …Хотя традиция использует, как правило, ценностные иерархии профессий, располагая их по шкале “высокие-низкие” (кастовая иерархия в Индии, например), традиция не знает “легких” профессий, которые не требовали бы от индивида полной отдачи, освобождали его голову и руки для непрофессиональных занятий. Даже “интеллектуальные” профессии вроде ремесла писаря, государственного чиновника, жреца требуют от индивида полной отдачи сил либо из-за сложности навыка, либо из-за обилия клиентуры, числа замыканий на другие семьи. ...При любых оговорках и поправках рост числа профессий есть для традиционного общества и рост емкости социокода, корпуса транслируемого обществом знания. ... Статичный, воспроизводящийся в смене поколений характер контактов, транслирующих деятельность (контакт поколений в семье), …а также присутствие в этих контактах ограничений по вместимости индивидов придают такому развитию особое направление, особый вектор “движения в специализацию”. Эти контакты и их ограничения “структурируют” традиционное развитие в том смысле, что они, как мы пытались показать выше, ограничивают и определяют возможные формы ввода нового знания в социокод на предмет трансляции и процедуры такого ввода-социализации. ...Путь в специализацию через умножение изолированных друг от друга очагов профессионального знания, каждый из которых лимитируется вместимостью индивида, если этот путь рассматривается как “естетвенный” вектор традиционного развития, неизбежно ограничен некоторым пределом развитости. Этот предел очевидно производен и от внутренних, и от внешних причин, прежде всего от уровня внешних помех. Движение в специализацию необратимо: любая новая профессия отпочковывается от материнской, налаживает свою особую систему профессионального общения в трансмутационной и трансляционной формах, и, поскольку такое общение сопровождает дренаж морально стареющих профессиональных навыков, между материнской и отпочковавшейся профессиями неизбежно возникает со временем информационный разрыв, закрепляющий дифференциацию профессий в системе межсемейных контактов. …В любой момент на пути традиционного развития общество может двигаться либо дальше в 33 34 специализацию, либо стоять на месте, но не может вернуться вспять, сокращая число профессий и соответственно число различений в матрице фрагментирования. Векторность и необратимость традиционного развития как раз и создают тот хорошо известный историкам тип стадиального развития: начало - расцвет увядание - катастрофа - начало, …который усилиями Шпенглера и Тойнби стал едва ли не самой популярной схемой формализации исторического процесса. ... И все же при всей избитости и бородатости цикличность развития характерная черта традиционных обществ: двигаясь в специализацию, в умножение профессий и в усложнение матрицы обмена, традиционное общество рано или поздно попадает в область неустойчивости и гибнет от внешне незначительных причин. Гибель эту, по правде говоря, следует понимать со значительной долей условности: разрушению подвергаются надстроечные профессионализированные навыки управления: “гибнут” правители, воины, государственные чиновники, писаря и т.п., тогда как основной набор профессий, сам принцип трансляции сохраняются. Е.М. Мелетинский. Поэтика мифа. М., 1995. (стр.163-171). Для правильного понимания природы мифа необходимо хотя бы самое краткое рассмотрение мифа и мифологии в наиболее типичных, так сказать “классических” формах, которые свойственны не только и не столько “классической древности” (вопреки многовековой популярности греко-римской мифологии в сфере европейской цивилизации), сколько обществам более архаическим, чем античное. В этих обществах мифология является доминантой духовной культуры; будучи своеобразным отражением принятых форм жизни, мир мифических сверхъестественных существ воспринимается в качестве первоисточника этих форм и как некая высшая реальность. Причудливая фантастичность первобытной мифологии и ее стихийный идеализм не исключают, однако, познавательного значения мифологических классификаций и упорядочивающей роли мифов в социальной жизни племени. В самом порождении и функционировании мифов практические потребности и цели, безусловно, преобладают над умозрительными, в то же время мифология скрепляет еще слабо дифференцированное синкретическое единство бессознательнопоэтического творчества, первобытной религии и зачаточных донаучных представлений об окружающем мире. В древних цивилизациях мифология была исходным пунктом для развития философии и литературы. …Как синкретическая, притом древнейшая идеологическая форма, стоящая у колыбели более развитых и дифференцированных идеологических форм, мифология оказывается им в чем-то гомогенной, откуда, однако, вовсе не следует, что современные философия, политика, искусство, право и даже развитые религии могут быть сведены к мифологии, как-то в ней раствориться (такая тенденция имеется в мифологизме ХХ в.). Наоборот, здесь должны быть учтены качественные исторические различия между архаическими культурами и современной цивилизацией, каковы бы ни были ее противоречия. Известная неотделимость мифологического воображения от психологического субстрата, наличие некоторых общих свойств во всех продуктах человеческого воображения не должны вести к отождествлнию мифов со снами, видениями, продуктами спонтанной познавательной фантазии, к взаиморастворению 34 35 мифологии в психологии и психологии в мифологии. По сравнению с такого рода игрой воображения мифология более социальна и идеологична, причем ее социальность выходит за рамки “коллективно-бессознательного” творчества. …К “первобытному мышлению” имеется ряд убедительных параллелей из области детского мышления, хотя эти параллели ограничены качественными различиями между процессами формирования индивидуальной психики, а также логического аппарата у детей и социальным опытом в архаических обществах. ...Диффузность первобытного мышления проявилась и в неотчетливом разделении субъекта и объекта, материального и идеального (т.е. предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени), вещи и ее атрибутов, единичного и множественного, статичного и динамичного, пространственных и временных отношений. Пространственно-временной синкретизм сказывается в изоморфизме структуры космического пространства и событий мифического времени. Первобытному мышлению также свойственно чрезвычайно слабое развитие абстрактных понятий (что, как известно, широко подтверждается этнолингвистическими данными), вследствие чего классификации и логический анализ осуществляются довольно громоздким образом с помощью конкретных предметных представлений, которые, однако, способны приобретать знаковый, символический характер, не теряя своей конкретности... Сближение объектов по их внешним вторичным чувственным качествам, по смежности в пространстве и времени, может преобразоваться в причинно-следственную связь, а происхождение - в известном смысле подменить сущность. Последняя черта (характерная и для детского мышления) чрезвычайно существенна, так как ведет к самой специфике мифа, моделирующего окружающий мир посредством повествования о происхождении его частей. Само логическое мышление еще слабо отдифференцировано от эмоциоциональных, аффективных, моторных элементов, что не только облегчает всякого рода “партиципации” (в леви-брюлевском смысле), но мотивирует многое в ритуально-магической практике. ...Мифологическая логика широко оперирует бинарными (двоичными) оппозициями чувственных качеств, преодолевая, таким образом, “непрерывность” восприятия окружающего мира путем выделения дискретных “кадров” с противоположными знаками. Эти контрасты все более семантизируются и идеологизируются, становясь различными способами выражения фундаментальных антиномий типа жизнь/смерть и т.п. Преодоление этих антиномий посредством прогрессирующего посредничества, т.е. последовательного нахождения мифологических медиаторов (героев и объектов), символически сочетающих признаки полюсов, является ярким проявлением логики бриколажа. Разумеется, подобное “разрешение” конфликтов иллюзорно, что, впрочем, не исключает практической, “гармонизирующей” функции мифологических медиаций. ... Прежде всего, мифологическая мысль сконцентрирована на таких “метафизических” проблемах, как тайна рождения и смерти, судьба и т.д., которые в известном смысле перифеийны для науки и по которым чисто логические объяснения не всегда удовлетворяют людей даже в современном обществе. Этим отчасти объясняется известная живучесть мифологии, а следовательно, и право на ее рассмотрение в синхроническом плане. 35 36 …Мифология не только не сводится к удовлетворению любопытства первобытного человека, но ее познавательный пафос подчинен гармонизирующей и упорядочивающей целенаправленности, ориентирован на такой целостный подход к миру, при котором не допускаются даже малейшие элементы хаотичности, неупорядоченности. Превращение хаоса в космос составляет основной смысл мифологии, причем космос с самого начала включает ценностный, этический аспект. Мифологические символы функционируют таким образом, чтобы личное и социальное поведение человека и мировоззрение (аксиологически ориентированная модель мира) взаимно поддерживали друг друга в рамках единой системы. Миф объясняет и санкционирует существующий социальный и космический порядок в том его понимании, которое свойственно данной культуре; миф так объясняет человеку его самого и окружающий мир, чтобы поддерживать этот порядок; одним из практических средств такого поддержания порядка является воспроизведение мифов в регулярно повторяющихся ритуалах. Дело здесь никак не сводятся к обрядовой магии: создается своего рода мифологический баланс между представлениями об окружающем мире и нормами поведения, который “метафизически” подкрепляет социальную и природную гармонию, душевное и общественное равновесие. Между “объяснением” мира (к чему сводилось понимание мифологии в Х1Х веке) и его прагматической функцией по поддержанию социального и природного порядка (космоса) существует нечто вроде “обратной связи”, обеспечивающей восстановление единства и упорядоченности мира, в том случае если они нарушаются. Еще раз подчеркнем, что речь идет о самой мифологической концепции, о первобытной онтологии, а не об обрядах, периодически повторяющихся с той же целью. В этнографической литературе, особенно психоаналитического направления, подчеркивается значение мифа для разрешения психологических критических состояний, в частности тех, которые возникают в переломные моменты человеческой жизни (так называемая “травма рождения”, амбивалентное отношение к родителям, половая зрелость и переход во взрослую мужскую группу, смерть родичей и т.д.) и сопровождаются соответствующими “переходными обрядами”... ...В еще большей мере, чем гармонизацией индивида и социума, миф занят гармонизацией взаимоотношений социальной группы с природным окружением. Миф глубоко социален и даже социоцентричен, поскольку ценностная шкала определяется общественными интересами рода и племени, города, государства. ...Как уже указывалось выше, преломляя принятые формы жизни, миф создает некую новую фантастическую “высшую реальность”, которая парадоксальным образом воспринимается носителями соответствующей мифологической традиции как первоисточник и идеальный прообраз (т.е. “архетип”, но не в юнгианском, а в самом широком смысле слова) этих жизненных форм. Моделирование оказывается специфической функцией мифа. Практически мифологическое моделирование осуществляется посредством повествования о некоторых событиях прошлого. ...Всякий достаточно значительный (с точки зрения племенного сознания) сдвиг проецируется в прошлое, на экран мифологического времени, включается в повествование о прошлом и в стабильную семантическую систему. 36 37 Исторически изменяясь вместе с самой действительностью, мифологическая семантическая система сохраняет ориентацию на прошлое и придерживается повествования о прошлом как основного и специфического способа самовыражения. Е.А. Торчинов. Религии мира. Опыт запредельного. С.-Пет.,1997 (стр. 148167). ... Даосизм, вышедший из недр архаической религиозности периода ее кризиса середины 1 тыс. до н.э., сохранил более тесную связь с ее проявлениями, нежели другие конфессии. …И начать мы должны с центральной категории даосизма - понятия дао (Путь; Истинный Путь) как обозначения первоосновы мира, источника жизни и предела всякого существования, нормы и меры всего сущего. Образ дао как женственного материнского начала является ключевым для понимания сущности психотехнической направленности даосизма. Э.М. Чжэнь в статье, посвященной роли женственного в китайской философии, отмечает несколько значений дао у Лао-цзы, позволяющих предположить, что формированию учения о дао как философской концепции предшествовало почитание некоей богини-матери, с культом которой генетически связан даосизм... Образ лона и зародыша часто употребляется даосами для описания отношения “дао-мир”. Таким образом, дао оказывается Матерью Мира, источником бытия и жизни, что весьма существенно для понимания даосского учения о бессмертии, рассматривающего дао как животворящее начало, дарующее через причастность ему бессмертную жизнь своему адепту. ...Именно нежное и мгкое тельце младенца символизирует в даосизме полноту и завершенность жизненности. Точнее, новорожденный и есть само ее средоточие, как бы сгусток жизненной энергии. …Однако тема “Младенец-Мудрец” не исчерпывается метафорой новорожденного. Гораздо глубже и интереснее образ нерожденного младенца, играющий важную роль в учении “Дао дэ цзина” (“Каноническая книга Пути и его Благой Силы”). ...Данный образ непосредственно коррелирует с даосской космологией и космогонией. В ней дао оказывается как бы космическим лоном, охватывающим весь универсум, пребывающий в неразрывном единстве …с материнским телом Пути вплоть до своего рождения - дифференциации и обособления от дао в процессе космогенеза. Тем не менее даже “рожденный мир” сохраняет определенное единство с дао, будучи вскармливаем его Благой Силой (дэ). ...Таким образом, сформировавшийся в ходе космогонического процесса мир сохраняет связь с дао, аналогичную связи новорожденного с кормящей матерью. Только человек в силу появления у него восприятия себя в качестве обособленного, самодовлеющего “я”, неизменного субъекта действий, нарушает это исходное единство и даже начинает поступать наперекор ему, руководствуясь в своих установках и поступках не закономерностью космического ритма дао-Пути, а собственными предпочтениями. ...Отсюда и все страдания и бедствия человека, начиная от его смертности и кончая социальными коллизиями. Единственное средство не только избавиться от этих страданий, но и обрести высшее счастье - это восстановить исходное единство с дао, расширить свое сознание, отказавшись от шор эгоцентрической установки, то есть вернуться к состоянию нерожденного младенца, для которого не существует грани между собственным и материнским телом, который дышит дыханием матери и питается пищей матери. ...Это состояние нерожденного 37 38 младенца есть состояние бессмертия, покоя, пребывания в единстве со всем сущим и в согласии со своей собственной исконной природой. ...К первым векам новой эры уже сложилось учение об обожествленном Лао-цзы. …Обожествленный Лао-цзы стал ассоциироваться с дао и с первоначальным хаосом - недифференцированной энергетической пневмой, истоком мироздания. …Более того, отождествленный с хаосом в его мифологической персонификации - Пань-гу (космический первочеловек, типологически близкий Вират-Пуруше Ригведы и Адаму Кадмону каббалистической традиции), Лао-цзы стал восприниматься как создатель мира: “Лао-цзы изменил свое тело. Его левый глаз стал солнцем, его правый глаз луной, его голова - горой Куньлунь, его борода - планетами и небесными пространствами, его кости - драконами, его плоть - четвероногими, его внутренности - змеями”. ...Даосизм учит, что тело человека является микрокосмом, образом и подобием макрокосма - вселенной. “Человек - это малое Небо и Земля”, - говорит даос ХУ1-ХУП вв. У Чун-сюй. Это учение, очень важное для всей даосской традиции, характерно и для многих других религиознофилософских концепций как на Востоке, так и на Западе, включая и христианство, особенно в его гностическом варианте. К ТЕМЕ № 5. СТАНОВЛЕНИЕ АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ: ПЕРЕХОД ОТ МИФА К ЛОГОСУ. Петров М.К. Язык, знак, культура. М. , 1991 (стр. 145-179). ... “Начало” европейского кодирования не может быть обосновано по внутренним линиям развития профессионально-именного социокода, не может быть показано в эволюционном плане движения по единой дороге развития как закономерный “следующий” этап или момент этого движения в развитость. ...Существуют ли доказательные свидетельства того, что начинали именно с традиционного социокода и что попытки идти в традиционную развитость постоянно пресекались? ...Во-первых, это упоминания о Крите и Ахейском царстве в египетских и хеттских документах ХУ-ХШ вв. до н.э., где они выглядят традиционными социальными образованиями в отличие от гомеровских времен. …Во-вторых, расшифрованная часть табличек крито-микенского периода (письмо В) фиксирует типичную картину развитого профессионализма. Упоминаются как профессионалы: земледельцы, овцеводы, скотоводы, свинопасы, пчеловоды, воины, гребцы, гончары, плотники, кузнецы, оружейники, золотых дел мастера, каменщики, письмоносцы, хлебопеки и т.п. В-третьих, в поэмах Гомера и Гесиода, а также у более поздних авторов обнаруживаются явные следы остаточного наследственного профессионализма, причем сам факт трансляции через семейный контакт поколений идентифицируется по связи с традиционной социальностью. Геродот, например, так сближает Спарту и Египет: “А вот следующий обычай лакедемонян похож на египетский. У них глашатаи, флейтисты и повара наследуют отцовское ремесло. Сын флейтиста становится флейтистом, сын повара - поваром, а глашатая - глашатаем. На смену потомкам глашатаев не назначают посторонних 38 39 из-за зычного голоса, но должность остается в той же семье. Такие наследственные обычаи хранят спартанцы” (История, У1,60). В-четвертых, пантеон олимпийских богов, каким он представлен у Гомера, Гесиода и у более поздних авторов, построен по обычной традиционной схеме личного имени - носителя текста профессии и ее покровителя. Это дает, например, право тому же Геродоту отождествлять олимпийцев с богами Египта по функции покровительства, говорить о египетском происхождении греческих богов (История, П). Эти прямые и косвенные свидетельства кажутся нам достаточно убедительными для подтверждения тезиса о традиционном “начале” европейской культуры. Несколько сложнее, но, на наш взгляд, все же достаточно убедительно обнаруживает свое присутствие и барьер-стенка, некая долговременная причина, стопорящая традиционное развитие и разрушающая традиционную социальность. Прежде всего это хорошо известный археологам шкальный эффект раскопок в бассейне Эгейского моря. С ХХ в. до н.э. пласты и горизонты дают картину деградации социальности: под развалинами Трои, например, или Кносса обнаруживаются еще более пышные развалины. Социальность вырождается как с точки зрения ее объема по числу связанных в единство людей, так и с точки зрения мастерства. ...Далее, общая деградация социальности до карликовых форм “домагосударства” сопровождается значительными потерями знания, снижением стандарта мастерства, исчезновением ряда профессий. Наиболее известным примером такого опрощения является исчезновения письменности вместе с профессией писца. Для социальных единиц типа Одиссеева дома письменность была бы неоправданной роскошью. Наконец, с точки зрения развитой традиции наиболее показательным свидетельством упадка может служить феномен совмещения профессий очевидный результат “противоестественной” интеграции нескольких профессиональных текстов на базе возможностей индивида и перехода их в личные навыки такого индивида. В поэмах Гомера почти все герои демонстрируют эту совмещенность, и прежде других - Одиссей. “По природе” плотник, т.е. “рабочий Афины”, он вместе с тем земледелец, царь, пират, воин, навигатор, искусный дипломат и политик, тароватый на выдумки творец и исполнитель в самом широком диапазоне деятельности - от строительства плота до избиения численно превосходящих претендентов на руку Пенелопы. С точки зрения традиции такая многосторонность - абсурд, невозможно быть мастером во всех делах сразу без резкого снижения стандартов мастерства. ...Принятое большинством историков объяснение прогрессирующей деградации социальности и “греческого чуда” вообще от катастроф-нашествий, если оно и удовлетворяет принципу внешности, навязанности, то все же вызывает ряд сомнений как раз по линии научного, типизирующего подхода. …Любая вызванная нашествиями катастрофа развитой традиционной социальности не отменяет традицию, и на развалинах традиционной социальности возникает однотипная в культурном отношении, столь же традиционная социальность. ...Бессмысленно было бы отрицать нашествия и вторжения - они были, и их факты достаточно хорошо документированы. …Но с точки зрения этнической однородности региона, которая столь же бесспорно устанавливается 39 40 принадлежностью табличек и классических произведений греков к одному и тому же языковому субстрату, нашествия и вторжения могут быть лишь сопричинами - катализаторами процесса гибели традиции в этом районе, а не причинами появления нового типа социального кодирования. ...Здесь в сферу нашего внимания, раз уж мы ищем причину локальную, а не внешнюю в географическом и этническом отношениях, как раз и попадают географические особенности экологической ниши греческой социальности. В отличие от других традиционных социальностей континентального (Египет, Двуречье, Китай, Индия) или островного типа (Ява, Цейлон, Океания) греческая традиционная социальность была морской по преимуществу. Причем не просто морской, а “эгейской”, стольже специфически морской, сколь специфично и само Эгейское море - забитый островами весьма скромный по площади бассейн, в котором нет такого места, откуда не было бы видно одногодвух соседних островов. Хотя не все острова пригодны для земледелия, благоприятный климат обеспечивает устойчивые урожаи там, где земледелие возможно, - в прибрежной зоне, в долинах. Отличие эгейской социальности от континентальной или островной в том, что здесь крайне затруднен типичный для традиционной государственности маневр по плотности насыщения профессионалами территории страны, когда воинов, скажем, можно располагать на границах или в местах повышенной опасности, чиновников концентрировать в административных центрах, создавая тем самым сравнительно благоприятные “тыловые” условия существования земледельцев и ремесленников на основной части территории страны. Эгейская цивилизация не имеет глубины, “тыла”. Она привязана либо к осторовам, либо к узкой полосе побережья и в этом смысле вся сплошь “погранична”. ...Нам кажется, что в конкретных географических условиях Эгейского моря многовесельный корабль - наиболее вероятный претендент на должность долговременной стопорящей причины. Благонамеренность его появления на свет не вызывает сомнений. Многовесельный корабль с достаточно внушительной вооруженной командой обеспечивал непререкаемый авторитет центральной власти, целостность разбросанной по островам социальности, надежное функционирование внутренних коммуникаций. …По этим критериям очевидной пользы многовесельному кораблю ничего не стоило проникнуть в традиционный социокод и закрепиться в нем в качестве весьма полезного и перспективного начинания “рабочих Афины” - плотников. С другой, “коварной” стороны, многовесельный корабль есть, по сути дела, плавающий остров, сравнимый по силе с естественным островом или участком побережья. Античность прекрасно понимала эту силовую силовую особенность корабля. Ксенофонт писал: “Властителям моря можно делать то, что только иногда удается властителям суши, - опустошать землю более сильных; именно можно подходить на кораблях туда, где или вовсе нет врагов, или где их немного, а если они приблизятся, можно сесть на корабли и уехать..” (Афинская полития, П,4) Как раз это “можно сесть на корабли и уехать” превращает многовесельный корабль при всей его внешней респектабельности и очевидной пользе в “джинна из бутылки”. Корабль равно хорошо служит и традиционным, и антитрадиционным целям. Как мощное орудие в руках центральной власти, он охраняет сложившуюся форму социальности, оперативно и действенно подавляя любые сепаратистские движения. Как не менее мощное орудие в руках антисоциальных элементов, пиратов, он разлагает традиционную социальность, 40 41 отчуждая в свою пользу растущую долю продукта, который по традиционной норме предназначен совсем для других целей. ...Обеспечивая себя кадрами за счет островного населения, пираты практически неуничтожимы, пока есть “лишние люди”, пока в семьях рождаются не только первые, наследующие профессию отца, сыновья. При этом перспектива разорить земледелие и лишиться средств к жизни мало трогает пиратов. Античные и предантичные пираты не профессионалы, а скорее переселенцы, избыточное население, которое ищет входа в социальность, чтобы основать свой дом и перестать быть избыточным. ...Эта последовательность: нападение-уничтожение взрослых мужчин, порабощение женщин и детей, оседание на захваченных землях - особенно характерна для эпохи “начала”. Вторжения и нашествия только завершат начатое кораблем дело, окончательно уничтожат венчающий традицию институт профессиональной государственности как нечто несовместимое с новыми условиями жизни. ...Создавая и поддерживая угрозу нападения как нечто постоянно пребывающее за линией горизонта, корабль ставит за каждым жителем побережья тень воина. ...Так что жителям островов и побережья не остается ничего другого, как принимать эту дополнительную нагрузку воинских навыков, осваивать их с той прилежностью и старательностью, которые приходят к человеку, когда речь идет о жизни и смерти. Поскольку же человек смертен, поколения приходят и уходят, “как листья на ветви ясеня”, каждый будущий пират до поры до времени остается жителем побережья, как и всякий бывший пират становится, если повезет, жителем побережья. ...Многовесельный корабль, таким образом, не был просто “стопорящей причиной”, он, похоже, играл роль учителя философии... Структурные аналогии палубной ситуации обнаруживаются в структурах полисной социальности. И, это естественно, “плавающая сила” или “плавающий остров” и негативно и позитивно (оседание пиратов) формировали по собственному образу и подобию прибрежную и островную социальность. Палуба многовесельного корабля - типичный тренажер субъектсубъектного отношения, где все воли, таланты, умения формализовать каноничесую ситуацию и принимать решения отчуждены в голову одного, а умение оперативно декодировать язык в деятельность распределено по многочисленной группе исполнителей, причем от того, насколько однозначно, без искажений и вольностей, без промедлений и размышлений декодируется этот знак, зависит судьба всех - и того, кто кодирует, и тех, кто кодирует. На палубе господствует “слово”, а “дело” ходит у него в подчинении, уподобляется слову, нюансам слова. Это и есть то самое отношение: “один разумно движет, оставаясь неподвижным, другой разумно движется, оставаясь неразумным”, ...которое составляет смысл субъект-субъектного отношения. ...Отчетливые следы палубной ситуации, где нельзя без субъетсубъектного отношения и господства слова над делом, мы обнаруживаем повсюду. Одиссеев дом, например, как, вероятно, и менее импозантные дома его современников и как, это уже наверняка, социальные структуры современных “развитых” обществ, строится по этому палубному принципу отчуждения способности судить и решать в вышестоящие инстанции... На пути к социальным единицам более высокого уровня гомеровские греки имели пока еще слабо оформленный и лишь факультативно действующий по вполне конкретным поводам институт народного собрания. …Жесткое отделение дел 41 42 дома, где каждый “лишь один повелитель”, от дел общего интереса, где пока еще налицо колебания, явно отражает становление двусоставной формулы человека: всеобщее+частное, где всеобщее суть дела общего интереса, а частное - дела дома. …В горячке государственного строительства грекам, по свидетельству Андокида, удавалось даже впадать в знаковый фетишизм. В 403 г. до н.э., после свержения “тридцати тиранов”, афиняне приняли закон о законе: “Неписанным законом властям не пользоваться ни в коем случае. Ни одному постановлению ни Совета, ни народа не иметь большей силы, чем закон”. ...Это добровольное порабощение знаку, букве можно считать символом завершения перестройки социального кодирования в той его части, которая касается трансляции всеобще- распределенного навыка “жизни сообща”. ...Основным институтом трансмутации было Народное собрание, которое определяло и официальную форму новации - предложение, и официальную процедуру признания - запись фесмофетами принятого предложения на правах решения. …Рядом с этим официальным трансмутационным каналом возникают полуофициальные - суд и неофициальные - театр, искусство, философия, но при всем том весьма действенные каналы трансмутации, каналы обработки общественного мнения, в каждом из которых устанавливаются своя форма продукта и своя процедура социализации-признания. С.С.Аверинцев. Греческая “литература” и ближневосточная “словесность” // Вопросы литературы № 8, 1971 (стр. 40-68). ...Греческая художественная культура “нормальна” и “образцова”, или, что то же, “классична”...Греческая “классика” есть “образец” в двух смыслах: как “начало”, “архэ”, как первое и наиболее незамутненное воплощение некоторых творческих установок, которые в бесконечно осложненном виде значимы для нас до сих пор, - и как “парадейгма”, или собственно образец. ...Ближневосточная культурная традиция и культурная традиция греческой античности, в их контрастной сопряженности определившие собой становление европейской культуры, были сопряжены в своих исторических судьбах уже с самого начала. Пуповина, соединявшая Грецию с породившим ее миром средиземноморского Востока, была окончательно перерезана, в сущности, лишь с греко-персидскими войнами, а войны Александра Великого снова воссоединили оба мира. Но как раз за полтора столетия, протекшие между битвой при Саламине (480 г. до н.э.) и битвой при Иссе (333 г. до н.э.), Греция, собственно, и стала Грецией. До У-1У вв. она училась у Востока; после этих полуторасот лет ей самой можно было стать наставницей и для Востока, и для Рима - и для нас. Заметим, что понятия “ученичества” и “наставничества” суть именно те понятия, которые особенно пригодны для обрисовки “общего знаменателя” столь различных культур. Сквозь контраст между ближневосточным и эллинским типами человека проглядывает важное сходство, и состоит оно в особой предрасположенности к “школьным” восторгам умствования, к тому, чтобы видеть в “учении” ценность превыше всех ценностей. Перед мудростью должны отступить на задний план и “мужские” воинские доблести, и простосердечная “душевность”; как ближневосточный человек, так и эллин лелеют не душевное, а духовное. Слов 42 43 нет, мудрость, которую искали восточные книжники, и мудрость, которую искали греческие философы, это вещи разные, во многом даже противоположные. Но для тех и для других умственная выучка есть предмет всепоглощающей страсти, определяющей всю их жизнь, и обладатель ее представляется им самым великим, самым достойным, наилучше исполнившим свое назначение человеком. Римлянину импонирует солидная взрослость делового человека, который именно чувствует себя слишком взрослым, чтобы до гробовой доски оставаться восторженным школяром, дышать школьным воздухом и забывать себя в умственной экзальтации. Как восточный книжник, так и греческий философ могут показаться рядом с римлянином заучившимися детьми-вундеркиндами! Эта страсть предопределила роль как того, так и другого в закладывании дома европейской культуры, в котором мы живем до сих пор. Сравнивая греческое и ближневосточное отношение к слову как образу мира, мы делаем не что иное, как познаем себя. Сравнивать мы должны бережно и осторожно, памятуя, что мы остаемся европейцами, и следовательно, “греками”, а потому наши соображения о противоположном полюсе творческих возможностей легко могут оказаться тем, что русский поэт назвал: “домыслы в тупик поставленного грека”. ...Мы рассматриваем иллюзию всепонимания как смертельную угрозу для гуманитарной мысли, которая всегда есть понимание “поверх барьеров” непонимания. Чтобы по-настоящему ощутить даже самый “близкий” предмет, необходимо на него натолкнуться и пережить сопротивление его непроницаемости; вполне проницаема только пустота. Смысл каждой культуры прозрачен и общезначим в той мере, в которой это есть смысл, то есть нечто по своей сути прозрачное и общезначимое; но столь же верно, что он “загадочен”, а именно постольку, поскольку “загадан” нашему сознанию извне инстанциями, от нас независимыми. ...Мы стали куда богаче наших предков: открытия и дешифровки подарили нам один щедевр за другим - “Сказку о двух братьях” и эпос о Гильгамеше, “Песнь арфиста” и “Повесть о невинном страдальце”, вавилонские “покаянные псалмы” и гимны Атону, угаритские поэмы и хеттские хроники. …Мы узнали, какой зрелой, тонкой, дифференцированной могла быть древневосточная литература; одновременно выяснилось, как много темного и архаического присутствовало в составе самой греческой культуры. Мы стали разумнее: самоуверенный европоцентризм, с легким сердцем деливший народы на “творческие” и “нетворческие”, окончательно выявил для нас свою интеллектуальную и нравственную несостоятельность. ...Речь идет о другом: предполагается, что все различия между ними укладываются в рамки одного равного себе понятия “литературы”, так что само слова “литература” употреблено оба раза в принципиально одинаковом смысле. Примерно так: более ранние хронологически и, как сказали бы несколько десятилетий назад, “стадиально более архаичные литературы народов Ближнего Востока осуществили такие-то и такие-то достижения, а греки “пошли дальше”, сделали еще один, дальнейший шаг по этому же пути, осуществили дальнейший “прогресс” (ведь за словом “прогресс” и стоит образ непреклонного поступательного продвижения по раз начатому пути. Но справедливо ли это? Не вернее ли сказать, что литературы древнего Ближнего Востока, взятые как одно целое, и литература античной Греции, взятая опять-таки как целое, суть все же явления принципиально различного порядка, несоизмеримые между собой, не 43 44 поддающиеся никакому сопоставлению в категориях “уровня” или “стадиальности”, - что это не стадии одного пути, но скорее два разных пути, которые разошлись из одной точки в различных направлениях? ...Существенно, что в обоих культурных мирах - ближневосточном и эллинском - совершенно различен социальный статус литературного творчества. Ближний Восток знает тип “мудреца” - многоопытного книжного человека, состоящего на царской службе в должности писца и советника, а на досуге развлекающегося хитроумными сентенциями, загадками и иносказаниями (“притчами”). …Палестина знала еще тип “пророка” (возвестителя) - экстатического провозвестника народных судеб, несравнимо более склонного к нонконформизму, чем “мудрецы”, кормившиеся из рук сильных мира сего; когда речения “пророков” получили письменную фиксацию, возникли весьма своеобычные произведения. Но ни “мудрецы”, ни тем паче “пророки” никоим образом не были по своему общественному самоопределению литераторами. Ученость на службе царя, вера на службе Бога - и словесное творчество всякий раз лишь как следствие того и другого служения, всякий раз внутри жизненной ситуации, которая создана отнюдь не литературными интересами. Конечно, зрелый тип профессионального литератора и в Греции возникает только в эпоху эллинизма (хотя некий прообраз этого типа явили изумленному миру уже софисты). …Все это так. И все же черты литератора проглядывают уже в зачинателях греческой поэзии, и притом с каждой эпохой все отчетливее. …Но особенно показательно другое - в Греции мы имеем перед собой совершенно чуждый Ближнему востоку тип “непризнанного гения”, “непонятого новатора”, “пролагателя новых путей”, которому остается только уповать на признательность потомства …Мы не могли бы объяснить ближневосточному человеку, что такое “творческое одиночество”, и не только потому, что он никогда не приписывал себе способности “творить” (откуда и проистекает неведомое Греции целомудрие его как бы неличного вдохновения). Но и потому, что у него не было опыта подлинного одиночества - такого одиночества, которое есть не только пустота (“покинутость”, “оставленность”, на которую так горестно жалуется лирический герой 37/38 псалма), но и позитивная смысловая наполненность (“пафос дистанции”). Человек в ближневосточной словесности никогда не остается по-настоящему один, ибо даже тогда, когда рядом с ним нет людей, его утешающий или грозящий Бог всегда рядом, и его присутствие дано как нечто до крайности насущное, конкретное, ощутимое, так что места для холодной интеллектуальной отстраненности от всего сущего просто не остается. ...На Ближнем Востоке каждое слово предания говорится всякий раз внутри непосредственно жизненного общения говорящего со своим Богом и с себе подобными: так, пророк отнюдь не имеет претензий “создать” некий шедевр на века, во вкусе Фукидида, но зато желает быть по-человечески услышанным, и притом незамедлительно. Поэтому это слово - принципиально не-авторское слово, брошенное на волю потока, предоставленное всем превратностям непрекращающегося разговора. В разговоре неважно, кто сказал слово: у любого творца слишком много сотворцов - прежде всего, разумеется, его Бог, затем мудрецы былых времен, из сокровищницы которых он может невозбранно черпать, не страшась упрека в плагиате, и, наконец, вся народная общность, включенная в ситуацию разговора. Важно другое - что слово вообще было сказано, вошло в ситуацию разговора и зажило в ней, беспрерывно меняясь в зависимости от ее перипетий. Отсюда вытекает сущностная 44 45 “анонимность” литературы такого типа, присутствующая даже тогда, когда текст несет на себе имя его создателя (как сочинения пророков). Само собой разумеется, что эта “анонимность” ни в коем случае не означает безличности. …В ближневосточной литературе много своеобычнейших “личностей”, но нет ни одной “индивидуальности”. “Личностью” человек бывает или не бывает независимо от того, что он о себе думает; в качестве “индивидуальности” он самоопределяется - или не самоопределяется - в своем сознании. Исповедуется “личность”, самоопределяется “индивидуальность”; а само-определиться - это значит провести мысленный предел между собой и не-собой, осознать себя как неделимый и от всего отделенный, равный себе самому “атом” …Стало быть, понятие индивидуального “авторства” неизвестно ближневосточным литературам; его функционально замещает понятие личного “авторитета”. …Личное имя - это символ, и употребление таких символов по-своему логично. За основанием иерусалимского культа Яхве стоит образ и авторитет Давида; поэтому связанные с этим культом песнопения, возникшие в различное время, созданы “во имя” Давида или “от” его имени, а поэтому суть “Давидовы псалмы”. …Отсутствие понятия об авторстве, этого неотъемлемого атрибута литераторской психологии, вполне логично, коль скоро литературное слово живет внутри жизненной (а не “духовной”, не “культурной”) ситуации общения. Так обстоит дело и в Египте, и в Вавилоне, и едва ли не более всего в Палестине. ...Греки пошли по иному пути. Эти “изобретатели” изобрели совсем особый, опосредованный, объективированный тип коммуникации через литературу, сознательно отделенный от жизненного общения. Со стихией разговора они поступили по-своему, переместив его вовнутрь литературного произведения и создав драматические жанры и прозаический диалог: теперь уже не литература омывается волнами длящегося разговора Бога и людей, а разговор искусственно воссоздается, имитируется, стилизуется средствами литературы. Диалог - как литературный жанр! Это греческое изобретение едва ли не наиболее отчетливо выявило коренную недиалогичность греческой литературы. Как известно, лучший цвет литературного диалога - это диалоги Платона, а их самый главный герой, самый непременный персонаж и самый яркий образ - Сократ. Но что такое платоновский Сократ? Это идеал радикально недиалогического человека, который не может быть внутренне задет и сдвинут с места словом собеседника, который в пылу спора остается всецело непроницаемым, неуязвимым, недостижимым для всякого иного “я”, а потому в состоянии манипулировать партнерами в беседе, двигать ими как вещами, сам никем не движимый. Такой образ - гениальный литературный коррелят эллинских философских концепций самодовлеющей сущности: и неделимого “единого” элеатов, и демокритовского “атома”, и платоновского “сущностно-сущего” (которое, как известно из “Тимея”, никогда не рождается и никогда не преходит, но всегда есть), и того неподвижного Перводвигателя, о котором будет учить Аристотель. Это “индивидуальность” в полном смысле слова, некое “в себе”. Но чтобы быть раскрытым для сущностного диалога, надо как раз не довлеть себе, искать “источник жизни”, “источник воды живой” вне себя, в другом, будь этот другой Бог или человек: “я” должно нуждаться в “ты”. В ближневосточных преданиях никто не стыдится нуждаться в другом; человек жаждет и алчет преданности другого человека (ср. уже цитированный псалом 37/38) и милости Бога, но и Яхве яростно, ревниво, почти страдальчески домогается человеческого призывания. Греческая философия создает идеал 45 46 “самодовления” (автаркии). Греческий мудрец тем совершеннее, чем меньше он нуждается в каком бы то ни было другом “я”, а философское божество греческих доктрин, этот абсолютизированный прототип самого философа, уже безусловно довлеет себе и невозмутимо покоится в своей сферической замкнутости, ибо для него, как мы знаем уже из Ксенофана, “не приличествует” куда-либо - но значит, и к кому-либо! - порываться. Вот что стоит за образом Сократа, этого “недиалогического” руководителя диалогов. Но ум, неподвластный чужому окликанию, высвободившийся из “диалогической ситуации”, создавший дистанцию между собой и другим “я”, получает невиданные доселе возможности для подглядывания и наблюдения за другими и за самим собой “со стороны”, для объектной характеристики и классификации чужих “я”... Но что это такое - личность, понятая объектно, чужое “я”, наблюдаемое и описываемое, как вещь? Греки ответили на это одним словом: “характер”. Слово это по исходному смыслу означает либо вырезанную печать, либо вдавленный оттиск этой печати, стало быть, некий резко очерченный и неподвижно застывший пластичный облик, который легко без ошибки распознать среди всех других. …Неподвижно-четкая, до конца выявленная и явленная маска это смысловой предел непрерывно выявляющегося лица. Лицо живет, но маска пребывает. У лица есть своя история; маска - это чистая структура, очистившаяся от истории и через это достигшая полной самоопределености, массивной предметной самотождественности. Маска дает облик лица овеществленно, объектно, статуарно, как особое чередование выпуклостей и впадин в единожды напечатленном и навечно застывшем отпечатке печати. ...Различное понимание универсума - вот что стоит за гегемонией повествования в библейской словесности и гегемонией описания в греческой литературе. Греческий мир - это “космос”, по изначальному смыслу слова такой “наряд”, который есть “ряд” и “порядок”; иначе говоря, законосообразная и симметричная пространственная структура. Библейский мир - это “олам”, по изначальному смыслу слова “век”, иначе говоря, поток времени, несущий в себе все вещи: мир как история. Внутри “космоса” даже время дано в модусе пространственности: в самом деле, учение о вечном возврате, явно или латентно присутствующее во всех греческих концепциях бытия, как мифологических, так и философских, отнимает у времени свойство необратимости и дает ему взамен мыслимое лишь в пространстве свойство симметрии. Внутри “олама” даже пространство дано в модусе временного движения - как “вместилище” необратимых событий. Бог Зевс - это “олимпиец”, то-есть существо, характеризующееся своим местом в пространстве. Бог Яхве - это “Сотворивший небо и землю”, то-есть господин неотменяемого мгновения, с которого началась история, и через это - господин истории, господин времени. Структуру можно созерцать, в истории приходится участвовать. Поэтому мир как “космос” оказывается адекватно схваченным через незаинтересованное статичное описание, а мир как “олам”, напротив - через направленное во времени повествование, соотнесенное с концом, с исходом, с результатом, подгоняемое вопросом: “А что дальше?” ...Словесное искусство Ближнего Востока и изящная литература Греции успели пережить эпохи высшего расцвета - времена Исайи и Иезекииля, Гомера и Софокла, - так и не успев встретиться. К тому моменту, когда на ближнем Востоке наконец-то услышали об Эврипиде и Платоне, а в Элладе - о Законе и Пророках, оба творческих принципа уже достигли предельной степени 46 47 четкости и разработанности. Противоположности выяснились: теперь могла начаться драма их взаимодействия. А.Ф.Лосев. История античной эстетики (рання классика). М., 1963 (стр. 50135). Ученые, литераторы и критики всех направлений всегда высоко ценили в античной Греции ее скульптуру и пластику. При этом скульптура рассматривалась отнюдь не только как специфическое искусство, но и как общий метод построения художественного образа во всех областях греческого искусства, литературы, философии и науки. И действительно, этот пластический характер античного искусства и литературы бросается в глаза при первом же взгляде на античность. Невозможно спорить с тем, что самым выдающимся достижением античного искусства является именно скульптура. Невозможно спорить с тем, что греческие боги и герои сконструированы здесь так, что можно как бы видеть их и даже как бы осязать их своим умственным взором. Даже такие области человеческой мысли, по своему существу далекие от зрения и осязания, как математика и астрономия, разрабатывались у греков с поразительной склонностью к физической и чисто зрительной, осязательной наглядности. То, что греческая математика есть почти всегда геометрия и даже стереометрия, это уже давным-давно превратилось в банальную истину и не требует особых доказательств. Античный космос представляет собой пластически слепленное целое, как бы некую большую фигуру или статую или даже точнейшим образом настроенный и издающий определенного рода звуки инструмент. Можно прямо сказать, что в Греции не было ни одной области культуры, где бы эта пластичность не была проявлена в той или иной мере. ...Античная пластика только потому и вырастала здесь с такой огромной силой, что она есть вещественно-телесное понимание жизни, а это последнее самый прямой и самый необходимый результат рабовладельческой формации, понимающей человека именно как физическую вещь, как материальное тело. ...Античное рабство и античная пластика обычно мыслятся в полном разрыве, так что историкам и в голову не приходит, до какой степени интимно и внутренне связаны эти сферы и до какой степени античный гений представляется единством, начиная от своей социально-экономической жизни и кончая самыми утонченными формами искусства. ...Античное сознание, исходя из утверждения прекрасного тела как основного содержания бытия, не знает самостоятельной ценности человеческой личности, а следовательно, и человеческого общества, человеческой истории. Для него бытие застыло в виде прерасной статуи, и никакая история, никакие принципиальные сдвиги ее не колеблют. Она вечно прикована сама к себе; рабом, как гласит учение важнейших античных философов классического периода (включая Платона и Аристотеля), человек является по рождению, по природе. Он, так сказать, раб по своему существу. И только в эпоху эллинизма, т.е. в эпоху падения строгой классики, в эпоху потери Грецией своей независимости, начинают раздаваться голоса в защиту всеобщего равенства. Освобождение раба для классики есть вырождение, декаданс, отказ от строгих классических форм, социальное безобразие, - словом, “безумие”, как говорит Энгельс. А что же свободные, т.е. те, кто свободен по рождению, свободны по природе? ...Но дело в том, что в античности и свободные выступают как рабы, 47 48 но только в другом смысле. ...В античном мире свободные сознают себя рабами общего миропорядка, рабами прежде всего судьбы, рока. ...Античный человек ощущает себя в полной зависимости от круговращения душ, которое неизвестно кто направляет, в полной зависимости от рока, преследующего цели, неизвестные никому, в том числе и ему самому. Платоновский мир идей - как он ни “чист”, как он ни далек от всякой вещественности - весь пронизан стихией судьбы, он так же наивен, бессознателен, безличен и в этом смысле беспомощен, как Эдип, как Антигона. Судьба, скульптурный стиль истории и рабство - это один и тот же принцип, только данный в разных аспектах. Таким образом, в античности существует резкая иерархия рабства, но это иерархия не по степени зависимости и свободы человека, но по смысловому содержанию самого рабства. Одни рабы в одном отношении, другие - в другом, но все одинаковым образом безответны, одинаковым образом связаны во всей своей жизни и смерти, одинаковым образом ничего не знают о последних основаниях своего бытия и поведения. ...С античной точки зрения судьба меньше всего заметна на людях мелких, безвольных, пассивных. Античный человек меньше всего находит предопределения судьбы в тех событиях и людях, которые носят характер механического повиновения и являются простой игрушкой вышестоящих сил. Судьбы и рок ощущаются античным человеком больше всего (если не прямо исключительно) в героических подвигах, в свободных актах разумно действующего большого человека, в его волевом напряжении, в его гордой и благородной независимости, в его мужестве и отваге. ...Исходя их вышеизложенного, можно заключить об органической нерасторжимости таких разнообразных сфер античной жизни, как рабовладение, свободный героизм, вера в судьбу и пластические методы мысли и творчества. ...Человеческое в античности есть телесно человеческое, но отнюдь не личностно человеческое. Человек здесь - это отнюдь не свободная духовная индивидуальность, не неповторимая личность; он, согласно античным представлениям, природно повториим во всей своей индвидуальности. “Вечное возвращение”, “круговорот душ” - любимая античная идея. Тут налицо полное неразличение природы и духа. Но это-то и есть принцип рабства ...Античный человек - это личность природная, т.е. это лишь живое человеческое тело. Правда, для этого тела (поскольку оно именно человеческое, а не животное, не просто физическое) тоже нужна своя “душа”, свой “ум”, своя “личность”, которые направляли бы его так или иначе. Но поскольку определяющим здесь остается все же тело, а оно само по себе слепо и безлично, - слеп и этот “ум”. Он не может не признавать над собой судьбы. …Эта телесная личность, не зная личности как таковой, не ощущая своей ценности, неповторимости, своей абсолютной несводимости, незаменимости и духовной свободы, естественно расценивает себя как некую вещь (хотя и живую) и строит свою социальную жизнь в расчете лишь на вещественное использование себе подобных. Основанное само на себе самодовлеющее живое тело - это античный идеал. А это значит, что тут уже не телесность просто, а пластика, и не слепая телесно-жизненная сила, а скульптура. Так объединяются в одно культурное целое рабство, идея судьбы и пластика. ...Пластика и рабство сливаются для нас в одно неразрывное целое, как форма и материал сливаются в одну определенную и единственную вещь. 48 49 Рабство было той материальной базой, которая оформлялась в пластику греческого государства, в статуарность Эдипов и Антигон, в божественно прекрасные тела Афродит и Аполлонов. Рабство - это материал для античной социальной статуи, ее мрамор и бронза. ...Живое человеческое тело, трактуемое как принцип, т.е. как абсолют, дарует небывалую красоту в искусстве, создавая эту благородную, величавую блаженно-равнодушную, холодноватую и чуть-чуть меланхолическую античную скульптуру. Но этот принцип также и стоит очень дорого. Он возможен только в таких культурах, где еще нет развитого опыта личности как бытия несводимого и специфического и где нет развитого опыта истории как бытия также оригинального и неповторимого. ...Согласно античным представлениям, не боги создавали мир, а мир создавал из себя богов, и, прежде всего, не что иное как именно Земля в течение всей античности трактовалась как единое и нерушимое лоно всех рождений и всех смертей как для всех живых существ, так и для богов. Все это было радикально противоположно последующему средневековому спиритуализму; и это и было той эстетикой, которую завещала древность всем последующим культурам. Е.А. Торчинов Религии мира. Опыт запредельного. С.-Пб., 1997 (стр. 131148). ...Обычно представление об античной религии формируется на основе мифологических сюжетов Гомера и Гесиода, а также эллинистических писателей и поэтов - Каллимаха, Аполлодора, Павсания, Феокрита и др., для которых миф уже в значительной степени скорее факт литературы, риторики и искусства, а не религии. …Здесь мы позволим себе, опираясь на работу М.Элиаде, указать на наличие шаманистического элемента в античной религии и предположить, что без его учета любое описание древнегреческой религии, любой ее анализ будут неполными и фрагментарными. ...В связи с греческой темой нисхождения в царство мертвых следует упомянуть не только Орфея и Одиссея, но и Эра Памфилянина, сына Армения, о сне которого повествует Платон в своем “Государстве”. “Убитый” в бою, Эр на двенадцатый день оживает и рассказывает о виденном им в загробном мире. В этом рассказе достаточно отчетливо высказывается идея метампсихоза, переселения душ. ...Сколь бы ни отличалась философская символика видения Эра от шаманских видений, сама идея о том, что только психотехнический (экстатический) опыт дает человеку целостное знание о мире и о себе самом, остается неизменной. И это еще раз свидетельствует о первичности религиозного опыта как стержня, сущностного ядра любой религии. Прежде чем мы обратимся к мистериям, следует сказать несколько слов о мифах, выражающих суть мистериального ритуала и мистериальных культов Диониса, Деметры и Персефоны. Дионис - божество не эллинского, а восточного, лигийско-фригийского происхождения, пришедшее в Грецию через Фракию. …Хотя имя Диониса встречается в критских текстах линейного письма “В” уже в Х1У в. до н.э., в Греции Дионис утверждается только в УШ-УП вв. до н.э. а в гомеровских текстах упоминается только один раз. Культ Диониса оказался в резком противостоянии с культом Аполлона, о чем свидетельствует и упоминавшийся 49 50 выше миф об Орфее, растерзанном вакханками, служителями Вакха-Диониса. Оппозиция “дионисийское-аполлоническое” благодаря философии Ф.Ницше дожила до наших дней и сыграла важную роль в европейской культуре Х1Х-ХХ вв. Тем не менее в самой Греции период острого конфликта дионисийскогоаполлонического сменился их синтезом, что подтверждает одна из версий орфического мифа: Дионис наказывает менад за их расправу над Орфеем. Образ Диониса в середине 1 тыс. до н.э. интегрируется не только в Элевсинские мистерии богини Деметры, где его в ипостаси Иакха обозначает символ обновления, срезанный колос, демонстрируемый мистами в конце священнодействия, но и в ритуалы Дельфийского святилища, центра культа Аполлона. Мифологический цикл Диониса весьма сложен хотя бы потому, что последний выступает в мифах под разными именами; точнее, античная религия признавала несколько ипостсей и несколько теофаний, богоявлений, Диониса. В некоторых из них он выступает как существо чисто божественное, иногда даже с зооморфными чертами (быкоголовый Дионис-Загрей), в других - как человек или, точнее, богочеловек, явившийся на землю благодаря рождению от смертной женщины (Семелы). С образом Диониса-Загрея связана и ипостась Диониса-Иакха, сына-супруга Деметры (иногда Персефоны), одного из ведущих персонажей Элевсинских мистерий. ...Всюду, где ступала нога Диониса, он утверждал свой культ, обучал людей виноградарству и виноделию. Отсюда и один из эпитетов Диониса Лиэй-Освободитель: благодаря вакхическому опьянению человек освобождается от мирских забот, спасается от бремени обыденности и рутины повседневного существования. ...”Жизнь опостылела бы эллинам, если бы запретили им эти святейшие таинства, объединяющие род человеческий”, - писал в середине 1У в. н.э. римский проконсул Эллады Протекстат в своем письме христианскому императору Валентиниану 1, издавшему указ, запрещающий все ночные, в том числе и Элевсинские, мистерии. ...Элевсинские мистерии включали в себя три основные части: “сказанное”, “сделанное”, “явленное”, из которых последняя - важнейшая. Именно она предполагала мистериальное глубинное катарсическое переживание, личный религиозный опыт, на что намекает Аристотель, говоривший, что посвящаемые должны не узнавать что-либо, а испытывать, переживать. ...Следует еще упомянуть об орфическо-пифагорейской традиции. И орфики, и пифагорйцы верили в переселение душ и возможность обретения окончательного спасения и богоподобного статуса благодаря очистительным ритуалам, целомудрию, вегетарианству, практике созерцания и участию в религиозных таинствах. Пифагорейские общины в Великой Греции (Элея, Южная Италия), по существу, представляли собой первые монашеские общины в европейской (как минимум) части Средиземноморского бассейна. ...Платон считал, что сочетание дошедших до крайней формы проявлений эмоций с последующим расслаблением является мощным средством целительного катарсиса, духовного очищения. Сходной точки зрения придерживался и Аристотель, видевший в мистериях мощное средство исцеления душевных недугов. Он считал, что при помощи вина, тонизирующих, возбуждающих средств (афродизнаков) и музыки 50 51 мисты испытывают страстный подъем с последующим катарсисом: хаос и безумие мистерий ведут к порядку. Наконец, следует упомянуть и неоплатоников, создавших не только утонченнейшие философские системы, но и стремившихся своим умозрением как бы дать доктринально-теоретическую основу синкретической эллинистической религии, чтобы та могла с успехом противостоять торжествовавшему христианству. К ТЕМЕ № 6. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Жак Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992 (стр. 9-10). Средневековый Запад зародился на развалинах римского мира. Рим поддерживал, питал, но одновременно и парализовал его рост. Этот шедевр консерватизма, каким была римская цивилизация, со второй половины П века под воздействием сил разрушения и обновления подвергся эроззии. Мощный кризис Ш века пошатнул постройку. Единство римского мира стало разваливаться; его сердце, Рим и Италия, было парализовано и не снабжало кровью части тела империи, которые пытались начать самостоятельную жизнь: провинции сначала эмансипировались, а затем перешли в наступление. Испанцы, галлы, выходцы с Востока все более заполняли Сенат. …Как и успех романизации, это возвышение провинций свидетельствовало об укреплении центробежных сил. И средневековый Запад унаследовал эту борьбу – между единением и обособлением, стремлением к христианскому единству и тягой к национальной самостоятельности. Нестабильность имела и более глубинные истоки: Запад терял средства существования, уходившие на Восток. Золото, которым оплачивался ввоз предметов роскоши, утекало в восточные провинции, бывшие производителями и посредниками в крупной торговле, монополизированной купцами – евреями и сирийцами. Города Запада хирели, восточные города процветали. Основание Константинополя, этого Нового Рима, императором Константином (324-330) как бы материализовало перемещение центра тяжести римского мира к Востоку. Этим же расколом будет отмечен и средневековый мир: несмотря на усилия, направленные на объединение Запада и Востока, преодолеть различия в их развитии отныне не удастся. Будущая церковная схизма была вписана уже в реалии 1У в. Византия продлила жизнь Рима до 1453 г., но при всей видимости процветания и мощи это была лишь агония римского мира. Западу же, оскудевшему и варваризованному, суждено было на исходе Средневековья обрести новые силы и вырваться на мировые просторы. Более того, римская цитадель, из которой некогда выходили легионы за пленными и добычей, сама оказалась осажденной и принужденной к сдаче. Последняя крупная победоносная война датируется временем правления Траяна, и золото даков стало последним подспорьем римского процветания. К внешним неудачам добавилась внутренняя стагнация и прежде всего демографический кризис, обостривший нехватку рабочей силы. 51 52 …Некоторые императоры верили, что еще могут заклясть судьбу, отказавшись от прежних богов, чье покровительство оказалось бесплодным, и признали нового бога христиан. Успехи Константина казались оправдывающими эти надежды: под эгидой Христа преуспеяние и мир как будто возвращались. Но это была всего лишь краткая отсрочка, христианство оказалось неверным союзником Рима. Структуры римского мира нужны были церкви лишь как форма, в которую можно отлиться, как опора или средство самоутверждения. Религия вселенского призвания, христианство не рисковало замкнуться в границах одной цивилизации. Конечно, оно стало главным наставником средневекового Запада, которому передало римское культурное наследие. Конечно, оно восприняло от Рима и его истории склонность к самозамыканию. Но перед лицом закрытого типа религии западное Средневековье создало также и более открытый ее вариант; и диалог этих двух ликов христианства стал доминирующим в ту переходную эпоху. Десять веков потратил средневековый Запад, чтобы сделать выбор между стоявшими перед ним альтернативами: замкнутая экономика или открытая, сельский мир или городской, жизнь в одной общей цитадели или в разных самостоятельных домах.. С.С.Аверинцев. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью. // Из истории культуры средних веков и Возрождения. М. 1976 (стр. 17-62). …На вопрос, когда кончается античность, и начинается Средневековье, не может быть однозначного ответа: переход от одной эпохи к другой - не катаклизм, который можно датировать каким-то годом, но процесс, длящийся веками. Дело еще осложняется тем, что процесс идет по-разному в разных локальных точках региона: для Константинополя или Эдессы значение вех имеют совсем другие даты, чем для Рима или Тура. …Если на уровне школьного изложения можно предлагать в качестве рубежа 476 г. (дата падения Ромула Августула, последнего императора западной половины империи), то в действительности эта дата, имеющая весьма сомнительное значение для реальных отношений в Италии, просто ничего не значит для восточных провинций. Все же начало описываемого периода в сфере явлений культуры можно определить с известной уверенностью. Если мы спросим себя, что было для сознания средневекового европейца и особенно византийца гранью, отделяющей его от языческой древности, то ответ может быть только одним: царствование Константина Великого, первого христианского правителя (306337 гг.). …Гораздо хуже дело обстоит с определением вех, отмечающих конец переходной эпохи. Как раз здесь пути Запада и Востока решительно расходятся. Для Византии переходный период заканчивается к УП в.: после этого мы, собственно, и имеем дело уже не с «протовизантийской», но с созревшей византийской культурой. На Западе все идет по-другому. Глубокая разруха западного мира и воздействие варваров на культуру заставляет переходный период затянуться надолго; даже дата 25 декабря 800 г. (коронование Карла Великого) имеет силу для политической истории, но не для истории культуры. …Две силы, внутренне чуждые полисному миру классической древности – цезаризм и христианство – возникают почти одновременно: по преданию, 52 53 Христос родился в правление Августа. Древние христианские авторы очень интенсивно воспринимали этот параллелизм между единобожием и единовластием. Больше двух веков полисная структура еще сохраняет свое значение в повседневной жизни городов: цезаризм надстраивается над этой структурой, христианство ведет свое существование под ней, в подполье. Императоры считают нужным именоваться «друзьями полисов». Лишь кризис Ш в. ставит на место полисных гражданств единое общеимперское гражданство … Чтобы понять, каким образом могли быть переброшены мосты от исконной христианской «бездомности» к построению политической идеологии, как кесарь Константин Великий мог занять в сознании церкви место «тринадцатого апостола», важно помнить, что идея государства в описываемую эпоху по радикальному универсализму не уступала теологическим идеям. Христианская держава, в своем «земном» измерении наследница космополитической Римской империи, была принципиально лишена всякого этнического характера и по идее должна была совпадать со всем человеческим миром – «ойкуменой». Пока этого не произошло, ее пределы зависели от сцепления самых различных причин, но не от национальной идеи. Последней тогда просто не существовало. Если не считать варваров, сохранивших племенное самосознание, впрочем, в условиях грандиозного переселения народов крайне текучее, люди той эпохи воспринимали этнические границы через призму вероисповедных понятий. …Как бы грубо ни проявлялись в жизни эгоизм, самомнение, раздоры отдельных этнических групп, в идее каждая партикулярная культура осмыслялась как зеркало, долженствующее отразить одного для всех людей бога. Оборотной стороной этой широты было стремление к унификации форм религиозной культуры: единомыслие христианского человечества должно было выразиться зримо и наглядно уже на формальном уровне. В особенности это относится к литургии. Все раннее Средневековье по обе стороны латиногреческой языковой границы заполнено медленной, но планомерной борьбой Рима и Константинополя за вытеснение местных богослужебных текстов, напевов и обычаев столичными. Новый статус христианства как идеологической основы имперского мегасоциума в целом создал для него новые возможности и новые задачи, но также и новые трудности. …Когда христиан было мало, каждый мог чувствовать себя лично отмеченным, совершенный им выбор веры был глубоко интимным актом; но теперь христианами становились все, и психологический комплекс избранничества отпадал. Пока христианство жило перед лицом гонений, оно не могло закостенеть в обрядовом формализме, ибо от каждого его адепта требовалась прежде всего готовность к мученической смерти, а не соблюдение ритуалов: даже главное таинство церкви – крещение – могло быть заменено «крещением через кровь», когда неофит, еще не успевший формально вступить в общину, связывал с ней себя смертью. Теперь все это отпало. Не только личная перспектива гибели за веру, но и вселенская перспектива немедленного конца мира перестали определять человеческое существование. Это угрожало самой сути христианского мироощущения, как оно сложилось в первые века: поэтому оно должно было в одних пунктах уступить «обмирщению», а в других - оградить себя посредством новых средств защиты. 53 54 Став всеобщей и общеобязательной религией, не избираемой в душевном кризисе обращения, а данной, христианство формализуется. Это прежде всего сказывается на понимании церкви, клира, иерархии. С.С.Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М. 1977 (стр. 1029). Социальным содержанием истории раннего средневековья был в конечном счете переход от рабовладельческого сообщества свободных граждан к феодальной иерархии сеньоров и вассалов. Иначе говоря, это был переход от порядка собственников, оформлявшегося в античную этику государственности, к порядку «держателей», оформлявшемуся в корпоративно-персоналистскую этику личного служения и личной верности. Движение от «настоящей» классической античности к «настоящему» феодальному средневековью - это процесс, который был не только весьма длительным, но и шел такими путями, что выразить его суть в односложной формуле, не прибегая к далеко заводящим оговоркам и уточнениям, оказывается невозможным. Вся история вопроса о генезисе феодализма, давно стоящего в центре внимания отечественных историков, учит осмотрительности. Внутренняя структура движения от средневековья к новому времени определена тем коренным и общеизвестным обстоятельством, что как новые культурные ценности, так и новые социально-экономические отношения исподволь формировались и вызревали внутри, в «недрах» старого порядка. Правящий класс капиталистической эпохи действительно связан с бюргерством средневековых городов непосредственным преемством, выразившимся в самой лексике: "буржуазия" – это и есть «бюргерство». Но правящий класс феодального средневековья не состоит с магнатами поздней Римской империи ни в каких отношениях преемства. Позднеантичный магнат объективно был для феодала сравнительно близким историческим аналогом, субъективно мог восприниматься им как пример и, так сказать, юридический прецедент - но не больше. А мало ли было таких аналогов, примеров и прецедентов для феодального уклада! …Различие, отмеченное применительно к истории людей, еще отчетливее применительно к истории идей. Мыслители Возрождения и Просвящения от Петрарки и Эразма Роттердамского до Вольтера и Дидро, разрушившие мировоззрение средневековья, действительно могут со всеми необходимыми оговорками быть охарактеризованы в существенном аспекте своего бытия как идеологи буржуазии. Такая характеристика имеет совершенно конкретный смысл. А как было там – на переломе от античности к средневековью? Кто разрушил античное мировоззрение и заложил основы нового мировоззрения? Конечно, прежде всего христианские мыслители. Созданная ими совокупность доктрин со временем оказалась центром, вокруг которого предстояло вырасти кристаллу идеологии, обслуживавшей средневековое общество. И все же не только гонимое «начальное» христианство, но даже христианство «Константиновой эры», уже вступившее в союз с государственностью, уже оформленное в институциях иерархической церкви и оформляющееся как в построениях патристической философии, так и в догматах вселенских соборов, не может 54 55 быть названо феодальной идеологией. Такая характеристика была бы лишена смысла. …Феодальный порядок, вообще говоря, вышел не из «недр» рабовладельческого порядка. Феодальный порядок вышел скорее из беспорядка. Нужно ли делать оговорку, что при любом состоянии общества господство беспорядка может быть лишь ограниченным, что само понятие беспорядка по необходимости относительно? Никакое общество неспособно обойтись без некоторого минимума правовых и договорных форм, без обычая и уклада. Так обстоит дело даже для одичавшего раннесредневекового Запада; что касается Византии, то она сберегла непрерывное преемство государственности и цивилизации, представая с Запада как настоящий оазис порядка. …Реальному и фактическому беспорядку общественное сознание раннего средневековья с тем большей страстью и энергией противопоставляло умозрительный духовный порядок. …Едва ли когда-нибудь похвалы божественному порядку в природе и истории были столь выразительными, а упорядоченная симметрия фигур на мозаике или слов во фразе - такой жесткой. Но идея порядка переживалась людьми раннего средневековья так напряженно как раз потому, что порядок был для них «заданностью» - и не «данностью». Между разрушением рабовладельческой формации, прошедшим свою решающую фазу еще в Ш-1У вв., и сколько-нибудь осязательным нарождением феодальной формации, выявившимся, по-видимому, лишь к УШ-1Х вв., лежит широкая - в полтысячелетия - полоса. Конечно, сущность описываемой эпохи каким-то образом и в какой-то мере получила свою детерминированность в двух встречных направлениях от двух социальных формаций предшествующей и последующей. Но первостепенный и по сие время не вполне решенный методологический вопрос гласит: каким именно образом? в какой именно мере? …Говоря метафорически, на раннее средневековье падает как бы «тень» рабовладельческого прошлого. …На раннее средневековье падает и «тень» феодализма будущего, «заданного» или «предвосхищенного» то в одном, то в другом феномене жизни или общественного сознания. …Мы проясним суть дела и одновременно продвинемся вперед, если назовем несколько следствий и симптомов описанного положения. Прежде всего, отсутствие достаточного уровня структурности общества предопределяет характер власти. «Социальная бесформенность» требует оформления извне. Сам по себе деспотический режим Юстиниана Первого есть такой же коррелят переходного состояния общества, как новоевропейский абсолютизм ХУ1-ХУШ вв., лежащий между первым подъемом капитализма и его приходом к политическому господству. И там, и здесь неограниченность монаршей власти вытекает из неустойчивой ситуации тяжбы между старым и новым - тяжбы, в которой монарх присваивает себе роль третейского судьи. …Вся идеология и политическая символика новоевропейского абсолютизма немыслима без династического принципа, обосновывавшего «легитимность» каждого данного государя; между тем роль этого принципа в истории ранневизантийской государственности ничтожно мала. Как бы не враждовали абсолютистские монархи Европы со стихией аристократической «Фронды», как бы ни отделяли себя от аристократии, сами они, во всяком случае, были аристократами, через свое семейство и род «телесно» соотнесенными с системой знатных семейств и родов. Это, как принято было говорить, «природные» государи своих «природных» поданных. Когда их время кончилось, власть Наполеона, «узурпатора» и даже «корсиканца», т. е. 55 56 «чужака», пришедшего к трону «ниоткуда», была осознана и врагами, и приверженцами как дерзкий вызов прежним принципам монархии, как головокружительное исключение. Но позднеримские и ранневизантийские императоры сплошь да рядом приходили к трону именно «ниоткуда», из полной безвестности, как Диоклетиан, даже с чужбины, как Зинон, или Юстин 1, или Василий 1, и это не было ни исключением, ни вызовом; это оставалось в пределах нормы, заданной принципом. Интересующее нас различие относится именно к сфере принципов. Ведь и Византия знала династическую практику, а Европа абсолютизма отступления от династической практики; важно совсем другое новоевропейская монархия культивировала пафос династической и д е и, между тем как византийская монархия искала для себя идейные основания совсем иного порядка. И в переживании династической практики византийцы оставались византийцами. Термин «порфирородный» концентрирует внимание не на том, что дитя монарха – «царской крови», но на том, что оно рождено, согласно обычаю, в «Порфировом покое» императорского дворца, так что уже его рождение было введено в круг сакрально-политической обрядности, совершилось «по чину». И здесь достоинство сана важнее, чем достоинство рода. Ромейский император хотел быть вовсе не «природным», а уж скорее сверхприродным государем, который всем обязан таинству своего сана, и сан его мыслился как реальность вполне трансцендентная по отношению к его природе и к его роду - что в свою очередь связано со склонностью воплощенной в нем государственности осознавать и определять себя самое как трансцендентную по отношению к обществу. Слово «трансцендентный» здесь надо понимать в нескольких смыслах одновременно. Можно сказать, что византийское самодержавие имело сакральные санкции и сакральные притязания; абсолютизм «христианнейших» государей Европы тоже имел эти санкции и притязания. Но идеология новоевропейского абсолютизма - так сказать, более «почвенническая» (что само по себе делает сакральность этого абсолютизма чуть менее серьезной, ибо менее необходимой); напротив, разработанная ранним средневековьем идеология универсалистской священной державы не оставляет никакого места для «почвенничества». Государь этой державы мог приходить «ниоткуда», ибо его власть действительно мыслилась данной «свыше»; и в любом случае власть эта принимала облик силы, приложимой к телу общества «извне». «Н и о т к у д а» - «с в ы ш е» - «и з в н е»: три пространственные метафоры, слагающиеся в один образ. * * * Для политической жизни раннего средневековья характерны три типа власти, осязаемо и наглядно «внешней» по отношению к органической жизни общества. Перечистим их: ксенократия, или варварократия, - господство этнически чуждого элемента; бюрократия – господство отчужденной от общества чиновничьей касты; теократия – господство обособившихся от общества держателей «трансцендентного» религиозного авторитета. Варвар-завоеватель на Западе (и соответствующий ему на византийском Востоке инородец-выскочка) приходит «извне» в самом буквальном, пространственно-топографическом смысле. …Однако ведь и держатели 56 57 теократических полномочий обычно ведь приходят тоже «извне», из-за пределов обитаемого пространства, из пустыни, места уединения анахоретов. Путь Иоанна Златоуста, приведший его на кафедру Константинопольского архиепископа, в самое средоточие социальных и политических проблем века, а затем в ссылку, проходил через «искус» отшельничества в безлюдных сирийских горах. …Порой аскет так и остается в своем «анахоресисе» и практикует свою теократическую власть над людьми оттуда; решительные приказы Симеона Столпника, обязывающие то одного, то другого богача отпускать рабов на волю, исходят с высоты его столпа. Вообще право аскета предписывать норму обществу основывается именно на его «инаковости» и «чуждости» этому обществу, на том, что он в этом мире «странник и пришелец», «посланный в мир как бы из некоего внемирного пространства. Его социальная «трансцендентность» имеет для себя образец в онтологической трансцендентности стоящего за ним авторитета. По убеждению сторонников теократии, миром должно править то, что «не от мира сего», что «не свое» для мира. Наконец, идея теократии оказывается воспроизведенной и бессознательно спародированной в идеологии бюрократии. Если держатель теократических полномочий приходит к людям от «Пантократора» («Вседержителя»), держатель бюрократических полномочий тоже приходит к ним - на сей раз от «автократора» («самодержца»); и он «послан», что составляет весьма существенную характеристику его бытия. Ему не рекомендуется иметь человеческие привязанности, и в идеале вся его преданность без остатка принадлежит «пославшему его». К нему приложима в гротескно-сниженном переосмыслении новозаветная характеристика царя-священника Мельхиседека, этого прообраза средневековой теократии: «без отца, без матери, без родословия». Он тоже по-своему изъят из родовых связей. …Конечно, античный полис был бесчеловечен к рабам, а феодальное рыцарство - к вилланам, и все же как в полисном, так и в рыцарском обществе пластический образ власти, не будучи особенно человечным, сохранял, так сказать, «человеческие пропорции» (еще конкретнее: «пропорции человеческого тела»); и там и здесь сила в самом «насильственном», самом грубом и осязаемом своем аспекте, т.е. в аспекте военной мощи, предстает как сумма, соизмеримая каждому из составляющих ее слагаемых - личной крепости и личной отваге каждого отдельного гоплита или рыцаря. Напротив, мощь византийской державы едва ли кто мыслил себе как слагаемое телесных и духовных сил отдельных стратиотов (к тому же во времена Юстиниана стратиоты в большинстве своем были варвары); скорее это некоторая иррациональная величина, в которую входят такие составляющие, как абстрактный авторитет присвоенного Константином «римского имени», искусство изощренной дипломатической игры, хитрости военных инженеров и т.д. Дело, конечно, не в том, что византийцы были «коварны» и не были «воинственны»; дело в ином. Армию, которая воплощает в себе силу общества граждан или общества феодалов, должен вести в бой мужчина и воин - «свой человек» для своих подначальных. Иное дело - армия, которая воплощает собой мощь государства, отчужденную от общества, компенсирующую немощь общества; такую армию может вести в бой евнух и чиновник, распоряжающийся мужчинами и воинами, как чужим для него инструментом продуманной операции по законам «военного искусства». Перед нами общество, для которого многое неестественное становилось естественным. Вовсе не «порча нравов», но объективные жизненные 57 58 закономерности принуждали его стоять между «неестественным» насилием и «сверхъестественным» идеалом. * * * Как может развиваться эстетика, самое имя которой (от греческого «айстетис» – «ощущение») говорит о чувственности, в рамках аскетического умонастроения? Как представить себе парадокс аскетической эстетики эстетики, как бы обращенной против своих собственных основ? Как хорошо известно, христианство начало с суровой критики позднеантичного эстетизма. В этом пункте новая вера отнюдь не выступила по отношению к греко-римской культуре как внешняя, неизвестно откуда взявшаяся разрушительная сила; вовсе нет: христианство лишь довело до логического завершения исконную философскую критику эстетизма, которая ведет свое начало еще от Платона, изгонявшего поэтов из своего идеального государства. …Христианство как бы ловило языческий мир на слове, настаивая, чтобы слово стало делом. …Когда античные философы призывали отказаться от зрелищ и развлечений, они, как правило, наперед знали, что их могут послушаться отдельные ученики, но никогда не послушается общество. Напротив, деятели церкви ощущали в своих руках совершенно реальную власть над обществом, пределы которой к тому же первоначально вообще не были выяснены. Крушение античного общества привело к тому кризису, при котором могло показаться, что самое время осуществлять утопии. Поэтому христианская критика художественной культуры не имеет того бессилия, но также и той «невинности», которые характеризовали философские нападки на эстетизм; на этот раз речь шла уже не о чистом теоретизировании, не о беспоследственных академических дискуссиях, но о культурной политике очень сильной социальной организации, которая не остановится перед суровыми мерами. Конечно, церковное осуждение светских традиций эстетической практики имело свои границы. На латинском Западе тяжелая разруха побуждает церковь ценить людей, верных культурным заветам античного Рима; без них было бы невозможно спасти даже простой грамотности. На византийском Востоке пафос культурного преемства был слишком тесно связан с пафосом государственного преемства; блеск мирского эллинского изящества - как бы одна из регалий монархии ромеев. Тот самый Юстиниан Первый, который закрыл в 529 г. языческую афинскую Академию и провел ряд репрессий против язычников, все еще встречавшихся среди высшей администрации, в поэзии поощрял язык образов и метафор, который не имеет ничего общего с христианством. …Не надо забывать, что ранневизантийский император притязал не только на сан «боголюбивого» и «христолюбивого» покровителя церкви, ее «епископа по внешним делам», но и на ранг законного наследника древних языческих цезарей. …Всему было отведено свое место: христианским авторитетам - жизнь церкви, книжному язычеству – мирок школы и словесности. А.Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. М., 1972 (стр. 5-100). Средние века… При мысли о них перед нашим умственным взором вырастают стены рыцарских замков и громады готических соборов, вспоминаются крестовые походы и усобицы, костры инквизиции и феодальные турниры – весь этот хрестоматийный набор признаков эпохи. Но это признаки внешние, своего рода декорации, на фоне которых действуют люди. Каковы 58 59 они? Каков был их способ видения мира, чем они руководствовались в своем поведении? Если попытаться восстановить духовный облик людей средневековья, умственный, культурный фонд, которым они жили, то окажется, что это время почти целиком поглощено густой тенью, отбрасываемой на него классической античностью, с одной стороны, и Возрождением – с другой. Сколько искаженных представлений и предрассудков связано с этой эпохой! Понятие «средний век» (medium aevum), возникшее несколько столетий назад для обозначения периода, отделяющего греко-римскую древность от нового времени, и с самого начала несшее некритическую, уничижительную оценку провал, перерыв в культурной истории Европы, - не утратило этого содержания и по сей день. Говоря об отсталости, бескультурье, бесправии, прибегают к выражению «средневековый». «Средневековье» – чуть ли не синоним всего мрачного и реакционного. Ранний его период называют «темными веками». Но Оксфордский словарь английского языка распространяет выражение Dark Ages уже на все средневековье. Подобное отношение к средним векам, до известной степени объяснимое в ХУП и ХУШ веках, когда молодая буржуазия, готовясь к открытой борьбе против феодализма, идеологически развенчивала эпоху господства дворянства и церкви, давно лишилась своего оправдания. Не следует забывать, что именно в средние века зародились европейские нации и сформировались современные государства, сложились языки, на которых мы до сих пор говорим. Мало того, к средневековью восходят многие из культурных ценностей, которые легли в основу нашей цивилизации. При всех контрастах связь и преемственность этих культур несомненны. …Историческое познание всегда так или иначе представляет собой самосознание: изучая историю другой эпохи, люди не могут не сопоставлять ее со своим временем. Не в этом ли в конечном счете и заключается смысл истории культуры? Но, сравнивая свою эпоху и цивилизацию с иными, мы рискуем применить к этим иным эпохам и цивилизациям наши собственные мерки. В какой-то степени это неизбежно. Но следует ясно представлять себе опасность, сопряженную с подобной процедурой. То, что современный человек считает основополагающей ценностью жизни, могло ведь и не быть таковой для людей иной эпохи и иной культуры; и наоборот, кажущееся нам ложным или малозначительным было истинным и крайне существенным для человека другого общества. …Понять культуру прошлого можно только при строго историческом подходе, только измеряя ее соответствующей ей меркой. Единого масштаба, под который можно было бы подогнать все цивилизации и эпохи, не существует, ибо не существует человека, равного самому себе во все эти эпохи. …Человеческое общество находится в постоянном движении, изменении и развитии, в разные эпохи и в различных культурах люди воспринимают и осознают мир по-своему, на собственный манер организуют свои впечатления и знания, конструируют свою особую, исторически обусловленную картину мира. И если мы хотим познать прошлое таким, каким оно было «на самом деле», мы не можем не стремиться к тому, чтобы подойти к нему с адекватными критериями, изучить его имманентно, вскрыть его собственную внутреннюю структуру, остерегаясь навязывать ему наши, современные оценки. …Не можем мы, игнорируя систему ценностей, лежавших в основе миросозерцания людей средневековой эпохи, понять их культуру. Наиболее распространенный и популярный в эту эпоху жанр литературного произведения 59 60 – жития святых, самый типичный образчик архитектуры – собор, в живописи преобладает икона, в скульптуре – персонажи Священного писания. Средневековые мастера, писатели, художники, пренебрегая зримыми очертаниями окружающего их земного мира, пристально всматриваются в потусторонний мир. Но своеобразен не только предмет, привлекающий их внимание. Как видят мир эти мастера? Поэты и художники почти вовсе обходят реальную природу, не воспроизводят пейзажа, не замечают особенностей отдельных людей, не обращают внимания на то, что в разных странах и в разные эпохи люди одевались по-разному, жили в иных жилищах, имели другое оружие. Индивидуализации они предпочитают типизацию, вместо проникновения в многообразие жизненных явлений исходят из непримиримой противоположности возвышенного и низменного, располагая на полюсах абсолютное добро и абсолютное зло. Творимый средневековым художником мир очень своеобразен и необычен на взгляд современного человека. Художник как бы не знает, что мир трехмерен, обладает глубиной: на его картине пространство заменено плоскостью. Неужели не известно ему и то, как протекает время? – Ведь на картинах средневековых живописцев нередко последовательные действия изображаются симультанно: в картине совмещаются несколько сцен, разделенных временем. …Можно, далее, предположить, что средневековые мастера не различали четко мир земной и мир сверхчувственный, - оба изображаются с равной степенью отчетливости, в живом взаимодействии и опять-таки в пределах одной фрески или миниатюры. Все это в высшей степени далеко от реализма в нашем понимании. …Перечень «несообразностей», какими они кажутся, если судить о них, исходя из принципов современного искусства и стоящего за ним «мировидения», можно было бы продолжить. Конечно, проще простого говорить о «примитивности» и «детской непосредственности» художников средних веков, об их «неумелости», о том, что, скажем, еще не была «открыта» пространственная, линейная перспектива и т.п. Однако все эти рассуждения свидетельствовали бы лишь о непонимании внутреннего мира средневекового художника или поэта и о желании судить об искусстве другой эпохи на основе нынешних критериев, совершенно чуждых людям средних веков. …Сложность постижения духовной жизни людей этой эпохи не сводится только к тому, что в ней много чуждого и непонятного для человека нашего времени. …В самом деле. Учения о прекрасном мыслителей этой эпохи неизменно были ориентированы на постижение Бога – творца всех видимых форм, которые и существуют не сами по себе, но лишь как средства постижения божественного разума. Точно так же и история не представлялась уму средневекового человека самостоятельным, спонтанно, по своим имманентным законам развивающимся процессом, - этот поток событий, развертывавшийся во времени, получал свой смысл только при рассмотрении его в плане вечности и осуществления божьего замысла. Рассуждения ученых средневековья о богатстве, собственности, цене, труде и других экономических категориях были составной частью анализа этических категорий: что такое справедливость, каково должно быть поведение человека (в том числе и хозяйственное), для того чтобы оно не привело его в конфликт с высшей и конечной целью – спасением души? Философия – «служанка богословия», и в глазах средневекового философа такая ее функция долго являлась единственным ее оправданием, 60 61 придавала глубокую значимость его рассуждениям. …Богословие представляло собой «наивысшее обобщение» социальной практики человека средневековья, оно давало общезначимую знаковую систему, в терминах которой члены феодального общества осознавали себя и свой мир и находили его обоснование и объяснение. Сказанное означает, далее, что средневековое миросозерцание отличалось цельностью, - отсюда его специфическая недифференцированность, невычлененность отдельных его сфер. Отсюда же проистекает и уверенность в единстве мироздания. …В малой частице заключалось вместе с тем и целое; микрокосм был своего рода дубликатом макрокосма. Цельность миросозерцания этой эпохи, однако, ни в коей мере не предполагает его гармоничности и непротиворечивости. Контрасты вечного и временного, священного и греховного, души и тела, небесного и земного, лежащие в самой основе этого миросозерцания, находили основу в социальной жизни эпохи – в непримиримых противоположностях богатства и бедности, господства и подчинения, свободы и несвободы, привилегированности и приниженности. Средневековое христианское мировоззрение «снимало» реальные противоречия, переводя их в высший план всеобъемлющих надмировых категорий, и в этом плане разрешение противоречий оказывалось возможным при завершении земной истории, в результате искупления, возвращения мира, развертывающегося во времени, к вечности. Поэтому богословие давало средневековому обществу не только «наивысшее обобщение», но и «санкцию», оправдание и освящение. По-видимому, применительно к средним векам самое понятие культуры нужно интерпретировать значительно шире, чем это по традиции делается, когда изучают культуру Нового времени. Средневековая культура охватывает не одни только эстетические и философские категории, не ограничивается литературой, изобразительным искусством, музыкой. Для того чтобы понять определяющие принципы этой культуры, приходится выходить далеко за пределы этих сфер, и тогда оказывается, что и в праве, и в хозяйстве, и в отношениях собственности, и во многом другом – в основе всей творческой практической деятельности людей можно вскрыть некое единство, вне которого остается не вполне понятной каждая из этих особых сфер. Все они культурно окрашены. Вероятно, культуру любой эпохи можно и нужно рассматривать столь же широко – как всеобъемлющую знаковую систему. Мы готовы с этим согласиться, но тем не менее будем настаивать на том, что для изучения средневековья применение принципа целостности является особенно необходимым. …Очевидно, для того чтобы понять жизнь, поведение и культуру людей средних веков, важно было бы попытаться восстановить присущие им представления и ценности. Нужно выявить «привычки сознания» этих людей, способ, которым они оценивали действительность, приемы их видения мира. Но возможно ли проникнуть в тайники их мысли спустя многие столетия? Чаще такие попытки предпринимаются романистами, чем учеными. Однако историк не вправе полагаться только на воображение, его интуиция должна найти опору в научной методике; он обязан выработать какие-то приемы, гарантирующие ему относительно объективный подход к наличному материалу. Мы полагаем, что следовало бы пойти по пути обнаружения основных универсальных категорий культуры, без которых она невозможна и 61 62 которыми она пронизана во всех своих творениях. Это вместе с тем и определяющие категории человеческого сознания. Мы имеем в виду такие формы восприятия действительности, как время, пространство, изменение, причина судьба, число, отношение чувственного к сверхчувственному, отношение частей к целому. Перечень можно было бы продолжить, его следовало бы уточнить и развернуть. Существенно, однако, другое. Эти универсальные понятия в каждой культуре связаны между собой, образуя своего рода «модель мира» – ту «сетку координат», при посредстве которых люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их сознании …«Моделью мира», складывающейся в данном обществе, человек руководствуется во всем своем поведении, с помощью составляющих ее категорий он отбирает импульсы и впечатления, идущие от внешнего мира, и преобразует их в данные своего внутреннего опыта. …Эти категории запечатлены в языке, а также и в других знаковых системах (в языках искусства, науки, религии), и мыслить о мире, не пользуясь этими категориями, столь же невозможно, как нельзя мыслить вне категорий языка. …«Модель мира» - достаточно устойчивое образование, определяющее человеческие восприятия и переживания действительности в течение длительного периода; в средние века, когда развитие и изменения совершались очень медленно, несравненно медленнее, чем в новое и новейшее время, общая картина мира неизбежно оказывалась чрезвычайно стабильной, если и не неподвижной. Мы можем, по-видимому, говорить о средневековой картине мира, имея в виду ряд столетий, на протяжении которых она доминировала в человеческом сознании. Существенно было бы проследить ее истоки. Обычно сосредоточивают внимание на преемственности позднеантичного и средневекового мировосприятия, с основанием отводя христианству особую роль в формировании последнего. В несравненно меньшей степени учитывается другой компонент средневекового отношения к действительности – система представлений эпохи варварства. Большинство народов Европы в эпоху античности еще были варварами; с переходом к средневековью они стали приобщаться к христианству и к греко-римской культуре, но их традиционное мировосприятие не было стерто воздействием античной цивилизации. Под покровом христианских догм продолжалась жизнь архаических верований и представлений. Таким образом, приходится говорить не об одной, а о двух «моделях мира»: о варварской (для Западной Европы прежде всего о германской) «модели мира» и о сменившей ее «модели мира», которая возникла под мощным влиянием более древней и развитой средиземноморской культуры, включая сюда и христианство. …Отметим другое существенное обстоятельство. «Картина мира» варваров и «картина мира» феодального средневековья – весьма различны. Первая формировалась в относительно однородном обществе с еще очень живучими родоплеменными порядками. Поэтому и культура варварского мира обладала значительной гомогенностью, и ее ценности имели в рамках общества универсальное применение. Это не значит, что в доклассовом обществе культура была «проста» или «примитивна», - это значит лишь, что ее язык был общезначимым и представлял собой знаковую систему, в достаточной мере одинаково интерпретируемую всеми группами и членами общества. Между тем в эпоху средних веков «образ мира» оказывается куда более сложным и противоречивым. Объясняется это прежде всего социальной 62 63 природой феодального общества, разделенного на антагонистические классы и сословия. «Мысли господствующего класса» становятся здесь «господствующими мыслями», но сами эти господствующие идеи и представления – преимущественно христианское мировоззрение – не вытесняют полностью иных форм общественного сознания, сохраняющихся в низших классах общества. Главное заключается в том, что одни и те же понятия и символы истолковываются уже по-разному в разных социальных группах. …Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что употребляемое нами понятие «человек средних веков» есть абстракция. Выявляя общее в применявшихся в ту пору культурных категориях, приходится все время помнить: средневековое общество было обществом феодалов и крестьян, горожан и жителей деревни, образованных и неграмотных, клириков и мирян, ортодоксов и еретиков. Полярность различных групп и классов феодального общества, не разрушая – до определенного момента – общей «картины мира», делала ее колеблющейся, амбивалентной и противоречивой. Но для основательного раскрытия этих антагонизмов в культуре потребны особые исследования. * * * Особенности восприятия пространства людьми средневековой эпохи обусловливались рядом обстоятельств: их отношением к природе, включая сюда и производство, способом их расселения, их кругозором, который в свою очередь зависел от состояния коммуникаций, от господствовавших в обществе религиозно-идеологических постулатов. Ландшафт Западной и Центральной Европы в период раннего средневековья существенно отличался от современного. Большая часть его территории была покрыта лесами, уничтоженными гораздо позднее в результате трудовых усилий населения и расточения природных богатств. …Лесной ландшафт присутствует в народном сознании, в фольклоре, в воображении поэтов. Связи между населенными пунктами были ограниченны и сводились к нерегулярным и довольно поверхностным контактам. Натуральное хозяйство характеризуется тенденцией к самоудовлетворению основных потребностей. К тому же пути сообщения практически почти отсутствовали или находились в совершенно неудовлетворительном состоянии. Абсолютное преобладание сельского населения в тогдашней Европе не могло не сказаться на всей системе отношений с миром, к какому бы слою общества он ни принадлежал: способ видения мира, присущий земледельцу, доминировал в общественном сознании и поведении. Привязанный к земле хозяйством, поглощенный сельским трудом, человек воспринимал природу как интегральную часть самого себя и не относился к ней как к простому объекту приложения труда, владения и распоряжения. …В особенности тесной была связь человека с его естественной средой в эпоху варварства. Зависимость варваров от природы была еще настолько сильной, что создаваемый ими образ мира нес многие черты, свидетельствовавшие о неспособности человека четко отделить себя от природного окружения. …Предметно-чувственное отношение к участку, которым владела семья, определяло его центральную роль в системе космических представлений людей раннего средневековья. В усадьбе земледельца заключалась модель вселенной. Это хорошо видно из скандинавской мифологии, сохранившей многие черты верований и представлений, некогда общих всем германским народам. Мир людей – Мидгард, буквально – «срединная усадьба», возделанная, культивированная часть мирового пространства. Мидгард окружен враждебным 63 64 людям миром чудовищ и великанов – это Утгард, «то, что расположено за оградой двора», необработанная, остающаяся хаотичной часть мира. …Мир человеческий –усадьбу, крестьянский двор, который имеет полную аналогию и вместе с тем возвышающую санкцию в Асгарде – усадьбе богов асов, со всех сторон обступает неизведанный, темный мир страхов и опасностей. …Асгард вообще во всем подобен Мидгарду,- это такая же усадьба, в какой живут и люди, она окружена укреплением и отличается только своей обширностью и богатством. …Противоречивость локализации Асгарда, который, согласно Снорри (исландскому писателю начала ХШ века), оказывается то в районе Дона (Танаиса) или в середине мира, то на небе, отражает не только присущую мифологии географическую неопределенность, но также и результат столкновения двух религий с присущими им очень разными пространственными представлениями. …С переходом от язычества к христианству структура пространства средневекового человека претерпевает коренную трансформацию. И космическое, и социальное, и идеологическое пространство иерархизируются. …Иерархии божьих тварей и чинов ангельских изоморфна земная феодальная система, и если словарь сеньориально-вассальных отношений пронизан религиозной терминологией, то словарный запас богословских трактатов нередко «засорен» терминами, позаимствованными из феодального и монархического обихода. Все отношения строятся по вертикали, все существа располагаются на разных уровнях совершенства в зависимости от близости к божеству. Идея ангельской иерархии, восходящая к Псевдо-Дионисию Ареопагиту, трактат которого был переведен на латинский язык Иоанном Эриугеной в 1Х веке, пользовалась в Европе в период развитого средневековья огромной популярностью. Бог создал небесную иерархию, а равно и земную, распределив функции между ангелами и людьми и установив священные ранги на небе и на земле. Ангельская иерархия Серафимов, Херувимов и Престолов, Господств, Сил и Властей, Начал, Архангелов и Ангелов представляла собой прообраз земной иерархии духовенства и светских сеньоров и вассалов. Этому социальному миру небес и земли соответствовало и общее устройство вселенной. Символом вселенной был собор, структура которого мыслилась во всем подобной космическому порядку; обозрение его внутреннего плана, купола, алтаря, приделов должно было дать полное представление об устройстве мира. Каждая его деталь, как и планировка в целом, была исполнена символического смысла. Молящийся в храме созерцал красоту и гармонию божественного творения. Устройство государева дворца также было связано с концепцией божественного космоса: небеса рисовались воображению в виде крепости. В века, когда неграмотные массы населения были далеки от мышления словесными абстракциями, символизм архитектурных образов являлся естественным способом осознания мирового устройства, и эти образы воплощали религиозно-политическую мысль. Порталы соборов и церквей, триумфальные арки, входы во дворцы воспринимались как «небесные врата» а сами эти величественные здания – как «дом божий» или «град божий». Организация пространства собора имела и свою пространственную определенность. Это выяснялось в его планировке и оформлении: будущее («конец света») уже присутствует на западе, священное прошлое пребывает на востоке. 64 65 …Дуализм средневековых представлений, резко расчленявший мир на полярные пары противоположностей, группировал эти противостоящие одна другой категории по вертикальной оси: небесное противостоит земному, бог диаволу, хозяину преисподней, понятие верха сочетается с понятиями благородства, чистоты, добра, тогда как понятие низа имеет оттенок неблагородства, грубости, нечистоты, зла. Контраст материи и духа, тела и души также содержит в себе антитезу низа и верха. Пространственные понятия неразрывно связаны с религиозно-моральными. Привидевшаяся библейскому Иакову лествица, по которой с небес на землю и обратно снуют ангелы, - такова доминанта средневекового пространства. …В эпоху христианского средневековья подверглось известной перестройке и представление о соотношении локального микромирка и всего мира. Большинство населения по-прежнему жило в относительной изоляции, но тем не менее и большой мир уже включался в сознание человека. Это был мир христиан, сфера господства вселенской церкви, объединявшей разрозненные его части идеологически и организационно. Космополитическая идея единства христианского мира была необходимым коррелятом хозяйственного и феодального партикуляризма и сепаратизма средневековья. …Расширяется и усложняется географическое пространство, а вместе с тем происходит освоение и внутреннего пространства человеческой души, - в ней обнаруживаются доселе неведомые богатства. * * * Мало найдется других показателей культуры, которые в такой же степени характеризовали бы ее сущность, как понимание времени. В нем воплощается, с ним связано мироощущение эпохи, поведение людей, их сознание, ритм жизни, отношение к вещам. Достаточно указать на циклическое восприятие времени, доминировавшее у народов древнего Востока и античности, на финалистскую концепцию движения мира от сотворения его к концу, к слиянию времени с вечностью в средние века, для того чтобы стало ясным коренное различие в жизненной ориентации культуры древности и культуры средневекового христианства. …То обстоятельство, что в аграрном обществе время регулировалось природными циклами, определяло не только зависимость человека от смены годичных периодов, но и специфическую структуру его сознания. В природе нет развития, - во всяком случае, оно скрыто от взора людей этого общества. Они видят в природе лишь регулярное повторение, не в состоянии преодолеть тиранию ее ритмического кругового движения, и это вечное возвращение не могло не стать в центре духовной жизни в древности и в средние века. Не изменение, а повторение являлось определяющим моментом их сознания и поведения… Архаическое общество отрицало индивидуальность и новаторское поведение. Нормой и даже доблестью было вести себя, как все, как поступали люди испокон веков. Только такое традиционное поведение имело моральную силу. …Повторение людьми поступков, восходящих к небесному, божественному прототипу, связывает их с божеством, придает реальность им и их поведению. …Новое не представляет интереса в этой системе сознания, в нем ищут повторения лишь прежде бывшего, того, что возвращает к началу времен. При подобной установке по отношению ко времени приходится признать его «вневременность». …Жизнь лишается характера случайности и быстротечности. Она включена в вечность и имеет более высокий смысл. 65 66 …Переход от язычества к христианству сопровождался существенной перестройкой всей структуры временных представлений в средневековой Европе. Но архаическое отношение ко времени было не столько искоренено, сколько оттеснено на задний план, составило как бы «нижний» пласт народного сознания. Так, языческий календарь, отражавший природные ритмы, был приноровлен к нуждам христианской литургии. Церковные праздники, отмечавшие поворотные моменты годичного цикла, восходили еще к языческим временам. Аграрное время было вместе с тем и временем литургическим. Год расчленялся праздниками, знаменовавшими события из жизни Христа, днями святых. …Для каждого часа дня и ночи существовали особые молитвы и заклинания. Для основной массы населения главным ориентиром суток был звон церковных колоколов, регулярно призывавших к заутрене и другим службам. Сутки делились на ряд отрезков – канонических часов, обычно их было семь, и обозначались они боем церковных часов. Таким образом, течение времени контролировалось духовенством. …Средневековые люди узнавали время преимущественно не визуально, а по звуку. Различали «колокол жатвы», «колокол тушения огней», «колокол выгона в луга». Вся жизнь населения регулировалась звоном колоколов, соразмеряясь с ритмом церковного времени. …Средневековое время – по преимуществу продолжительное, медленное, эпическое. …Время христианского мифа и время мифа языческого глубоко различны. Языческое время осознавалось, по-видимому, исключительно в формах мифа, ритуала, смены времен года и поколений, тогда как в средневековом обществе категория мифологического, сакрального времени («история откровения») сосуществует с категорией земного, мирского времени и обе эти категории объединяются в категорию времени исторического («история спасения»). Историческое время подчинено сакральному, но не растворяется в нем: христианский миф дает своего рода критерий определения исторического времени и оценки его смысла. Порвав с циклизмом языческого миросозерцания, христианство восприняло из Ветхого завета переживание времени как эсхатологического процесса, напряженного ожидания великого события, разрешающего историю, пришествия мессии. Однако, разделяя ветхозаветный эсхатологизм, новозаветное учение переработало это представление и выдвинуло совершенно новое понятие времени. Во-первых, в христианском миросозерцании понятие времени было отделено от понятия вечности, которая в других древних мировоззренческих системах поглощала и подчиняла себе земное время. Вечность не измерима временными отрезками. Вечность – атрибут бога, время же сотворено и имеет начало и конец, ограничивающие длительность человеческой истории. Земное время соотнесено с вечностью, и в определенные решающие моменты человеческая история «прорывается» в вечность. Христианин стремится перейти из времени земной юдоли в обитель вечного блаженства божьих избранников. Во-вторых, историческое время приобретает определенную структуру, и количественно, и качественно четко разделяясь на две главные эпохи: до рождества Христова и после него. История движется от акта божественного творения к Страшному суду. В центре истории находится решающий сакраментальный факт, определяющий ее ход, придающий ей новый смысл и предрешающий все ее последующее развитие – пришествие и смерть Христа. 66 67 Таким образом, новое осознание времени опирается на три определяющих момента: начало, кульминацию и завершение жизни рода человеческого. Время становится векторным, линейным и необратимым. …Историческое время в христианстве драматично. Начало драмы – первый свободный поступок человека – грехопадение Адама. С ним внутренне связано пришествие Христа, посланного богом спасти род человеческий. Воздаяние следует в конце земного существования людей. Понимание земной истории как истории спасения человечества придавало ей новое измерение. Жизнь человека развертывается сразу в двух временных планах: в плане эмпирических преходящих событий земного бытия и в плане осуществления божьего предначертания. Следовательно, человек – участник всемирноисторической драмы, в ходе которой решается судьба мира и судьба его индивидуальной души. Это сознание придавало специфическую окраску мироощущению средневековых людей, ощущавших свою внутреннюю сопричастность с историей. К ТЕМЕ № 7. НОВОЕВРПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА. Л.М. Баткин. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М. 1995 (стр. 25-92). ...В современной литературе об Итальянском Возрождении в общем преобладает отношение к нему как к эпохе, не являющейся ни простым продолжением средневековья, ни этапом внутри новоевропейской культуры, хотя и тесно связанной с тем, что ему предшествовало и наследовало, - короче, эпохе, одновременно переходной и оригинальной. На этом согласие, кажется, кончается. Оригинальность и переходность слишком трудно примирить друг с другом. Когда обнаружилась односторонность не только колоритной картины, созданной гениальным Буркхардтом, но и закономерно возникший ответ на нее в виде “медиевизации” Возрождения, возврата к образу эпохи-монолита быть уже не могло. ...Отсюда широко распространенное в западной науке представление о “плюрализме” или “эклектичности” итальянского Возрождения. ...Ни выдвижение на первый план в качестве “прогрессивной” одной из сторон Возрождения, ни простая констатация их совмещения не дают ключа к пониманию этого типа культуры, мощно-оригинального, несмотря на переходность и “эклектику” - или благодаря им? Или “плюрализм”, т.е. заимствование и совмещение в ренессансной культуре разнородного духовного материала и устремлений, - необходимое условие и результат целостности этого типа культуры? В ней встречаются действительно самые противоречивые и несовместимые, казалось бы, признаки и элементы, но не во внешне механическом столкновении, не так, чтобы удалось разложить Возрождение на “старое” и “новое”, на то, что ему “мешало”, и то, что было “подлинно ренессансным”, а в каком-то странном симбиозе, в двусмысленном и неожиданно естественном сочетании. Уяснению того, что в Ренессансе наиболее “ренессансно”, типологически значимо, обеспечивает ему неповторимое место в истории, возможно, 67 68 способствовало бы понятие диалогического равновесия как системосозидающего принципа этой культуры, отличающего ее от других форм перехода к Новому времени и тем более от тех культур Высокого средневековья, которые не в состоянии были стать и не стали переходными. Понятием диалогичности Возрождения я не отрицаю того, что описывают обычно как “плюрализм”, но не соглашаюсь ограничиться указанием, что в Возрождении встречается то, другое и третье. “Плюрализм” в специфически ренессансном виде возник на итальянской почве и таил в себе последовательную конструктивность. Непременным и необычным условием этой конструктивности была встреча по меньшей мере двух равнозначимых культурных наследий, античного и средневеково-христианского, впервые осознанных как исторически особенные, но с ощущением их общности в абсолюте. С моей точки зрения, подведение каких-либо феноменов под ренессансный тип культуры оправдано только при обнаружении в них сходной (“диалогической”) модели мировосприятия. Таков критерий периодизации. Края итальянского Возрождения размыты во времени, как и стыки любых соседствующих историко-культурных эпох, естественно наплывающих друг на друга. ... Разнобой в определении хронологических контуров и членений неизбежен, потому что исследователи, в сущности, исходят из разных уровней “плотности”, завершенности, целостности Возрождения, понимаемых как достаточные для самой его констатации. Все эти периодизации, однако, не столь уж непримиримы. Нужно лишь отдать себе отчет не только в равноправии разных критериев (точек отсчета), но и в их логической иерархии. Тогда Ренессанс будет вырисовываться в трех концентрических эллипсах. Самый широкий овал - от Данте до Галилея включительно, три века или даже три с половиной (1250--1620) - охватит итальянское Возрождение с его предутренними средневековыми сполохами и вечерними барочными зарницами, даст необходимый простор для генетического описания, подобно биографии, которая начинается рассказом о семье, в которой родился великий человек, и завершается сведениями о посмертной судьбе его сочинений. В типологическом смысле итальянское Возрождение включает не более чем два столетия (середина Х1У - середина ХУ1 в.): с момента, когда его тенденции структурировались и выразились в самосознании, и до последней кризисной черты, за которой целостный ренессансный мир прекратил актуальное историческое существование. В еще более строгом значении - это период преобладания ренессансного духовного климата, это ядро эпохи, время все возрастающей полноты, равновесия и единства компонентов и принципов новой культуры, а также ее гармоничного функционального соответствия всему общественному организму. Иными сорвами, это ХУ - начало ХУ1 в. Причем особенно Высокое Возрождение, благодаря достижению культурой своего естественнологического потолка, ослепительно поясняет природу ренессансного мышления и его исторические пределы. ...Какому из этих уровней отдается предпочтение, какой отрезок исторического времени подразумевается под термином “Ренессанс” - очевидно, зависит в каждом случае от сферы и цели исследования. ...Но ренессансная Италия в одинаковой мере и вечерняя заря средневековья, и утренняя заря нового времени. Бесполезно выяснять, чего в 68 69 ней больше. Ее переходность другого рода. Возрождение открывает новое время, не принадлежа ему, в сущности. И наука и искусство нового времени начинаются не с Возрождения (хотя после него и благодаря ему). Они начинаются к ХУП в. Это Декарт, Галилей, Шекспир, Рембрандт. Естествознание и барокко. Но точно так же Возрождение закрывает средневековье, выходя за его пределы. Если переломность такого типа принимать всерьез, то трудность предпринимаемого иногда включения Возрождения в диахронически соседствующие с ним системы мышления должна быть воспринята как перст указующий. Возможно, эту трудность и не нужно преодолевать. Не приводит ли ее любого рода преодоление к “преодолению” заодно сложности и своеобразия Возрождения? Ренессансная культура - не просто конец и начало. Она сама по себе. Не механическое смешение двух заемных красок, а свой цвет. О ней часто говорят: еще средневековая, но уже буржуазная. И то, и другое. Однако формула этой переходной культуры, скорее, иная: уже не средневековая и еще не буржуазная. Ни то, ни другое... Ее мерку нужно искать в ней самой. ...Я представляю себе дело так: от средневековой к новоевропейской культуре вели две магистральные дороги. Одна такая дорога - стиль мышления, который создали итальянцы и который в ХУ1в. дал оригинальные ответвления и за пределами Италии. Вторая дорога - не менее значительная и связанная с иной духовной структурой, между прочим, отмеченная гораздо более разнообразными местными национальными вариациями - это то, что принято называть “Северным Возрождением”. Северное Возрождение отличалось от итальянского Возрождения, как известно, прежде всего тем, что тут не было возрождения: т. е. не было принципиально нового и основополагающего обращения к античности. Европейский “Север” в Х1У-ХУ вв. (а затем, в решающей степени, и в Реформации ХУ1 в.) выходил из средневековой культуры с опорой на нее же - постепенно разлагая, перерабатывая ее изнутри, доводя каждое ее свойство и традицию до логического предела, до крайности, нередко до судороги: это и грубый натурализм, и декоративная утонченность, и схоластический формализм, и мистическое напряжение. ...Если на Севере способность взглянуть на средневековье критически, тем самым преодолевая его, рождалась преимущественно из раздвижения и обособления его же полюсов (и поэтому Реформация есть не только вызов средневековому духу, но одновременно и его последняя творческая вспышка), то Возрождение ввело в этот процесс третьего, стороннего участника, античность. Это сразу придало культурному сопоставлению другую объемность и сделало возможным взглянуть на средневековье вчуже - пусть, сравнительно с Севером, более поверхностно, зато и более свободно. В душе гуманиста дружески спорили два голоса, античный и христианский, давая ему чувствовать себя арбитром в диалоге. Поклоняясь античности и оставаясь христианским, Возрождение подменяло, смешивало и остраняло одно другим, обеспечивая себе в этом междумирье внезапную оригинальность (сознательную культурную полифонию). …Именно Возрождение, не умещавшееся в раннебуржуазные рамки, дало истоки будущего либерализма и способности к общению с любой чужой культурой прошлого и настоящего, т.е. к сознательной выработке всемирности как нового качества истории. …Принципиальнейшее (в самом отдаленном и опосредованном виде - всемирное!) значение Возрождения было предопределено не его повсеместностью, а его уникальностью - и далеко 69 70 вышло за географические и хронологические границы непосредственного существования ренессансного исторического типа. ...То самое, что с точки зрения конкретной тождественности Возрождения себе как культурному типу было выше названо кратковременной, хотя и очень важной, прививкой к основному стволу немецкой или французской истории, - было решающим, с точки зрения впервые заявленной возможности превращения Возрождения в импульс для будущего. ...Кого в итальянском ХУ в. мы вправе считать “гуманистами”? Очевидно тех, кто участвовал в культурном движении, называемом “гуманизмом”. В таком случае, что мы подразумеваем под “гуманизмом”? Выясняется, что ответить на такой простой вопрос нелегко. Первоначальная латинская форма этого понятия - “studia humanitas”. Ввели его сами гуманисты, перетолковав по-своему Цицерона. Значило оно тогда примерно следующее: “Ревностное изучение всего, что составляет целостность человеческого духа”. ...Термин “гуманизм” впервые применил, по-видимому, в 1808 г. педагог Ф.Нитхаммер, друг Шиллера и Гегеля; но только Г.Фойгт выделил “первый век гуманизма”, т.е. то, что затем сочтут временем “раннего” гуманизма, в узком, “этико-филологическом”, значении. За прошедшие с тех пор сто лет содержание понятия “итальянский гуманизм” не раз менялось - и продолжает меняться. Ведь “Возрождение” и “гуманизм” не просто некие факты, засвидетельствованные источниками, откуда мы могли бы извлечь их в готовом виде. Они насквозь проблематичны. …Иногда “гуманизм” и “Возрождение” различают в западной историографии как два следующих друг за другом этапа, т.е. понимают под вторым только Высокое Возрождение. ...Мы попытаемся взять гуманизм в отношении ко всей культуре Возрождения, но не как “часть” или “сторону” этой культуры, тесно связанную с прочими ее “сторонами”, выступающими в качестве некоего фона для истории мысли (что выглядело бы достаточно тривиально), а как фокус ренессансного типа культуры. Конечно, таким фокусом могло бы послужить в не меньшей мере также искусство, вообще любой характерно ренессансный феномен. Умонастроение гуманистов нас будет, следовательно, занимать в том плане, в каком оно изоморфно всему срезу итальянского Возрождения и дает ключ к пониманию его относительной целостности. ...На основе каких принципов эти люди творили, т.е. меняли себя и свою культуру? ...Тайну гуманизма мы будем искать в гуманистах, в их групповом портрете. Возникновение гуманистической интеллигенции стало возможным благодаря некоторым социальным предпосылкам. Ранний и бурный процесс урбанизации Северной и средней Италии повлек за собой целый комплекс перемен и ознаменовался не только господством товарно-денежной экономики, но и зарождением к Х1У в. в некоторых городах (главным образом во Флоренции) сукнодельческих и шелковых мануфактур. В стране возобладал политический (и неизбежно культурный) полицентризм, основанный на городах-государствах (коммунах, а затем синьориях). Ведущей силой так или иначе оставались купцы и ремесленники, сплоченные в корпорации (пополаны), но прежде всего, конечно, пополанская верхушка, сблизившаяся и слившаяся с той частью нобилитета, которая сумела перестроиться на новый лад. Все виды социальной активности соединились в практике правящего слоя, в деятельности одних и тех же лиц, которые вели торговые и ростовщические операции 70 71 невиданного ранее размаха, заправляли текстильным производством, сдавали землю в аренду. Эти же гибкие, осведомленные, масштабно мыслящие дельцы возглавляли самые влиятельные цехи, заседали на выборных должностях (сохранившихся и в синьориях), вербовали кондотьеров, ведали казной и правосудием, командовали крепостями, ездили в посольства. Такое многообразие незатвердевших социальных ролей обеспечивало правящему слою устойчивость и выковывало в его среде блестящих людей, более того создавало общую атмосферу, в которой высоко ценились индивидуальность и незаурядность. …Культурная перестройка, происходившая в таких крупных городах, как Флоренция и Венеция, не ограничилась ни в географическом, ни в социальном смысле своими эпицентрами, своими источниками. Она вобрала всю Италию и воздействовала на облик национальной культуры в целом. Важно то, что люди, от которых наиболее непосредственно и эффективно зависела судьба гуманистов и художников, были ведущим элементом более обширного, социально-подвижного городского мира. ...Итак, новая социальность преломилась в характере ренессансной творческой Среды и заговорила на языке культуры. …Ренессансная система взглядов на мир, конечно, дала о себе знать уже в том, что представляли собой сами гуманисты, и какое существование они вели или, по крайней мере, старались вести, чтобы привести его в соответствие с ритуализированными жизненными установками. Если это так, то можно ожидать, что в биографиях гуманистов, в их ученых занятиях, застольях и прогулках, в их переписке, дружбе и ссорах, в речах и повадках обнаружится тот же общий смысл, те же проблемы и противоречия, что и в трактатах, поэмах, картинах: типологические качества культуры в целом. …Некоторые из них были членами старых корпораций, но то, что их делало гуманистами и объединяло, не имело отношения к цехам и университетам. Местом их встречи служили загородная вилла, монастырская библиотека, книжная лавка, дворец государя и просто частный дом, где уютно разговаривать, перелистывать рукописи, разглядывать античные медали. В подражание древним они называли свои кружки “академиями”. Однако не принадлежность к академии делала гуманистами, а гуманисты создавали академию. И чтобы войти в их тесный круг, требовалось лишь одно условие блеснуть знаниями и способностями на ниве “студиа гуманитатис”. ...Академии из частных кружков стали превращаться в профессиональные объединения под покровительством власти. К ХУ1 в. Групповой облик гуманистов начал застывать. Классическая образованность обернулась модой, а сопричастность к ней - почтенным клеймом, уже не обязательно соответствующим личным достоинствам. ...Новый, интеллектуальный и литературный, аристократизм гуманистов был признаком замечательного сдвига. “Благородство” (избранность, элитарность) рассматривалось ими как производное от овладения “словесностью” и “ученостью”. Специфическим критерием “благородства” стала культура, источник особой гордости людей, любивших думать, что писатель, сохраняющий память о деяниях для потомства и тем дарующий бессмертие, выше воспетого им героя, чья слава - на кончике гуманистического пера. ... Филологическая, эрудитская или созерцательно-платоническая ориентация на посвященных (эзотеризм) была лишь первым и парадоксальным 71 72 шагом к системе социальных ценностей, которую мы называем демократической. Не следует, однако, упускать из виду, что ренессансной культуре, как и средневековому христианству, не могла быть известна чисто буржуазная идея демократии, т.е. полного равенства всех людей в качестве граждан, невзирая на любые, индивидуальные и социальные различия между ними. Что бы ни представлял собою данный индивид, особенное теряет значение у избирательной урны и в товарно-денежном обмене, которые уравнивают несходных людей и несходные потребительные стоимости. Возможность сведения к количеству - обязательная предпосылка буржуазного индивидуализма. Анонимность - пароль личной свободы. Отчуждение новоевропейской личности - условие ее суверенного и динамического конструирования. ...Средневековый индивид, напротив, личность постольку, поскольку он наиболее полно соотнесен со всеобщим и выражает его. ...Средневековые люди всегда связаны корпоративными и т.п. узами - именно связанность делает их отношения конкретными и личностными. Они пребывают на ступенях бесконечной лестницы, различаясь мерой олицетворения предлежащих истин и ценностей... Люди никак не равны, ибо каждому - своя доля греха и добродетели, падения и избранничества. Но спастись и возвыситься может каждый, путь не закрыт никому и остается до смертного часа делом свободной воли. Значит, это неравенство в равенстве: неравенство отдельных смертных судеб в общей для человечества судьбе, предопределенной грехопадением и христовым искуплением. Равенство всех перед Богом и священное избранничество имплицируют друг друга. Ренессанс, исходя из этой психологической схемы, в значительной мере секуляризовал и кардинально перетолковал ее содержание. Гуманисты полагали, что божественной природой каждому человеку в принципе дана возможность возвыситься и стать более или менее исключительным, “героическим” благодаря “доблести”. Следовательно, признавалось естественное исходное равенство на пути к превращению в избранных! Л.М. Косарева. Социокультурный генезис науки Нового времени. М., 1989 (стр. 16-37). Фактором, определившим характер духовной культуры ХУП в., явился все более углубляющийся процесс овеществления общественных отношений. ...Для докапиталистических способов производства характерно господство личностных связей между членами социума. Жизнь отдельного человека античности и средневековья немыслима вне кровной естественной связи с его полисом, общиной, цехом, приходом. Человек “несом” в жизни неразрывной связью со своим микросоциумом, охраняем ею от нравственного распада. Худшим несчастьем для него является одиночество, разрыв связи с микросоциумом, наполняющим смыслом его жизнь: остракизм, изгнание, отлучение, анафема. Общественное производство докапиталистических формаций не требовало от обычного производителя универсальности, полифункциональности: оно удовлетворялось “частичностью” каждого отдельно взятого агента производства. В классическом виде эта частичность реализована в азиатском способе производства - в кастовой структуре социума. “Универсальной” в 72 73 определенном смысле можно считать здесь, пожалуй, лишь жреческую прослойку, осуществляющую духовное руководство обществом. Впервые универсализация личности в социально значимом масштабе начинается в античной Греции (см. об этом работы М.К.Петрова). Фигура Одиссея - это, в сущности, уже целый социум с полным набором главных функций - от управленческой до исполнительской. Он и царь-басилей, он и воин, он и землепашец, и жрец, и торговец... и даже спортсмен. Универсализация свободного гражданина полиса как свою противоположность порождает универсализацию функций раба. Он становится носителем близкой исполнительской силы. Завоевания процесса универсализации закрепляются в философских системах античности и в монотеистических религиях. Средневековье на практике во многом возвращается к социальной организации, носящей квазикастовый характер, хотя при этом в идеологии средневекового христианства существует “культ абстрактного человека” (Маркс). …Поведение в подавляющем большинстве случаев определялось совокупностью традиционных, конкретных (писаных или неписаных) правилобразцов, не требующих самостоятельной, личной ответственности отдельного человека за смысл его жизни. ...Согласно католической доктрине, спасенность человека обеспечивалась уже тем, что он приобщен к церковным обрядам, что вся его жизнь - от рождения до смерти - ведома духовными пастырями, взявшими на себя посредничество между человеком и богом. Кроме того, “духовному благополучию” способствовали “добрые дела” и вообще правильная (по правилам) жизнь. ... На смену религии “личностных отношений” - католицизму приходит религия “вещных отношений” - протестантизм: ортодоксальный католицизм в условиях социальной нестабильности ХУ1-ХУП вв. являлся слабой духовной опорой в тех ситуациях, где невозможно вести себя традиционным образом, где требовалась духовная самостоятельность индивида, полнота ответственности и т.д. Выдвинутые Реформацией идеологии как раз давали индивиду точку опоры в нестабильном раннекапиталистическом мире. Этой точкой опоры он должен был стать сам. И лютеранство, и кальвинизм нацеливали человека на принципиальное одиночество в миру. Человек ХУ1 в. болезненно переживал потерю кровных связей со своим микросоциумом. А эти связи не только не нужны, но и мешают спасению - утверждали реформаторы. ...Ломка традиционных устов, прежде служивших индивиду психологической опорой и источником смысла бытия, ломка барьеров между различными социальными слоями, миграция из одних сфер деятельности в другие и т.п. процессы неизбежно приводили к формированию нового типа личности - социального атома, универсальной индивидуальности, целиком стоящей на своих ногах, ищущей духовную опору не в традиции, а в себе самом, себе, и только себе обязанной обретенным смыслом жизни - возникает “человек, сделавший себя сам”. Формируется тип зрелой индивидуальности с развитым самосознанием (“я-сознанием”). Это эпоха расцвета европейского индивидуализма, время сильных личностей. Однако, утверждая это, мы должны четко представлять себе, о чем идет речь: о реальном характере индивида рассматриваемого периода или о его самооценке. Ибо дух эпохи Возрождения и Реформации в этом плане существенно различается: у человека Возрождения его реальная активность совпадает с высокой самооценкой, реальная же активность субъекта 73 74 деятельности и познания в постреформенный период осознается в неадекватных формах - в терминах собственной “ничтожности”, пассивности и послушного исполнения внешней субъекту божественной воли. Итак, самооценка человека Возрождения и пострефорационных ХЧ1ХУП вв. на первый взгляд диаметрально противоположны. Однако важно понять их внутреннее родство, необходимо осознать, что они отражают разные этапы одного и того же процесса - развития раннебуржуазного индивидуализма, увенчавшегося верой в могущество разума эпохи Просвещения. Тогда, когда развитие капитализма только начиналось и овеществление общественных отношений еще не выступило во всем своем бесчеловечном облике, индивидуализм явился в своем гордом и “великолепном” (любимый термин Возрождения) облике, возвеличивая личность, наделяя ее почти божественными возможностями (“я могу стать вторым богом”). Дальнейшее развитие капитализма и овеществления общественных отношений вызывает кризис ренессансного представления о человеке и устами идеологов Реформации провозглашает идею ничтожества человека в его своеволии, необходимости принесения в жертву своего гордого самомнения. “Не я, но бог во мне” - такова самооценка человека эпохи Реформации и контрреформации. Человек может достичь многого, но он вначале должен признать полное бессилие своей творческой воли и свою полную зависимость в достойных делах от воли могущественного Творца. ...Например, Лютер в работах 1520-1530 гг. утверждает достаточно привычную для средневековья идею, что наличие веры выражается в деятельной “любви к ближнему”. Однако смысл этого понятия трансформируется Лютером в духе раннебуржуазных идеалов: не “сентиментальное” сочувствие, а полезная для ближнего деятельность есть суть “любви”. ...Этот процесс обезличивания, деантропоморфизации “любви к ближнему” усугубляется у кальвинистов, особенно у английских (пуритан). “Служа ближнему”, пуританин мог вообще не испытывать к ближнему никаких чувств. В этом смысле “служить” означало только “быть полезным”. Всякое непосредственное движение души, например желание подать нищему милостыню, считалось у последовательных протестантов “католической сентиментальностью”. ...Какая метаморфоза представлений о ценности и достоинстве человека! Для средневековой культуры человек - венец творения; Возрождение в лице Пико делла Мирандолы восклицает: “Великое чудо - человек!” Реформация же устами Лютера и Кальвина утверждает, что человек - всего лишь земля и грязь, и единственный путь обретения достоинства для него - сознательно сделать себя средством, полезным для мира. Реформация является религиозной санкцией процесса овеществления: в ее идеологиях этот процесс представлен как высокое, аскетически жертвенное служение ближнему. Превращение человека только в полезную для ближнего “вещь” освящалось как высокий уровень духовного развития, как жертва собой миру. Идеал человека как “полезной вещи” высоко поднимался реформаторами, считавшими его в высшей степени богоугодным. ...В обстановке ХУП в. уже совершенно немыслимы утверждения, которые естественно вытекали их ренессансного мировоззрения, например утверждения Кузанского: “человек есть второй бог”. На смену средневековому 74 75 и ренессансному отношению даже к неодушевленному предмету как к человеку приходит отношение к человеку лишь как к полезной вещи... История свидетельствует о небывалом расцвете в ХУП в. интереса к созданию механизмов и к натюрморту. Этот интерес имеет одни и те же социокультурные причины. Они коренятся в радикальной перестройке всего жизненного уклада, способа производства материальных и духовных благ. Эта перестройка вызвала разительные перемены в социально-психологической реакции на живую и неживую природу. Ценностное выделение неодушевленного предмета, механизма интимными нитями связано с расцветом самосознающего типа личности. На первый взгляд эта связь неочевидна, поэтому мы должны пояснить ее. Если живая природа ассициировалась с аффектами, страстями, свойственными поврежденной человеческой природе, хаотическими влечениями, раздирающими сознание, мешающими его “центростремительным” усилиям, то механические устройства, артефакты, “мертвая природа” ассоциировались с систематически-разумным устроением жизни, полным контролем над собой и окружающим миром. Например, дикая, “невозделанная” природа, горы, леса повергали Бойля в печаль и уныние. Напортив, всяческие механизмы, “хитроумные автоматы” вызывали у него чувство восхищения и отрады. ...Идея “укрощения строптивой” - испорченной человеческой природы, желание избавиться от поврежденной, слишком человеческой, антропоморфной “низшей” стихии в человеке делали образы мира как часового механизма, а Бога как часовщика “душеспасительными”. Парадоксально, но образ искусственной вещи, “мертвой природы”, механизма противопоставлялся протестантизмом ХУП в. явлениям живой природы как выражение высшей духовности в противоположность поврежденной ветхой “душевности”. Образ мира как часового механизма или как “беременного автомата” (Бойль) обладал в глазах благочестивого протестанта большой моральной и познавательной ценностью: он гарантировал разумность и познаваемость неизменных правил, законов устройства этого механизма, проливающих свет на замыслы Творца и на смысл существования человека. ...При исследовании генезиса механической картины мира необходимо давать себе ясный тчет о том, что на пути превращения природного мира как механизма в господствующую “респектабельную” философию стояла уходящая в глубь веков традиция жесткого социального разделения “высших” и “низших” форм деятельности. К высшим семи “свободным искусствам, преподававшимся в средневековых университетах (тривий и квадривий), относились грамматика, диалектика, риторика, астрономия, арифметика, геометрия и музыка. К низшим “механическим искусствам” относились все виды производства материальных благ. …“Механические искусства” - деятельность по привычке - чрезвычайно низко оценивались общественным мнением как в античную эпоху, в средневековье, так и в эпоху Возрождения. По этой причине, например, Архимед должен был оправдывать в глазах современников свои занятия конструированием механизмов. Эта же низкая общественная оценка труда ремесленников послужила причиной для полной драматизма борьбы художников Возрождения за социальное признание. ... Принимая во внимание вышеизложенное, попытаемся ответить на вопрос: как могло случиться, что представители высших слоев общества, на протяжении столетий считавшие “механические искусства” делом недостойным мыслителя, философа, свободного человека, включили “механику” в систему 75 76 своих ценностей и, более того, отвели ей главное место? Какова была психологическая подоплека столь разительной перемены в отношении к “низшей” сфере деятельности? ...Процессы формирования нового типа личности в социально значимом масштабе начались в эпоху Возрождения, ярко проявившись в судьбах такой социальной группы, как художники (живописцы, ваятели)... За ХУ-ХУ1 вв. данная группа прошла путь от положения ремесленника (маляры, живописцы, каменотесы и ваятели принадлежали к одному цеху) до статуса, близкого положению представителей “свободных искусств” - литераторов, “сделав себя” полноправными членами привилегированных слоев общества. ...Для Леонардо искусство (технэ) означало способность, исходя из природного, отталкиваясь от природы, пойти дальше нее, превзойти ее. Пафос творческого самосозидания был центральным мотивом неоплатонизма (являвшегося неотъемлемой стороной культуры Возрождения), а также герметизма. Увлечение последним началось в эпоху Возрождения после того, как известный флорентийский неоплатоник М.Фичино перевел с греческого на латынь в 1453-1464 гг. 14 рукописных трактатов из “Герметического корпуса”, авторство которого приписывалось Гермесу (Меркурию) Трисмегисту. С этого момента “герметические науки” (алхимия, астрология, магия) выходят на поверхность культуры и становятся на протяжении ХУ1-ХУП вв. влиятельным интеллектуальным течением. В этот период не только учреждаются должности придворных алхимиков, но магией и алхимией увлекаются многие коронованные особы и высшее духовенство. Алхимики не представляли собой единой социальной группы... В эпоху позднего средневековья и Возрождения существовало три категории алхимиков: “раздуватели горнов” (ремесленники), мошенники (“звонари” от алхимии) и философы-адепты “метафизической алхимии”. Адепты “метафизической”, или “философской” алхимии, исходя из принципа аналогии микрокосма (человека) и макрокосма (Вселенной), пытались найти метод преобразования обыденного сознания, уподобив этот процесс химическим превращениям вещества из “низшей” формы в “высшую”, в “философский камень”. Этот процесс “великого делания” имел три цели: в материальном мире трансмутация металлов до золота; в микрокосмосе моральное совершенствование; созерцание божества в его славе в мире божественном. Алхимики-философы исходили из идеи, которая впоследствии станет центральной у протестантских реформаторов, что человеческая природа в ее непосредственной данности изначально повреждена и требует очистки и радикальной переделки. В этом плане алхимия предстает как “путь к спасению”. Конкретной техникой этого “спасения” является цикл “великого делания” соединения “серы” и “ртути” в герметическом “яйце философов” и варка этой “материи делания” до получения “камня мудрых”. В данном процессе “человек предстает горном, в котором вырабатываются моральные добродетели”. ...В деятельности флорентийского неоплатоника Мирандоллы эта алхимическая концепция трансформиовалась в учение о “естественном маге”. Согласно ему, человек, очистившись от несовершенств, может развить в себе способность постигать тайные силы микрокосма и управлять ими. ...Эта концепция естественной магии получила широкое распространение в интеллектуальных кругах эпохи Возрождения. Образ “естественного мага” явился конкретным воплощением идей Пико делла Мирандоллы о достоинстве 76 77 человека, “свободного и славного мастера”, наделенного властью творить свой образ, согласно своей воле и своему решению. ...Идеи “самовозделывания”, “сакральной техники” самосозидания, являвшиеся у ренессансных мыслителей “эзотерическими”, Реформация сделала массовыми, лишив их ренессансного ореола блеска, славы, великолепия. Работа над собой, преображение своего “поврежденного” естества, самовоспитание становятся требованием, предъявляемым к человеку идеологиями протестантизма, янсенизма и т.д. Но если самостроительство человека в эпоху Возрождения протекало в духовной обстановке разделения “низших” и “высших” сфер деятельности, “механических” и “свободных” искусств (причем представители “низших” сфер тянулись “вверх”), в обстановке возвеличивания “рукотворной” культуры (произведений искусства, несущих на себе печать гения их творцов), то суровый аскетизм реформационных идеологий, во-первых, радикально уровнял все сферы деятельности, во-вторых, объявил “слишком человеческую” рукотворную, гедонистическую культуру Возрождения идолом, который необходимо разрушить на пути спасения. ...Если ренессансные идеи “самовозделывания” являлись достаточно элитарными, то реформационные идеологии (особенно кальвинизм) сделали навыки “самоконструирования”, искусства создания “новой” природы человека (взамен “ветхого” естества) массовыми, общими и обязательными для представителей всех слоев общества. И для человека ХУП в., в борьбе с аффектами, со стихией “низшей”, “поврежденной” природы создавшего “артефакт” собственной жизни, образ искусственно сделанной вещи (механизма) приобретает глубокий этический смысл, исключительную ценностную нагруженость. В среде образованных привилегированных слоев общества возникает идея “экспериментальной философии” (соединения ручного труда и учености) и интерес к занятиям ремесленников. Эксперимент в отличие от простого случайного опыта или наблюдения начинает трактоваться как некий артефакт, как специальное создание искусственных условий, в которых явление, вырванное из естественных связей, могло бы явить некоторую закономерность (устойчивость своего бытия). ...Эти идеи оказались настолько социально назревшими, что заставили состоятельных, обладавших политическим влиянием аристократов не только интересоваться ремеслом механиков, экспериментированием, механической философией, но и добиться у короля согласия на организацию общества “экспериментирующих философов” Королевского общества. ...Однако, констатируя эти перемены, мы должны ясно осознавать причины “технизации” общественного сознания и механизации картины мира, совершившихся в европейской культуре ХУП в. Не просто труд ремесленниковмехаников, не просто “труд по привычке” (Аристотель) стал ценностью в глазах общества ХУП в. (назовем любой “труд по привычке” горизонтальным аспектом труда). Скорее наоборот, реформационные технологии лишили качественно определенный “труд по привычке” (даже труд священника и монаха) какого бы то ни было священного ореола, какой бы то ни было роли в достижении спасения. Высшей ценностью в глазах реформаторов являлся другой, так сказать, “вертикальный” аспект труда: деятельность по методической перестройке всей жизни, всего сознания, полностью лишенная опоры на привычку, на профессиональные навыки. Перестраивая свою жизнь, 77 78 протестантский мирянин трудился не как башмачник, не как крестьянин или кузнец: его деятельность по переустройству жизни не обладала этими частными характеристиками; профессиональные навыки были бессильны оказать ему помощь. Это была, так сказать, “абстрактная” деятельность, носящая всеобщий характер... И если в эпохи античности и средневековья принадлежность деятельности к сакральной или профанической сфере задавалась традицией, внешним образом, то в эпоху Реформации сакральным или несакральным мог стать любой вид труда в зависимости от того, осуществляется ли он по привычке или является сознательным средством реализации преображенной жизни человека. Таким образом, прикосновение “философского камня” преображенной жизни делает сакральным, высоким любой, самый “низший” вид труда, трансмутируя его неблагородную сущность в “золото”. ...Каждый из моментов этого абстрактного, всеобщего измерения труда находится в поле сознательного, этически нагруженного сверхусилия. В этом силовом поле, относящемся к области основных жизненных смыслов человека ХУ1-ХУП вв., “умолкает”, “гаснет” качественная специфика трудового процесса. Эта специфика перестает играть сколько-нибудь существенную роль в сравнении с тем нравственным напряжением, которое делает профессиональную деятельность средством к спасению. Таким образом, “реальная абстракция” труда вообще рождается в культуре ХУ1-ХУП вв. в нравственно-религиозной “рубашке”, секуляризуясь с дальнейшим развитием капиталистических отношений. ...Таким образом, в условиях существования вековой традиции разделения низших и высших сфер деятельности ручной, ремесленный труд (“механическое искусство”) смог стать социальной ценностью лишь тогда, когда он явился в форме “сакрального труда” - труда по методическому переустройству всего образа жизни человека, характерного для эпохи Реформации. И лишь после этого могла возникнуть религиозная санкция образа мира как механизма. Реформация изменила весь характер теологических представлений. Если в античности и средневековье всеобщее Бог, Перводвигатель - мыслился прежде всего как разум, логос, сообщавший мирозданию гармонию и порядок (непосредственная же “работа” по поддержанию этого порядка возлагалась на духовные иерархии), то протестантские реформаторы на первый план выдвинули представление о божественной воле, единолично и творящей и поддерживающей мир в его упорядоченности. Этой волей установлены в мироздании неизменные, вечные законы, заведен “часовой механизм” Вселенной. И человек, не желающий “выпадать” из общей работы этого механизма, должен уподобить ему свою жизнь, а также научиться познавать его “детали” своим разумом. ...Эти процессы имели важнейшие последствия для развития науки, для формирования нового экспериментального механико-математического естествознания. К ТЕМЕ № 8. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ. И. П. Ильин. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. М., 1998 (стр. 3-205). …Противоречивость современной жизни такова, что не укладывается ни в какие умопостигаемые рамки и поневоле порождает, при попытках 78 79 своего теоретического толкования, не менее фантасмагорические, чем она сама, объяснительные концепции. Едва ли не самой влиятельной из таких концепций-химер и является постмодернизм. Родившись вначале как феномен искусства и осознав себя сперва как литературное течение, постмодернизм затем был отождествлен с одним из стилистических направлений архитектуры второй половины века, и уже на рубеже 70-ых –80-ых годов стал восприниматься как наиболее адекватное выражение и интеллектуального, и эмоционального восприятия эпохи. …Здесь обосновывается существование единого комплекса представлений – постмодернизма, деконструктивизма и постструктурализма. Этот комплекс представляет собой влиятельное интердисциплинарное по своему характеру идейное течение в современной культурной жизни Запада, проявившееся в различных сферах гуманитарного знания и связанное определенным единством философских и общетеоретических предпосылок и методологии анализа. …Переработанное во французском структурализме теоретическое наследие русского формализма, пражского стуктурализма и новейших по тем временам структурной лингвистики и семиотики было затем переосмыслено в постструктуралистской доктрине в середине 60-ых – начале 70-х годов в работах Ж.Дерриды, М.Фуко, Р.Барта, Ю.Кристевой, Ж.Делеза, Ф.Гваттари и Р.Жерара. …Постструктурализм, если рассматривать его в целом, выступил как широкое идейное течение западной гуманитарной мысли, оказывающее в последнюю треть века сильнейшее влияние на гуманитарное сознание Западной Европы и США. Свое название он получил потому, что пришел на смену структурализму как целостной системе представлений и явился своеобразной его самокритикой, а также в определенной мере естественным продолжением и развитием изначально присущих ему тенденций. Постструктурализм характеризуется прежде всего негативным пафосом по отношению ко всяким позитивным знаниям, к любым попыткам рационального обоснования феноменов действительности, и в первую очередь культуры. Так, например, постструктуралисты рассматривают концепцию «универсализма», т.е. любую объяснительную схему или обобщающую теорию, претендующую на логическое обоснование закономерностей мира действительности, как «маску догматизма». …Столь же отрицательно они относятся к идее роста или прогресса в области научных знаний, а также к проблеме социально-исторического развития. …Так, для Фуко знание не может быть нейтральным или объективным, поскольку всегда является продуктом властных отношений. Вслед за Фуко постструктуралисты видят в современном обществе прежде всего борьбу за «власть интерпретации» различных идеологических систем. При этом «господствующие идеологии», завладевая индустрией культуры, иными словами, средствами массовой информации, навязывают индивидам свой язык, т.е., по представлениям постструктуралистов, отождествляющих мышление с языком, навязывают сам образ мышления, отвечающий потребностям этих идеологий. Тем самым господствующие идеологии якобы существенно ограничивают способность индивидуумов осознавать свой жизненный опыт, свое материальное бытие. ...При этом ведущие представители постструктурализма (такие как Деррида и Фуко), …воспринимают критику языка как критику культуры и цивилизации. 79 80 …В частности, вся восходящая к гуманистам традиция работы с текстом выглядит в глазах Дерриды как порочная практика насильственного овладения текстом, рассмотрения его как некой замкнутой в себе ценности, - практика, вызванная ностальгией по утерянным первоисточникам и жаждой обретения истинного смысла. Понять текст для них означало «овладеть» им, «присвоить» его, подчинив смысловым стереотипам, господствовавшим в их сознании. …В том же направлении развивается мысль и второго после Дерриды по своему влиянию теоретика постструктураплизма М.Фуко. …Так, основная цель исследований Фуко – выявление «исторического бессознательного» различных эпох начиная с Возрождения и по ХХ в. включительно. Исходя их концепций языкового характера мышления и сводя деятельность людей к «дискурсивным практикам», Фуко постулирует для каждой конкретной исторической эпохи существование специфической эпистемы – «проблемного поля», достигнутого к данному времени уровня культурного знания, образующегося из дискурсов различных научных дисциплин. …Она (эпистема) реализуется в речевой практике современников как строго определенный языковый код – свод предписаний и запретов. Эта языковая норма якобы бессознательно предопределяет языковое поведение, а следовательно, и мышление отдельных индивидов. Господству этого культурного бессознательного Фуко противопоставляет деятельность «социально отверженных»: безумцев, больных, преступников и, естественно, в первую очередь, художников и мыслителей. С этим связана и мечта Фуко об идеальном интеллектуале, который, являясь аутсайдером по отношению к современной ему эпистеме, осуществляет ее деконструкцию, указывая на слабые места - на изъяны общепринятой аргументации, призванной укрепить власть господствующих авторитетов и традиций. Самым существенным в учении Фуко, как об этом свидетельствует практика постструктурализма, явилось его положение о необходимости критики «логики власти и господства» во всех ее проявлениях. Именно это является наиболее привлекательным тезисом его доктрины, превратившимся в своего рода негативный императив, затронувший сознание широких кругов современной западной интеллигенции. …Существенную роль в теоретическом обосновании текстуализации сознания сыграл Жак Лакан. …Почему Лакан – один из общепризнанных «отцов структурализма» оказался в центре внимания постструктуралистов? …Практически вся постструктуралистская мысль развивалась под его интенсивным влиянием, в условиях либо безоговорочного, либо критического восприятия его идей. …Он заложил основы постструктуралистского варианта неофрейдизма, без учета которого вообще невозможно понять, что из себя представляет сам постструктурализм. …Кардинально пересмотрев традиционную теорию фрейдизма с позиций лингвистики и семиотики, Лакан отождествил бессознательное со структурой языка, утверждая, что сновидение структурировано как текст, более того, «сон уже есть текст». …Лакан саму личность понимал как знаковое, языковое сознание. …Специфика лакановского понимания языкового сознания прежде всего состоит в том, что она вытекает из его представления о структуре человеческой психики как сложного и противоречивого взаимодействия трех составляющих: Воображаемого, Символического и Реального. …В самом общем плане Воображаемое – этот тот комплекс иллюзорных представлений, который человек создает сам о себе и 80 81 который играет важную роль его психической защиты, или, вернее, самозащиты. Символическое – сфера социальных и культурных норм и представлений, которые индивид усваивает в основном бессознательно, чтобы иметь возможность нормально существовать в данном ему обществе. Наконец, Реальное – самая проблематичная категория Лакана – это та сфера биологически порождаемых и психически сублимируемых потребностей и импульсов, которые не даны сознанию индивида в сколько-нибудь доступной для него рационализированной форме. …Иными словами, Реальное не может быть испытано, т.е. непосредственно дано в опыте, поскольку под опытом Лакан понимал только языковое опосредование, в результате чего Реальное для него «абсолютно сопротивляется символизации». …В современном представлении человек перестал воприниматься как нечто тождественное самому себе, своему сознанию, само понятие личности оказалось под вопросом, социологи и психологи (и это стало общим местом) предпочитают оперировать понятиями «персональной» и «социальной идентичности», с кардинальным и неизбежным несовпадением социальных, «персональных» и биологических функций и ролевых стереотипов поведения человека. И не последнюю роль в формировании этого представления сыграл Лакан. …Ввиду остро ощущаемого современным гуманитарным мышлением кризиса понятия личности возникли многочисленные попытки найти новые инстанции, способные организовать в некое целое субъективный опыт человека. Не удивительно, что едва ли не основной из таких инстанций становится понятие нарратива, повествования. Так, среди теоретиков постмодернизма в самых разных областях человеческого знания получила широкое распространение концепция американского литературоведа Ф. Джеймсона. …Вкратце суть этой концепции состоит в том, что все воспринимаемое может быть освоено человеческим сознанием только посредством повествовательной фикции, вымысла; иными словами, мир доступен человеку лишь в виде историй, рассказов о нем. …Но из этого следует еще один неизбежный вывод – сама личность в результате своего художественного обоснования приобретает те же характеристики литературной условности, вымышленности и кажимости, что и любое произведение искусства. * * * За последние двадцать лет в Западной Европе и США большое распространение получил феномен так называемой феминистской критики. Она не представляет собой какой-либо отдельной специфической школы, обладающей только для нее характерным аналитическим инструментарием или своим собственным методом, и существует на стыке нескольких критических подходов и направлений: культурно-социологического, постструктуралистского, неофрейдистского и многих других. Единственное, что ее объединяет, - это принадлежность широкому и часто весьма радикальному, чтобы не сказать большего, движению женской эмансипации. …Основным исходным постулатом современного феминистского сознания является убеждение, что господствующей культурной схемой, культурным архетипом буржуазного общества Нового времени служит «патриархальная культура». Иными словами, все сознание современного человека, независимо от его половой принадлежности, насквозь пропитано 81 82 идеями и ценностями мужской идеологии с ее мужским шовинизмом, приоритетом мужского начала, логики, рациональности, насилием упорядоченной мысли над живой и изменчивой природой, властью ЛогосаБога над Матерью-Материей. Этим и объясняется необходимость феминистского пересмотра традиционных взглядов, создания истории женской литературы и отстаивания суверенности женского образа мышления, специфичности и благотворности женского начала, не укладывающегося в жесткие рамки мужской логики. Критика чисто мужских ценностных ориентиров в основном развернулась в англосаксонской, преимущественно американской, литературной феминистике, усилиями которой к настоящему времени создана обширная литература, многочисленные антологии женской литературы, научные центры, программы и курсы по изучению этого предмета. Сейчас практически нет ни одного американского университета, где бы не было курсов или семинаров по феминистской литературе и критике. Тем не менее значительная, если не преобладающая, часть феминистской критики развивается не столько в русле социокритического направления, сколько под влиянием неофрейдистски окрашенного постструктурализма в духе идей Жака Дерриды, Жака Лакана и Мишеля Фуко. Именно Деррида охарактеризовал основную тенденцию западноевропейской культуры, ее основной способ мышления как западный логоцентризм, т.е. как стремление во всем найти порядок и смысл, во всем отыскать первопричину и тем самым навязать смысл и упорядоченность всему, на что направлена мысль человека. При этом, вслед за Лаканом, он отождествил патернальный логос с фаллосом как его наиболее репрезентативным символом и пустил в обращение термин «фаллологоцентризм», подхваченный феминистской критикой. …Если обратиться к историческому аспекту проблемы, то вплоть до середины 60-х годов во французской феминистской критике заметно ощущалось воздействие идей экзистенциализма в той психоаналитической интерпретации, которую ему придал Сартр и которая была подхвачена Симоной де Бовуар и Моникой Виттиг. Речь прежде всего идет о весьма влиятельной в англоязычном мире книге де Бовуар «Второй пол», переведенной в 1970 г. на английский. Здесь она дала экзистенциалистские формулировки инаковости и аутентичности женской личности и выдвинула популярную в мире феминизма идею, что понятие фаллоса как выражения трансцендентального превращает «Я» женщины в «объект», в «Другого». В 70-е годы доминирующее положение во французском феминизме заняла постструктуралистски ориентированная критика (наиболее видные ее представительницы: Ю.Кристева, Э.Сиксу, Л.Иригарай, С.Кофман). …Все усилия французских теоретиков феминистской критики были направлены на переворот, на опрокидывание традиционной иерархии мужчины и женщины, на доказательство того, что женщины занимает по отношению к мужчине не маргинальное, а центральное положение. …Как широкомасштабное явление социального порядка и как влиятельный фактор интеллектуальной жизни современного западного общества феминизм захватывает своим воздействием в данное время весь спектр гуманитарных наук, тем не менее именно в литературоведении он обрел тот рупор своих идей и настроений, который вот уже в течение двадцати лет самым активным образом влияет на общественное сознание. 82 83 * * * …Своего пика постмодернистское мироощущение достигло на Западе в 80-е годы, причем это (судя по всему, оно и сейчас таково) было очень двойственным чувством: с одной стороны, ощущалась исчерпанность постмодернистских представлений, с другой – ничего нового им на смену не пришло, более того, создавалось впечатление, что постмодернизм втягивал в поле своего воздействия все новые и новые сферы культурного сознания. …Долгие годы подготавливаемая развитием искусства модернизма и постмодернизма переориентация эстетических вкусов, переоценка самих эстетических ценностей привели к изменению общего представления о культуре, о ее составляющих, о ее роли и функции, о ее предназначении. Культура перестала быть тем, чем она была раньше: сферой должного и идеального, областью незыблемого господства нетленных канонов красоты, изящества и совершенства. Изучение культуры приобрело, если можно так сказать, археологический привкус: появился пристальный интерес к материальной, предметной культуре. Разумеется, ничего принципиально нового здесь нет: всегда существовали прикладные дисциплины с конкретным предметом исследования (костюмы, мода, обычаи и манеры, интерьер и т.д.) Теперь же особое внимание стали привлекать стилистика частной и деловой переписки, терминология научных, общественно-политических и философских представлений конкретного исторического периода, по которым ученые, как археологи по останкам материальной культуры исследуемой эпохи, воссоздают ее духовный облик. …Таким образом, преимущественным предметом изучения этой относительно новой тенденции гуманитарных наук, получившей терминологическое определение «культурных исследований», стал анализ воздействия на мышление и поведение людей «культурных практик», их систем обозначения и общественно-духовных институтов, обеспечивающих функционирование этих практик в обществе. Хотя радикальный перелом в исследовательском сознании произошел, как отмечают многие теоретики, критики и культурологи, в 80-х годах, однако теоретическое обоснование подобному подходу к изучаемому материалу было дано гораздо раньше - еще в 60-х годах, когда французский философ Жак Деррида впервые сформулировал свою концепцию деконструкции, тем самым заложив основы постструктурализма. Но многое из методики того, что сегодня называют деконструкцией, было, если не впервые, то в историческом плане гораздо раньше, концептуально отрефлексировано в трудах основателей «Школы анналов» – Люсьена Февра и Марка Блока и продолжено в трудах Фернана Броделя, Жака Ле Гоффа и других. А.Гуревич, с точки зерния историка, следующим образом характеризует задачу исследования «анналистов»,- ту же самую задачу, которую на другом уровне, с другими акцентами, другими методиками и аналитическими приемами и в другое время, решал и постструктуралист Мишель Фуко: «Историк должен стремиться к тому, чтобы обнаружить те мыслительные процедуры, способы восприятия, привычки сознания, которые были присущи людям данной эпохи и о которых сами эти люди могли и не отдавать себе ясного отчета, применяя их как бы автоматически, не рассуждая о них, а потому и не подвергая их критике. При таком подходе удалось бы пробиться к более глубокому пласту сознания, теснейшим образом связанному с социальным поведением людей, послушать 83 84 то, о чем эти люди самое большее могли только проговориться независимо от своей воли». …Под влиянием подобного подхода оформилась целая область исследований – нарратология - наука по изучению повествования-нарратива как фундаментальной системы понимаемости любого текста, стремящаяся доказать, что даже любой нелитературный дискурс функционирует согласно принципам и процессам, наиболее наглядно проявляющимся в художественной литературе. В результате именно литература служит для всех текстов моделью, обеспечивающей их понимание читателем. Отсюда и тот переворот в иерархических взаимоотношениях между литературным и нелитературным: оказывается, что только литературный дискурс или литературность любого дискурса и делает возможным наделение смыслом мира и нашего его восприятия. Разумеется, не все западные ученые единогласно разделяют эту постмодернистскую мифологему современного научного мышления, но она является господствующей мыслительной ориентацией, той сильной идеей, с которой приходится считаться даже тем, кто с ней не согласен. …80-е годы были отмечены сложными противоречивыми процессами переосмысления возможностей и границ человеческой индивидуальности. В теоретическом плане наиболее влиятельные сторонники постмоддернистской философской парадигмы решительно утверждали постулат о смерти субъекта (разработанный еще раньше такими влиятельными мыслителями, как М.Фуко, Р.Барт и многими другими). …Пожалуй, лишь одна концепция – «номадологии» Жиля Делеза и Феликса Гваттари – в какой-то степени предлагала подходящее объяснение новым тенденциям в духовной жизни Запада. Суть этих новых тенденций заключается в возврате к сфере частной жизни, к религиозно-духовной проблематике, к тем или иным формам религиозности. …Эта трансформация духовного климата была обусловлена и ощущением приближения конца тысячелетия и поначалу воспринималась западной интеллигенцией как феномен контркультуры, как реакция на «растущий технико-экономический рационализм, на фрагментацию человеческого бытия» (Кармен Видаль). Исследовательница подчеркивает, что это не было возвратом к каноническим формам религии и традиционным догматам официального культа, а расцветом множества самых разнообразных сект и обрядов, которые, по ее мнению, лишь с большой долей условности можно было бы назвать истинно религиозными. Она, вслед за Липовецким, относит сюда различные виды фундаментализма, интерес к языческим ритуалам и обрядам, эзотеризм, оккультизм, восточные диеты, экологическое движение, медитацию, магию, спиритизм, сатанологию и тому подобное, одним словом – все, что ранее считалось предрассудками. На поверхность общественного сознания вышла маргинальность во всех ее видах, которая лучше всего отвечает интересам микрогрупп, то, что Гваттари и Делез называли «племенами» с их «племенной психологией». Таким образом, с уходом из западного сознания былой престижности общественного человека возник интерес к микрогруппам, малым племенам, связанным между собой сетью социоэкономических и биокультурных отношений. Это образование специфической племенной культуры, вернее, культур, социологами и культурологами Запада связывается с попытками обретения на новом уровне так называемой «групповой солидарности». 84 85 …Именно эстетическая форма существования постмодернистского сознания и приводит, по Маффесоли, к возникновению групповой, а не индивидуальной «этики, эмпатики и проксении (права взаимного гостеприимства), что в принципе и должно обеспечивать существование «органического компромисса» между людьми. В то же время эстетизированное восприятие, эстетическое сознание приводит к тому, что после долгого периода господства рационализма с его «расколдовыванием мира», о чем в свое время писал Макс Вебер, приходит, по утверждению Маффесоли, «заколдовывание мира» в сознании людей ХХ века. …Насколько мифологема «нового трайбализма» с приписываемой ему тенденцией к разрушению, размыву общественных, социальных, духовноидеологических и эстетических границ, реализующей свою разрушительную силу вследствие плюралистичности своих интересов, ориентаций и вкусов, окажется убедительной в характеристике грядущих времен, ответ даст лишь время. Со второй половины 80-х годов среди западных теоретиков авангардистского толка все более стало распространяться мнение (возможно, не без влияния идей М.Бахтина) о маскарадном, карнавальном характере общественной жизни и способах ее восприятия, когда политика, экономика в ее рекламном обличии, коммерциализованное искусство – все трансформировалось во «всеобъемлющий шоу-бизнес». Следствием такого положения вещей вновь оказалась актуальной шекспировская сентенция «Весь мир - театр», и создание новой теории театра стало равносильным созданию новой теории общества. В книге 1990 г. «Прозрачность зла» один из наиболее влиятельных философов сегодняшней Франции Жан Бодрийар пишет: «Если попытаться дать определение существующему положению вещей, то я назвал бы его состоянием после оргии. Оргия – это любой взрывной элемент современности, момент освобождения во всех областях. Политическое освобождение, сексуальное освобождение, освобождение производительных сил, освобождение разрушительных сил, освобождение женщины, ребенка, бессознательных импульсов, освобождение искусства. Вознесение всех моделей репрезентации и всех моделей антирепрезентаций. Это была всеобщая оргия – реального, рационального, сексуального, критики и антикритики, экономического роста и его кризиса. Мы прошли все пути виртуального производства и сверхпроизводства объектов, знаков, содержаний, идеологий, удовольствий. Сегодня все – свободно, ставки сделаны, и мы все вместе оказались перед роковым вопросом: ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ОРГИИ?» …С точки зрения Бодрийара, бессмысленно бороться против того глобального отчуждения, в котором оказался человек нашего времени; надо принять его, как и принять факт своей неизбежной инаковости, другости – или чуждости? – по отношению к самому себе. Иначе говоря, надо стать Другим, чтобы избежать вечного самоповтора. …Может быть, Бодрийар и прав. Что ж, попробуем быть другими, если, конечно, это нам удастся. 85 86 Умберто Эко. Когда на сцену приходит Другой // У.Эко. Пять эссе на темы этики. С-Пет., 1998 (стр. 6-14). Некоторые этические проблемы стали для меня прозрачнее после того, как я продумал некоторые проблемы семантики - только не беспокойтесь из-за того, что говорят, будто выражаемся мы сложно; вероятно те, кто говорит это, приучены думать чересчур просто по вине средств массовой информации с их «откровениями», по определению предсказуемыми. Пусть же привыкают мыслить более сложно, ибо не просты ни тайное, ни явное. Суть лингвистической задачи сводилась к следующему: существуют ли «семантические универсалии», то есть элементарные понятия, общие для всего человеческого рода и находящие выражение на любом языке. Проблема эта не так уж легкоразрешима, если учесть, что во многих культурах отсутствуют понятия, кажущиеся нам очевидными: скажем, понятие субстанции, наделенной качествами (например в выражении «яблоко - красное»), или понятие идентичности (а = а). Однако в результате раздумий я заключил, что безусловно имеются понятия общие для всех культур, и что все они относятся к положению нашего тела в пространстве. Мы прямоходящие животные, поэтому нам затруднительно долго пребывать головой вниз и поэтому у всех нас общее представление о верхе и низе, причем первое, как правило, предпочитается второму. Точно также всем людям свойственно понятие о правом и левом, о покое или ходьбе, о стоянии или лежании, о ползании и прыгании, о бодрствовании и сне. Поскольку мы все снабжены конечностями, всем нам известно, что такое ударяться о прочный материал, вторгаться в мягкую или жидкую среду, крошить, барабанить, колотить, пинать и даже, наверное, плясать. Этот список можно продолжать долго, в него войдут понятия, связанные с видением, слышанием, едой и питьем, заглатыванием и извержением. И, безусловно, любому человеку присущи такие представления, как познание, память, желание, страх, грусть или облегчение, радость или печаль, а также представление о том, какими звуками отображаются все эти чувства. Далее (и тут мы уже вступаем в область права), всем знакомы универсальные концепции принуждения: всем нам нежелательно, когда препятствуют в процессах речи, зрения, слуха, сна, заглатывания либо извержения, не дают идти куда хочется; мы страдаем, если нас связывают или принуждают к изоляции, если нас избивают, ранят или убивают, подвергают пыткам физическим или психологическим, которые ограничивают или уничтожают способность соображать. Учтите, что пока я выводил на сцену только некоего звероподобного и одинокого Адама, не ведающего, что есть сексуальное единение, радость диалога, любовь к детям, горе из-за утраты любимого человека; но даже и на этом этапе нам (если не ему/ей) эта семантика дает основания для этики; мы в первую очередь обязаны уважать права телесности другого существа, и, в частности, право говорить и право мыслить. Если бы все нам подобные уважали эти «телесные права», история не знала бы таких явлений, как избиение младенцев, скармливание христиан львам, Варфоломеевская ночь, сожжение еретиков, концлагеря, цензура, работа детей в шахте, массовые изнасилования в Боснии. Но как, благодаря чему, даже обзаведясь инстинктивным набором универсальных представлений, это звероподобное выведенное мною создание, сотканное из изумления и свирепости, сумеет дотумкать до идеи, что оно 86 87 желает делать что-то и не желает, чтобы с ним что-то делали иные, и уж тем более, что оно не должно делать другим то, чего не хочет, чтобы делали ему? Сумеет, благодаря тому, что, слава Богу, Эдем стремительно заселяется. Этический подход начинается, когда на сцену приходит Другой. Любой закон, как моральный, так и юридический, всегда регулирует межличностные отношения, включая отношения с тем Другим, кто насаждает этот Закон. Вы тоже приписываете добродетельному неверующему представление о том, что Другой присутствует внутри нас. Но я имею в виду не расплывчатые сантименты, а твердый фундамент бытия. Как свидетельствуют самые внерелигиозные из гуманитарных наук, Другой, взгляд Другого определяет и формирует нас. Мы (как не в состоянии существовать без питания и сна) неспособны осознать, кто мы такие, без взгляда и ответа Других. Даже тот, кто убивает, насилует, крадет, изуверствует – занимается этим в исключительные минуты, а в остальное время жизни выпрашивает у себе подобных одобрение, любовь, уважение, похвалу. И даже от тех, кого унижает, он хочет получить признание - в форме страха или подчинения. При отсутствии признания со стороны других новорожденный, брошенный в джунглях, не очеловечивается (если только, подобно Тарзану, не начнет искать себе Другого, пусть даже в лице обезьяны). Можно умереть или ополоуметь, живя в обществе, в котором все и каждый систематически нас не замечают и ведут себя так, будто нас на свете нету. Почему же тогда существуют (или существовали) культуры, санкционирующие массовое убийство, каннибализм, унижение тела Другого? Просто по той причине, что в них круг Других сужен до пределов племени (или этноса) и «варвары» не воспринимаются как человеческие существа. Но и христианнейшие крестоносцы тоже не относились к неверным как к ближним, которых надо сердечно возлюбить. Дело в том, что признание роли других, необходимость уважать те же их потребности, которые мы считаем неукоснительными для себя, - результат тысячелетнего развития. Христианская заповедь любви тоже была провозглашена и со скрипом воспринята только тогда, когда времена созрели. …Я не согласен с жестким противопоставлением тех, кто верует в потустороннего Бога, - тем, кто не верует ни в какое надличностное начало. …Поэтому я думаю, что основные принципы природной этики (при одушевляющей ее глубинной религиозности) совпадают с принципами этики, основанной на вере в трансцендентное. Невозможно не признать, что природные этические принципы запечатлелись в нашем сердце на основании программы спасения. Если останутся (конечно же, они останутся) и у той и у этой этики взаимно неналожимые маргинальные области, - то же самое происходит и при соприкосновении между разными религиями. Самое главное, чтобы в религиозных разногласиях одерживали верх любовь и благоразумие. К ТЕМЕ № 9. КУЛЬТУРА РОССИИ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ. И.Г. Яковенко. Российское государство: национальные интересы, границы, перспективы. Новосибирск, 1999 (стр. 6-221). 87 88 Россия - часть Евразийского материка. Само существование России и ее судьбу в конечном счете задают исторические и цивилизационные процессы большой длительности, разворачивающиеся на этом пространстве. …В рамках того, что устойчиво относили к ойкумене, традиционно деление на Восток и Запад. В разные эпохи это деление носит различающиеся маркировки. Говорим ли мы о противостоянии (и, одновременно, диалоге) греческого и персидского миров или о диалектике христианства и ислама – сущностно речь идет об одном и том же: о делении некоторого целого на два качественно отличных, но взаимодополнительных блока. В равной мере и все мировое сообщество делится на два сверхблока, привычно обозначаемые как Восток и Запад. Точно те же процессы обнаруживаются внутри России. Эти деления многослойны. Киевская Русь разделилась на свой Запад (Западная Русь) и Восток (Орда). В рамках Востока обнаруживается тяготеющая к западу Новгородская республика и смотрящая на восток Москва. Интегрировавшее восток Руси московское общество делится на западников-никонианцев и староверов, позднее на славянофилов и западников. Еще позднее - на читателей «Октября» и «Нового мира». Такие же деления происходят внутри социальных институтов, сословий, локальных субкультур. Это суждение справедливо для членения в любой плоскости и на любом уровне. …Итак, формирование сколько-нибудь осознанной реальной социальной (культурной) целостности необходимо порождает тенденцию к разделению этого целого на части. Такое разделение свидетельствует о его вызревании и запускает процессы диалектического взаимодействия выделившихся частей. Вопреки библейскому утверждению, что царство, разделившееся внутри себя, погибнет, выскажем утверждение: только то целое, которое отчетливо разделилось внутри себя, обретает исторический шанс развития, а значит, выживания. Другое дело, что в широкой перспективе выживание неотделимо от качественного изменения, которое отрицает исходную целостность. …В последнее время в цивилизационном, политологическом, геополитическом дискурсах активно используется понятие лимитрофа. Концепция лимитрофа сопрягается с теорией локальных цивилизаций и может быть рассмотрена как один из ее элементов. Теория локальных цивилизаций базируется на идее о том, что в ходе общеисторического развития на земном шаре формируется ограниченное количество особых, отличающихся друг от друга стратегий человеческого бытия. Каждая из этих стратегий, доминируя на определенной, весьма значительной территории, оказывается фактором, задающим весь строй жизни. Это и есть историко-культурный тип, или локальная цивилизация. Итак, цивилизация - феномен, имеющий, с одной стороны, культурологическую, а с другой – пространственную локализацию. Цивилизация имеет определенные границы. Понятие лимитрофа связано с этой границей, а вернее, с пограничьем между двумя цивилизациями. Понятие лимитрофа фиксирует континуум переходных состояний между цивилизациями. …Зададимся вопросом, каковы были границы лимитрофа, к примеру, до возникновения Киевской Руси. Если исходить из предложенного определения и понимать лимитроф как земли между цивилизациями, то изначально в него входили все неосвоенные локальными цивилизациями пространства земного шара. Сегодняшний лимитроф остаток необозримых пространств, разделявших некогда очаги локальных цивилизаций. До Киевской Руси он 88 89 разделял Восток и Запад и охватывал всю территорию современной России. Из этого хода мысли следует ключевой вывод - границы лимитрофа не вечны. Они весьма устойчивы, заданы объективными географическими и климатическими факторами, однако в широкой исторической перспективе лимитроф изживаем в ходе процессов «съедания» межцивилизационного пространства. …Россия (как и Орда или Волжская Булгария) являет собой пример цивилизационного синтеза на лимитрофе. Географ Каганский видит в России средоточие всех периферий (европейской, исламской, китайской) цивилизационных окраин. …Однако на российских просторах выросла собственная цивилизация. И теперь уже лимитроф охватывает российский культурный круг, разделяя его с другими кругами. …В силу объективных обстоятельств цивилизационного синтеза российская цивилизация лишена единого основания. В рамках российской цивилизации агрегируются элементы, не складывающиеся (во всяком случае пока) в высокоинтегрированное синтетическое целое. Отсюда проблемы и беды России. …Ценой неимоверного исторического усилия из поколения в поколение наш народ работает над соединением несоединимых элементов в эффективное динамичное целое. …Заметим, что на определенном этапе европейской истории еврейская религия, римское право и греческая философия также представлялись качественно различающимися, необъединимыми сущностями. Синтез этих начал был глубоко драматичен и потребовал усилий многих поколений. Причем динамизация Западной Европы разворачивается только по завершению синтеза исходных структур. …Такие феномены, как идеология третьего пути или евразийство – не что иное, как цивилизационная рефлексия лимитрофа. …Здесь же рождается особое искусство, особое мироощущение и идеология. Для лимитрофа характерны острые формы эсхатологизма, интенция «прочь из истории», «назад к природе», поэтизация и сакрализация варварства и архаики, …убеждение в том, что истинная святость (надежда человечества) пребывает в незамутненном «эллинской мудростью» девственном сознании туземного населения. Иными словами, лимитроф идеализирует, эстетизирует и сакрализует свою исходную наличность. Параметры Золотого века списываются с ранних форм лимитрофного бытия. …Империи лимитрофа осознают себя не только как фактор цивилизации, но как воплощение божественной Истины. Пока они цивилизуют лимитрофные пространства, это самосознание в той или иной мере соответствует реальности. Однако идеология лимитрофа страдает мессианизмом, а этот недуг политически губителен. Россия насильственно включала в свои границы или сферы влияния не только объективно принадлежащие лимитрофу общества (Молдавия, Румыния), но и собственно европейские (Венгрия, Восточная Германия) и чисто азиатские общества (Узбекистан). Так Российская империя выходила за пределы цивилизационного качества, бессмысленно растрачивая энергию на удержание иных территорий, и получала все негативные последствия, достающиеся тому, кто интегрирует в свою целостность разрушающие его блоки. * * * …Необходимо если не определение, то хотя бы общее представление об исторической динамике. Очевидность понятия рождает трудности, поскольку 89 90 требуется выделить не внешние, а сущностные характеристики. Историческая динамика это сумма всех динамик: социальной, технологической, политической, научной, информационной и т.д. Если культура есть технология бытия человека, то историческая динамика - это динамика всех частных технологий, используемых социокультурным организмом. В их единстве и формируется динамика историческая. История 19-20 вв. показала, что существует два вида исторической динамики: имманентная и наведенная. В первом случае постоянное самоизменение общества вырастает из его природы и является следствием имманентных процессов. Неимманентная динамика реализуется, в частности, в рамках так называемых диктатур развития или модернизационных режимов, где движение общества является результатом целенаправленной политики государства. Имманентная историческая динамика – порождение европейской цивилизации. Таким образом, историческая динамика является цивилизационным качеством. Оно возникло в одной локальной цивилизации, но может быть достигнуто и в других ценой более или менее глубокого их переструктурирования. …Суть перехода от традиционной модели к динамичной – в качественном изменении механизма социально-культурного воспроизводства – назовем этот механизм трансформацией. При этом социокультурный организм переходит от воспроизводства всего универсума сакрализованной Традиции к воспроизводству по существенно иной логике. …Динамика рождается тогда, когда умирает восприятие универсума человеческой деятельности как Ритуала, творимого в безграничном храме Божьего Мира, а рождается видение деятельности через призму рационально понимаемых цели, смысла и результата. …Динамика рождается тогда, когда распадается целостный комплекс дорационального магического переживания. Расколдовывание мира требует альтернативной парадигматики, объясняющей Вселенную, и она рождается. Это - рациональная картина мира. Оптимизация - естественная стратегия для рационального человека. Наука, технический и экономический прогресс есть одновременно проявление и результат РАЦИОНАЛИЗАЦИИ сферы производства. Смена форм социальности -–переход от средневековых теократий к правовой демократии всего лишь одна форма рационализации мира социальных отношений. Итак, к ключевым моментам «нового мышления» относятся рационализация, оптимизация и вариативность. …Сегодня тысячелетние устои, исторический опыт, сакральное прошлое приемлемы лишь в той мере, в тех фрагментах и моментах, которые могут быть вписаны в процесс перехода к оптимальным стратегиям. В грядущем мире нет и не будет ничего более святого, чем эффективность. И хотя для традиционного сознания это представляется чудовищным, такова реальность. …В десакрализации культуры и утверждении рационально-потребительского отношения к ней состоит одна из драм современного сознания. Прежде массовый человек со спокойной душой уходил в вечность, сохраняя верность обреченной культуре, ибо был синкретически слит с нею и абсолютно нерастождествим. Сегодня он осознал, что имеет шанс выжить, растождествившись с врожденными ценностями и усвоив более эффективные. …Цивилизационная теория фиксирует, что смысловым ядром всякой локальной цивилизации выступают формы универсального – мировые религии 90 91 либо крупные синкретические религиозные традиции, как в Китае или в Японии. …Заметим, что в двадцатом веке была реализована попытка сформировать цивилизацию на базе универсалистской идеологии, трактовавшей себя как атеистическая. Иными словами, основой цивилизации может быть и идеология, при условии, что последняя переживается как религия. Советский Союз возник из территорий, принадлежащих целому ряду локальных цивилизаций, прежде всего – православной, протестантскокатолической и исламской. Само возникновение Союза было результатом цивилизационного кризиса Российской империи, в которой стали критически нарастать центробежные тенденции, вызванные отсутствие цивилизационного единства. На определенном историческом этапе советская идеология явилась компромиссом, позволившим реставрировать имперскую целостность. …Перед лицом новой божественной истины прежние конфессии «отменялись» (то есть объявлялись преодолимыми в ближайшей перспективе), а регионы, принадлежавшие разным локальным цивилизациям, входили в состав СССР на равных. Это было ключевым отличием Союза от Российской империи. Однако марксизм не вытянул на статус мировой религии. Соответственно, быстротечной советской цивилизации не удалось растворить цивилизационные основания входивших в него обществ. Они существовали имплицитно и никогда, вопреки марксистской теории, не исчезали. Конец марксизма как цивилизационного интегратора выявил исторически предшествующий цивилизационный слой. …Самоорганизация общества в пределах задаваемых мировыми религиями устойчивых локальных цивилизаций становится одним из значимых моментов, формирующих современную ситуацию. …В истории монотеистических религий выделяются два фундаментальных этапа. Для первого характерна теоцентрическая ориентация общества и культуры. Пример – европейское средневековье. Содержанием второго периода является создание секулярного, посттеоцентрического общества. Неизбежное следствие такого перехода – рождение динамичной цивилизации. Переход от первого состояния ко второму особый процесс, обозначаемый как трансформация. Это – глубинное революционное изменение, требующее огромной энергии. Трансформация – эпоха кровавых и трагических изменений, охватывающих жизнь трех-четырех поколений. Идейно трансформация началась с Возрождения, политически - с Реформации и продолжается до наших дней. При этом разные конфессиональные круги последовательно проходят описываемый процесс. В 16 веке разделился мир католической культуры, выделив из себя первый способный к трансформации регион. Сама трансформация прошла в форме рождения новой христианской конфессии – протестантизма. Протестантская цивилизация сформировалась к рубежу 18-19 века и породила остродинамичное общество. Рубежом перехода католического мира к светскому стала Великая французская революция. Она отработала модель трансформации католических стран. Сам процесс существенно растянулся. Ряд отсталых католических обществ переживал последний этап процесса в 20 веке в форме военнофашистских диктатур. Православный регион вступил в эпоху трансформации на рубеже 19-20 вв. Все православные общества, за исключением Греции, в ходе 91 92 трансформации переживают инверсию и фазу коммунистической диктатуры. Сама трансформация православной цивилизации не завершена по сей день. …России надо решить фундаментальные проблемы, встающие перед каждым народом в эпохи исторических переломов. Ей предстоит совершить некоторый цивилизационный выбор, заново сформулировать свои идеалы, базовые ценности и перспективы – иными словами, осознать, в чем состоит ее самость, то, что называют цивилизационной спецификой. И только после ответов на эти вопросы возможен ответ на вопрос о реальных, не случайных, не эмпирических, но сущностных границах России. Ибо границы эти пролегают по линии, за которой доминирует другое понимание фундаментальных человеческих, но непреложных ценностей. Эти линии пролегают в соответствии с не до конца познанными, но непреложными законами исторического развития. Их нельзя ни сдвинуть, ни упразднить. История знает массу попыток игнорировать или переиграть цивилизационные границы. Ни одна из них не увеначалась успехом. …Обращаясь к отечественной ситуации, скажем, что один из самых кардинальных национальных интересов состоит в обеспечении исторической динамики России. Осознано это по крайней мере с эпохи Петра 1, но наполнение данной сверхзадачи постоянно изменяется. Как нам представляется, на нынешнем этапе это задача перехода от принудительной, задаваемой государством динамики к модели имманентно динамичного общества. И.В. Кондаков. Культура России. М., 1999 (стр. 196-202). Характерным явлением русской культуры первой трети Х1Х в., демонстрировавшим хрупкий баланс центробежности / центростремительности, были «Философические письма» П. Чаадаева (1828-1830), выразившие амбивалентное отношение как к России, причисляемой автором к культурной периферии, так и к Западу, который понимается как культурный центр мира, столь же идеализируемый, сколь и признаваемый чуждым русской культуре. Позиция Чаадаева полемична и к концепции Карамзина, и к миропониманию Пушкина. Ко всему прочему, она и сама внутренне полемична по отношению к самой себе, внутренне противоречива, хотя и вполне целостна. По существу, феномен Чаадаева представляет собой, в свернутом, сжатом виде, культурфилософскую дилемму западничества и славянофильства, вскоре заявившую о себе уже целой обоймой имен, полемически размежевавшихся между собой. В первом, наиболее известном из «философических писем», Чаадаев сформулировал отличительные черты той «своеобразной цивилизации», которую представляет собой Россия. Она не относится ни к Западу, ни к Востоку, у нее нет традиций ни того, ни другого. «Исключительность» русского народа объясняется тем, что он принадлежит к числу наций, которые «как бы не входят в состав человечества», а существуют лишь для того, чтобы «дать миру какой-нибудь важный урок»; которые живут одним настоящим, «без прошедшего и будущего», «среди мертвого застоя», - как бы находясь «вне времени». Чаадаев упрекал русский народ в неизжитом духовном «кочевничестве», в «поверхностном и часто неискусном» подражании другим нациям; это приводит к тому, что каждая новая идея бесследно вытесняет старые («естественный результат» культуры, всецело 92 93 основанной на «заимствовании и подражании»). «Беспечность жизни», лишенной «опыта и предвидения», приводит русский народ к «необычайной пустоте и обособленности» социального существования, делает его равнодушным к «великой мировой работе», осуществляющейся в истории европейской культуры. Отсюда, по мысли Чаадаева, происходит «какая-то странная неопределенность», более того – поразительная «немота наших лиц». Говоря о чертах русского национального характера, Чаадаев объяснял отмечаемую иностранцами «бесшабашную отвагу» русских типичной для них неспособностью «к углублению и настойчивости», а вызывающее подчас восхищение сторонних наблюдателей «равнодушие к житейским опасностям» - столь же полным «равнодушием к добру и злу, к истине и ко лжи», а также «пренебрежением всеми удобствами и радостями жизни». Чаадаев даже склонялся к выводу, что в русской культуре есть «нечто враждебное всякому истинному прогрессу» - начало, как бы ставящее Россию вне всемирной истории, вне логики становления и развития мировых цивилизаций, вне логики истории мировой культуры. …Для Чаадаева несомненно, что путь человечества един, что социальный и культурный прогрессы универсальны и всемирны, что история в своем поступательном развитии вырабатывает всеобщие истины и уроки, призванные просветить в равной степени, хоть и различно, все народы. В то же время русский мыслитель признает различие культур и цивилизаций Востока и Запада: для первого свойственно воображение, для второго характерен рассудок; он отдает себе отчет в том, что возможна образованность, притом весьма высокая, но принципиально отличная от западной (Япония), что возможен вариант христианства, не сопоставимый с европейским духом (Абиссиния). Однако философский ум Чаадаева, воспитанный в духе европейского Просвещения, не может примириться с равными возможностями столь различных культур и цивилизаций в историческом процессе. Исключительные варианты культурноцивилизационного развития он называет «нелепыми уклонениями от божеских и человеческих истин». К числу подобных «уклонений» от мирового пути Чаадаев вынужден причислить и свою родину, и русскую культуру, разительно выпадающие из универсальных и всеобщих законов духовной и нравственной жизни. …Последовательно культурологическая позиция русского мыслителя, испытывавшего склонность к компаративистскому подходу к истории культур и цивилизаций и сознательно заявлявшего о собственной культурной «вненаходимости» по отношению к России, позволила ему выявить цивилизационную «вненаходимость» самой России, объяснить ее «одиночество» в мире, хотя эта ее «исключительность» и вызывала у Чаадаева реакцию отрицания, осуждения, недоумения. В 40-е гг. Х1Х в. противоречивая концепция Чаадаева, сделавшего предметом своей рефлексии соотношение России и Запада в плане категорического избранничества и самоуничижения, комплекса национальной неполноценности, дезинтегрировалась, расколовшись на две – западничество и славянофильство. Несмотря на выраженное сочувствие представителей одной концепции - западников –к Западу, а представителей другой - к Востоку (России); несмотря на пафос апологии национальной самобытности и исключительности у славянофилов и, напротив, пафос национального самоотречения и утверждения единого пути мировой культуры и цивилизации 93 94 у западников, в обеих концепциях культурного и цивилизационного развития было много общего: и ощущение выделенности, обособленности России и русской культуры среди других наций и культур, и попытки объяснить это теми или иными историческими закономерностями (через категории отсталости, прогресса, традиции, самобытности, народности, общего и, особенно, национального развития, и стремление тем или иным способом преодолеть существующий разрыв между Западом и Востоком). …Прав А. Герцен, который писал в некрологе К. Аксакову, что западников и славянофилов объединяла «одна любовь, но не одинокая» чувство безграничной любви к русскому народу, его быту, его складу ума. Противоречивое единство западничества и славянофильства Герцен срвнивал с мифологическим двуликим Янусом или двуглавым орлом, смотрящим в разные стороны, несмотря на то, что «сердце билось одно». Русские западники, как и русские славянофилы, были идеалистами: одни идеализировали Запад, другие – Россию; те и другие предлагали заведомо утопические пути разрешения реальных проблем русской культуры и русской действительности. Ю. Лотман замечал, что русский западник был очень мало похож на реального человека Запада своей эпохи и, как правило, очень плохо знал Запад: он конструировал «идеальный Запад» по контрасту с наблюдаемой им русской действительностью. Аналогичным образом обстояло дело и с представлениями о России славянофилов, гораздо лучше знавших Запад (где они учились и подолгу жили), нежели собственную родину, которую они идеализировали и поэтизировали, глядя на нее из своего «чудного далека» (как выразился В. Белинский, характеризуя позицию Н. Гоголя, писавшего о России из Италии). Славянофилы апеллировали к «России» столь же идеальной, фантастической, вымышленной, как и «Запад» в мечтах западников. Собственно, и «Запад», и «Восток» («Россия») были для русских мыслителей лишь условными знаками, символами «своего» и «чужого», зеркально отображающими полярные представления о реальности, весьма далекими от самой реальности, - ее концептами, фреймами, теоретическими моделями. …Славянофильство и западничество были в России национальной формой романтизма, своеобразие которого заключалось именно в парности соответствующих устремлений и идеалов. Однако, какие бы концепты ни избирались русскими романтиками, какие бы развернутые теории национальной или всемирной культуры ни выстраивались ими, их идеалы были в равной мере оторваны от действительности. Если западничество было безоглядно устремлено в идеальное будущее России, приобщившейся к «мировой цивилизации» (в лице Европы), то славянофильство опрокидывало Россию и русскую культуру в столь же идеальное прошлое, когда национальная самобытность еще не подвергалась столь разрушительным испытаниям и «чужеродным» культурным «прививкам». Современность же мало занимала и тех, и других: для того чтобы адекватно рефлексировать современность, нужно было быть куда более трезвым реалистом; между тем и славянофилы, и западники (в том числе радикальные западники) были по преимуществу мечтателями. Неосуществимость как того, так и другого идеала была очевидна уже современникам теоретиков обоих лагерей, если они не были предубеждены в пользу какой-либо из этих двух противоборствующих концепций национальной самоидентичности. 94 95 …Стремление преодолеть односторонность и теоретический схематизм взаимоисключающих концепций общественного и культурного развития, отстаиваемых критиками и публицистами, выдавало органическую потребность русской культуры в формировании «срединной культуры», т.е. области социокультурных представлений, снимающих поляризацию общественных интересов, ценностных предпочтений и т.п. …Именно в этом направлении развивалась не только художественная, но и теоретическая (философская), публицистическая и критическая деятельность И. Тургенева, И. Гончарова, А. Герцена, Н. Некрасова, несколько позднее - Л. Толстого, Ф. Достоевского, Н. Лескова, Г. Успенского, А. Чехова и некоторых других художников и мыслителей, противопоставлявших полноту и противоречивую целостность своего видения литературы и действительности партийной тенденциозности и полемической пристрастности критиков и публицистов из противоборствующих идейных лагерей, устремленных взорами на «Запад» и «Восток». Николай Бердяев. Психология русского народа // Н. Бердяев. Судьба России. М., 1990 (стр. 8-23). …С давних времен было предчувствие, что Россия предназначена к чему-то великому, что Россия – особенная страна, не похожая ни на какую другую страну мира. Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России. Идет это от старой идеи Москвы как Третьего Рима, через славянофильство - к Достоевскому, Владимиру Соловьеву и к современным неославянофилам. К идеям этого порядка прилипло много фальши и лжи, но отразилось в них и что-то подлинно народное, подлинно русское. …Духовные силы России не стали еще имманентны культурной жизни европейского человечества. Для западного культурного человечества Россия все еще остается совершенно трансцендентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и Достоевский привлекают западного культурного человека как экзотическая пища, непривычно для него острая. Многих на Западе влечет к себе таинственная глубина русского Востока. …Душа России не покрывается никакими доктринами. Тютчев сказал про Россию: Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать – В Россию можно только в е р и т ь. И поистине можно сказать, что Россия непостижима для ума и неизмерима никакими аршинами доктрин и учений. А верит в Россию каждый по-своему, и каждый находит в полном противоречий бытии России факты для подтверждения своей веры. Подойти к разгадке тайны, сокрытой в душе России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую ее противоречивость. Тогда русское самосознание освобождается от лживых и фальшивых идеализаций, от отталкивающего бахвальства, равно как и от бесхарактерного космополитического отрицания и иноземного рабства. …Россия – самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ – самый аполитичный народ, никогда не умевший 95 96 устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты - все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм – явление русского духа, он по-разному присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский – такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. …Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от забот о земном устройстве. Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. Россия – земля покорная, женственная. Пассивная, рецептивная женственность в отношении к государственной власти – так характерна для русского народа и для русской истории. Это вполне подтверждается и русской революцией, в которой народ остается духовно пассивным и покорным новой революционной тирании, но в состоянии злобной одержимости. Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа. Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте. И потому так часто власть производила впечатление иноземной, какого-то немецкого владычества. Русские радикалы и русские консерваторы одинаково думали, что государство – это «они», а не «мы». Очень характерно, что в русской истории не было рыцарства, этого мужественного начала. С этим связано недостаточное развитие личного начала в русской жизни. Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери. Рыцарство кует чувство личного достоинства и чести, создает закал личности. Этого личного закала не создавала русская история. В русском человеке есть мягкотелость, в русском лице нет вырезанного и выточенного профиля. Платон Каратаев у Толстого – круглый. Русский анархизм - женственный, а не мужественный, пассивный, а не активный. И бунт Бакунина есть погружение в хаотическую русскую стихию. Русская безгосударственность - не завоевание себе свободы, а отдание себя, свобода от активности. Русский народ хочет быть землей, которая невестится, ждет мужа. Все эти свойства России были положены в основу славянофильской философии истории и славянофильских общественных идеалов. Но славянофильская философия истории не хочет знать антиномичности России, она считается только с одним тезисом русской жизни. В ней есть антитезис. И Россия не была бы так таинственна, если бы в ней было только то, о чем мы сейчас говорили. Славянофильская философия русской истории не объясняет загадки превращения России в величайшую империю в мире или объясняет слишком упрощенно. И самым коренным грехом славянофильства было то, что природно-исторические черты русской стихии они приняли за христианские добродетели. Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире; все в России превращается в орудие политики. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю. С Ивана Калиты последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, потрясающих воображение всех народов мира. Силы народа, о котором не без основания думают, что он устремлен к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государственности, превращающему все в свое орудие. Интересы 96 97 созидания, поддержания и охранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории. Почти не оставалось сил у русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства. Классы и сословия слабо были развиты и не играли той роли, какую играли в истории западных стран. Личность была придавлена огромными размерами государства, предъявлявшего непосильные требования. Бюрократия развилась до чудовищных размеров. …Власть бюрократии в русской жизни была внутренним нашествием неметчины. Неметчина как-то органически вошла в русскую государственность и владела женственной и пассивной русской стихией. Земля русская не того приняла за своего суженого, ошиблась в женихе. Великие жертвы понес русский народ для создания русского государства, много крови пролил, но сам остался безвластным в своем необъятном государстве. Чужд русскому народу империализм в западном и буржуазном смысле слова, но он покорно отдавал свои силы на создание империализма, в котором сердце его не было заинтересовано. Здесь скрыта тайна русской истории и русской души. Никакая философия истории, славянофильская или западническая, не разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный духом народ как будто бы не хочет свободной жизни? Эта тайна связана с особенным соотношением женственного и мужественного начала в русском народном характере. Та же антиномичность проходит через все русское бытие. Таинственное противоречие есть в отношении России и русского сознания к национальности. Это – вторая антиномия, не меньшая по значению, чем отношение к государству. Россия – самая не шовинистическая страна в мире. …Русская интеллигенция всегда с отвращением относилась к национализму и гнушалась им, как нечистью. Она исповедывала исключительно сверхнациональные идеалы. И как ни поверхностны, как ни банальны были космополитические доктрины интеллигенции, в них все-таки хоть искаженно, но отражался сверхнациональный, всечеловеческий дух русского народа. Интеллигенты-отщепенцы в известном смысле были более национальны, чем наши буржуазные националисты, по выражению лица своего похожие на буржуазных националистов всех стран. Человек иного, не интеллигентского духа - национальный гений Лев Толстой – был поистине русским в своей религиозной жажде призванный. «Русское» и есть праведное, доброе, истинное, божественное. Россия – преодолеть всякую национальную ограниченность, всякую тяжесть национальной плоти. И славянофилы не были националистами в обычном смысле этого слова. Они хотели верить, что в русском народе живет всечеловеческий христианский дух, и они возносили русский народ за его смирение. Достоевский прямо провозгласил, что русский человек - всечеловек, что дух России – вселенский дух, и миссию России он понимал не так, как ее понимают националисты. Национализм новейшей формации есть несомненная европеизация России, консервативное западничество на русской почве. Таков один тезис о России, который с правом можно было высказать А вот и антитезис, который не менее обоснован. Россия – самая националистическая страна в мире, страна невиданных эксцессов национализма, угнетения подвластных национальностей русификацией, страна 97 98 национального бахвальства, страна, в которой все национализировано вплоть до вселенской церкви Христовой, страна, почитающая себя единственной призванной и отвергающая всю Европу, как гниль и исчадие дьявола, обреченное на гибель. Обратной стороной русского смирения является необычайное русское самомнение. Самый смиренный и есть самый великий, самый могущественный, единственно «святая Русь». Россия грешна, но и в грехе своем она остается великой страной - страной святых, живущей идеалами святости. Вл. Соловьев смеялся над уверенностью русского национального самомнения в том, что все святые говорили по-русски. Тот же Достоевский, который проповедывал всечеловека и призывал к вселенскому духу, проповедывал и самый изуверский национализм, травил поляков и евреев, отрицал за Западом всякие права быть христианским миром. Русское национальное самомнение всегда выражается в том, что Россия почитается не только самой христианской, но и единственной христианской страной в мире. Католичество совсем не признается христианством. …Русская история явила совершенно исключительное зрелище полнейшую национализацию церкви Христовой, которая определяет себя, как вселенскую. Церковный национализм - характерное русское явление. Им насквозь пропитано наше старообрядчество. Но тот же национализм царит и в господствующей церкви. Тот же национализм проникает и в славянофильскую идеологию, которая всегда подменяла вселенское русским. Вселенский дух Христов, мужественный вселенский логос пленен женственной национальной стихией, русской землей в ее языческой первородности. Так образовалась религия растворения в матери-земле, в коллективной национальной стихии, в животной теплоте. Русская религиозность - женственная религиозность, религиозность коллективной биологической теплоты, переживаемой, как теплота мистическая. В ней слабо развито личное религиозное начало; она боится выхода из коллективного тепла в холод и огонь личной религиозности. Такая религиозность отказывается от мужественного, активного духовного пути. Это не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия матери-земли, женского божества, освящающего плотский быт. …Русский народ не дерзает даже думать, что святым можно подражать, что святость есть внутренний путь духа, - это было бы слишком мужественно-дерзновенно. Русский народ хочет не столько святости, сколько преклонения и благоговения перед святостью, подобно тому как он хочет не власти, а отдания себя власти, перенесения на власть своего бремени. Русский народ в массе своей ленив в религиозном восхождении, его религиозность равнинная, а не горная; коллективное смирение дается ему легче, чем религиозный закал личности, чем жертва теплом и уютом национальной стихийной жизни. За смирение свое получает русский народ в награду этот уют и тепло коллективной жизни. Такова народная почва национализации церкви в России. В этом есть огромная примесь религиозного натурализма, предшествующего христианской религии духа, религии личности и свободы. Сама христианская любовь, которая существенно духовна и противоположна связям по плоти и крови, натурализировалась в этой религиозности, обратилась в любовь к «своему» человеку. Так крепнет религия плоти, а не духа, так охраняется твердыня религиозного материализма. На необъятной русской равнине возвышаются церкви, подымаются святые и старцы, но почва равнины еще натуралистическая, быт еще языческий. 98 99 …Ту же загадочную антиномичность можно проследить в Росси во всем. Можно установить неисчислимое количество тезисов и антитезисов о русском национальном характере, вскрыть много противоречий в русской душе. Россия – страна безграничной свободы духа, страна странничества и искания Божьей правды. Россия – самая не буржуазная страна в мире; в ней нет того крепкого мещанства, которое так отталкивает и отвращает русских на Западе. Достоевский, по которому можно изучать душу России, в своей потрясающей легенде о Великом Инквизиторе был провозвестником такой дерзновенной и бесконечной свободы во Христе, какой никто еще в мире не решался утверждать. …В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства. Россия – страна бытовой свободы, неведомой передовым народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условностей, нет деспотизма мещанской семьи. …Россия – фантастическая страна духовного опьянения, страна хлыстов, самосжигателей, духоборов, страна Кондратия Селиванова и Григория Распутина, страна самозванцев и пугачевщины. Русской душе не сидится на месте, это не мещанская душа, не местная душа. В России, в душе народной есть какое-то бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными его очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной, божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни. Она вечно печалуется о горе - страдании народа и всего мира, и мука ее не знает утоления. Душа эта поглощена решением конечных, проклятых вопросов о смысле жизни. Есть мятежность, непокорность в русской душе, неутолимость и неудовлетворимость ничем временным, относительным и условным. Все дальше и дальше должно идти, к концу, к пределу, к выходу из этого «мира», из этой земли, из всего местного, мещанского, прикрепленного. Не раз уже указывали на то, что сам русский атеизм религиозен. Героически настроенная интеллигенция шла на смерть во имя материалистических идей. Это странное противоречие будет понято, если увидеть, что под материалистическим обличием она стремилась к абсолютному. …А вот и антитезис. Россия – страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности, страна инертного консерватизма, порабощения религиозной жизни государством, страна крепкого быта и тяжелой плоти. Россия – страна купцов, погруженных в тяжелую плоть, стяжателей, консервативных до неподвижности, страна чиновников, никогда не переступающих пределов замкнутого и мертвого бюрократического царства, страна крестьян, ничего не желающих, кроме земли, и принимающих христианство совершенно внешне и корыстно, страна духовенства, погруженного в материальный быт, страна обрядоверия, страна интеллигентщины, инертной и консервативной в своей мысли, зараженной самыми поверхностными материалистическими идеями. Россия не любит красоты, боится красоты, как роскоши, не хочет никакой избыточности. …Везде личность подавлена в органическом коллективе. Почвенные слои наши лишены правосознания и даже достоинства, не хотят самодеятельности и активности, всегда полагаются на то, что другие все за них сделают. 99 100 …Как понять эту загадочную противоречивость России, эту одинаковую верность взаимоисключающих о ней тезисов? И здесь, как и везде, в вопросе о свободе и рабстве души России, о ее странничестве и ее неподвижности, мы сталкиваемся с тайной соотношения мужественного и женственного. Корень этих глубоких противоречий - в несоединенности мужественного и женственного в русском духе и в русском характере. Безграничная свобода оборачивается безграничным рабством, вечное странничество - вечным застоем, потому что мужественная свобода не овладевает женственной национальной стихией в России изнутри, из глубины. Мужественное начало всегда ожидается извне, личное начало не раскрывается в самом русском народе. …С этим связано то, что все мужественное, освобождающее и оформляющее было в России как бы не русским, заграничным, западноевропейским, французским или немецким или греческим в старину. Россия как бы бессильна сама себя оформить в бытие свободное, бессильна образовать из себя личность. Возвращение к собственной почве, к своей национальной стихии так легко принимает в России характер порабощенности, приводит к бездвижности, обращается в реакцию. Россия невестится, ждет жениха, который должен прийти из какой-то выси, но приходит не суженый, а немец-чиновник и владеет ею. В жизни духа владеют ею: то Маркс, то Штейнер, то иной какой-нибудь иностранный муж. Россия, столь своеобразная, столь необычайного духа страна, постоянно находилась в сервилистическом отношении к Западной Европе. Она не училась у Европы, что нужно и хорошо, не приобщалась к европейской культуре, что для нее спасительно, а рабски подчинялась Западу или в дикой националистической реакции громила Запад, отрицала культуру. …И в других странах можно найти все противоположности, но только в России тезис оборачивается антитезисом, бюрократическая государственность рождается из анархизма, рабство рождается из свободы, крайний национализм из сверхнационализма. Из этого безвыходного круга есть только один выход: раскрытие внутри самой России, в ее духовной глубине мужественного, личного, оформляющего начала, овладение собственной национальной стихией, имманентное пробуждение мужественного, светоносного сознания. 100