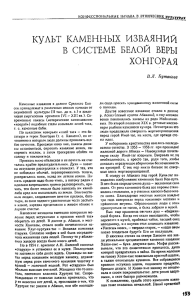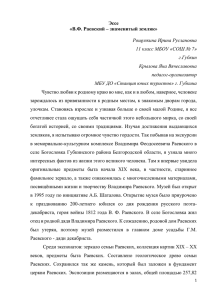каменные изваяния в структуре курганных комплексов и в
реклама

РАГУЛЕНКО С.А. КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ В СТРУКТУРЕ КУРГАННЫХ КОМПЛЕКСОВ И В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНО-ОБРЯДОВЫХ ТРАДИЦИЙ СКИФСКОЙ КУЛЬТУРЫ Тема настоящей статьи посвящена семантическому анализу культовых комплексов, где одно из центральных мест занимают каменные изваяния: столбы, менгирообразные блоки и т.п. При этом данная работа никоим образом не претендует на исчерпывающий анализ мифо-обрядового значения скифских изваяний. Более того, аспекты, которые затрагивают вопросы семантики каменных стел, демонстрируют, что в этой области исследования ещё много лакун, требующих своего разрешения. Скифское монументальное искусство как семиотическая структура, отражающая некоторые аспекты мировосприятия скифской этнокультурной общности, начало активно изучаться в 1950-е гг. Одной из первых была работа А.И. Мелюковой, описавшей изваяние из Мариупольского музея [Мелюкова, 1952]. Обратив внимание на то, что наиболее частым атрибутом изваяний является акинак, она соотнесла их со скифским божеством, идентичным греческому Арею, поскольку Геродот (VI, 62) упоминает, что акинак почитался в Скифии в качестве кумира этого бога [там же, с. 128]. Н.Г. Елагина, проанализировав 13 известных ей изваяний, впервые выделяет стандартный набор атрибутов, которые фигурируют в скифской мифологии как инвеститурные. Она полагает, что “стелы изображают умершего царя с регалиями, пожалованными ему божеством в знак царской власти” [Елагина, 1959, с. 195]. Е.А. Попова видит в изваяниях не царей, а племенных вождей, полагая, что именно с усилением царской власти и ослаблением роли вождей изваяния в Скифии начинают исчезать [Попова, 1976, с. 121]. А, по мнению Б.Н. Гракова, 2 изваяния представляют героизированный образ умершего [Граков, 1971, с. 87; 103]. М.И. Артамонов, исходя из наличия у некоторых изваяний специально подчёркнутых фаллических признаков, считал, что “скифские скульптуры представляют собой, конечно, не портреты определённых лиц, а обобщённый образ предка”, связанный с культом первопредка Таргитая-Геракла [Артамонов, 1961, с. 79, 82]. Крупным вкладом в изучение скифской монументальной скульптуры стали работы П.Н. Шульца, опубликовавшего целый ряд найденных и идентифицированных изваяний из музейных коллекций. Отмечая сложность образа, воплощенного в скифских изваяниях, П.Н. Шульц предполагает их семантическую эволюцию. Ранние изваяния (как и М.И. Артамонов) он связывает с образом “вооружённого героя-родоначальника с подчёркнутыми признаками мужской силы” [Шульц, 1976, с. 226], относя их к культу первопредков из генеалогических легенд. Впоследствии, по мнению П.Н. Шульца, образ первопредка сменяется образом военочальника-басилевса, который постепенно переходит в элементы портретизации и индивидуализации воплощаемого персонажа [там же]. В 1980-е разрабатываться гг. с увеличением направление источниковедческой семантических базы исследований начало скифских изваяний. Продолжало пользоваться поддержкой мнение, что изваяния воплощают героизированный образ родоначальника [Мелюкова, 1978, с. 42] или же младшего сына Таргитая – Колаксая [Ильинская, Тереножкин, 1983, с.73]. М.И. Фридманом и С.Н. Ляшко была высказана гипотеза о двояком назначении изваяний: как тотемного знака, устанавливаемого на кургане и подчёркивавшего связь с предком-родоначальником, и как составной части жертвенных комплексов [Ляшко, Фридман, 1987]. Одной из фундаментальных в этом контексте исследований стала работа Д.С. Раевского [Раевский, 1983]. Анализируя скифские изваяния, Д.С. Раевский 3 обратился к каменным стелам доскифского периода и выявил ряд устойчивых признаков. Благодаря изображению на них гривны (ожерелья) и пояса, каменное изваяние делилось на три условные вертикальные зоны [Раевский, 1983, с.50]. Исходя из этого, он предложил рассматривать изваяния “как моделированную ‘телесным’ или анатомическим кодом вертикальную структуру космоса” [там же, с. 52]. Наличие явных фаллических признаков на изваяниях Д.С. Раевский, опираясь на свою работу по скифо-сакской мифологии [Раевский, 1977], объясняет как маркер, указывающий на мифологический образ первопредка скифов – Таргитая-Геракла [Раевский, 1983, с. 52]. В фалломорфизме самих же изваяний он усматривал один “из эквивалентов космического столпа – все того же символа вертикального строения мироздания” [там же, с. 53]. При этом отрицалась трансформация образа первопредка в изображения царей или вождей в позднее время [там же, с. 57]. Созвучным Д.С. Раевскому было мнение Н.А. Чмыхова и Н.Д. Довженко, которые предложили считать изваяния “символами вселенной, и отождествлять их со вселенским человеком – Пурушей, части тела которого соответствовали частям мира (прежде всего его вертикально-горизонтальной структуре)” [Чмыхов, Довженко, 1987, с. 138]. Подробный анализ большой группы (115 экз.) скифских изваяний в своей диссертационной работе проделал В.П. Белозор [Белозор, 1986]. Исследуя генезис скифского морфологический и монументального иконографический искусства, канон, он выделяет который в выразился нём “в относительной устойчивости параметров (высота около 2м.) и набора изображаемых атрибутов (пояс, горит, меч, гривна, ритон)” [ Белозор, 1986, с.7]. В своём толковании В.П. Белозор стремится увязать в образах изваяний религиозно-мифологический и социально-сословный аспекты. С одной стороны, изваяния демонстрируют связь с представителями воинского сословия, являясь отражением культа с ярко выраженным классовым характером (он отметил, что угасание роли военного сословия и упадок культа 4 дружинного божества у скифов привели к явному снижению уровня мастерства в воспроизведении заданного образа к IV в. до н. э.) [Белозор, 1986, с. 15]. С другой, изваяния сохраняют “старую идею солярного божества, связанного с представлениями о путешествии в загробный “мир предков”, о возрождении и плодородии” [там же]. В.С. Ольховский, сопоставляя «киммерийские» стелы Северного Кавказа и Причерноморья, оленные камни Центральной Азии и скифские изваяния Причерноморья, пришёл к выводу, что они “стадиально по-разному воплощают общеевразийскую одну и ту же универсальную идею упорядоченного мира и его центрального элемента в образе дерева, столба, фалла, фигуры мифологического персонажа и т.д.” [Ольховский, 1990, с. 122]. Вышеприведённая широкий аспект история толкований исследований скифских иллюстрирует изваяний, среди достаточно которых не наблюдается: как единства мнений, так и комплексных решений. Эти обстоятельства вносили определённые трудности в интерпретациях, которые иногда являлись неоправданными. К пересмотру некоторых толкований скифского монументального искусства послужило исследование автором одного архаического брачно-обрядового сюжета [Рагуленко, 2007]. Нами было обнаружено, что в семантике камня как мифологического локуса вмещается огромный пласт архаических феноменов, которые позволяют обнаруживать более широкие семантические вариации древнего монументального искусства. В своё время Д.С. Раевский отметил, что все толкования скифских изваяний страдают общим недостатком, а именно, ни какая из них не исходила из всего комплекса особенностей, присущих антропоморфным стелам. С одной стороны, каждая из интерпретаций, опираясь на какие-либо конкретные детали, игнорирует другие, а иногда и опровергается ими; с другой – описывая какие-либо признаки у одной группы изваяний, исследователи не могли объяснить их отсутствие у других [Раевский, 1983, с. 41-42]. Но, при этом, его 5 космологическая трактовка изваяний подавляет все остальные значения. Это приводит к тому, что семантика стелы и самих атрибутов дублируют друг друга. Например, Д.С. Раевский [Раевский, 1983, с. 54] в семантическом ключе мирового древа трактует символику ритона, хотя в более ранней его работе [Раевский, 1977, с. 71, 76, 98] этот атрибут является указателем жреческих обрядовых функций. Сам комплекс жреческих обрядовых функций, безусловно, является ритуальной программой в контексте общей семантики “Мирового древа”. Однако, на наш взгляд, специфика значения ритона на изваяниях актуализируется в более узком контексте иконических знаков. С позиции такой же дублирующей семантики трактуются акинак и оселок [Раевский, 1983, с. 54-55], что делает непонятным их наличие на изваянии. Ситуация усугубляется еще и тем, что, как допускает автор, предметы могли быть вообще не видны для стороннего наблюдателя [там же, с. 53]. При этом, следует отметить, что такой атрибут, как плеть, выпадает из поля исследования Д.С. Раевского, хотя в индоевропейской мифологии это один из сакральных предметов божества или культурного героя, наделённый определёнными магическими свойствами (см. ниже). Возвращаясь к анализу изваяний, отметим, что соприсутствие на них культовой и воинской атрибутики указывает на сложный семантический образ ‘царя-жреца’ [Раевский, 1977, с. 75]. Но если суммировать семантические тропы самой стелы и её атрибутики, то мы получаем необычайно широкий спектр толкований о функциональных задачах изваяния. Ещё большей неопределённости в толковании изваяний добавляет наличие одного признака, о котором, либо не упоминают, либо говорят весьма неопределённо. В исследовательской литературе стало аксиомой, что скифские изваяния изображают вертикально стоящую мужскую фигуру [Раевский, 1983, с. 52; Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 55]. При этом некоторые изваяния демонстрируют признаки, определенно женского характера, а именно, наличие у них женской груди (рис. 1, 1-2). В.С. Ольховский, отмечая этот признак у двух изваяний, даёт весьма уклончивое толкование. По его мнению, 6 изображения грудных мышц отличается своеобразием, их абрис весьма напоминает женскую грудь, но отсутствие атрибутов и сама иконография не позволяют определить пол воспроизведённого персонажа [Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 59]. Но в изваяниях, представленных Ольховским, можно отметить, по крайней мере, девять изваяний с признаками женской груди, причём на тех, у которых имеется набор военной атрибутики и явные мужские признаки – усы и фалл (рис. 1, 3-4) [Ольховский, Евдокимов, 1994, илл. 1, 6, 48, 51, 76, 82, 83, 84; Ольховский, 1999, рис. 4,1]. Неучтен еще фактор климатической и физической эрозии, влияющий на утрату портретной целостности. Многие признаки на этих изваяниях явно стерты [Ольховский, Евдокимов, 1994, илл. 6(14), 7(17), 9, 15, 17, 19, 29, 53, 56(93) и др.]. В.С. Ольховский определяет эти признаки, как нагрудные бляхи, но при этом ставит знак вопроса [Ольховский, 1994, с. 16, 35]. М.В. Горелик трактует этот атрибут в том же контексте – металлические бляшки на месте сосков [Горелик, 1993, с. 89]. При этом следует отметить, что реконструкцию скифского доспеха М.В. Горелик выполнил по внешнему облачению скифского антропоморфного изваяния [Горелик, 1993, Таб. XLVII], что представляется нам произвольным и неправомерным [Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 71]. С другой стороны, круглые бляшки, в составе доспеха из мягких материалов по реконструкции М.В. Горелика, практически непродуктивны. Версия о наличии нагрудных блях на скифском панцире опровергается и Е.В. Черненко. Он пишет: “Нам не известны в Скифии находки металлических пластин, которые можно было бы связать с панцирями этого вида” [Черненко, 1968, с. 17]. Таким образом, означить этот атрибут деталью воинского облачения не представляется возможным, так как в эту эпоху такая деталь защитного воинского доспеха не была известна. Но при этом снова возникает вопрос, поставленный Д.С. Раевским: “с какой целью изваяния создавались?”, – так как надмогильный характер ещё не объясняет их назначения. 7 В этой связи следует обратиться к каменным стелам предскифского времени и оленным камням Центральной Азии (рис. 2, 3). Д.С. Раевский обнаружил устойчивый изобразительный приём, посредством которого изваяние делилось на три условные зоны, что позволило ему увязать их с концептом архаической модели Космоса [Раевский, 1983, с.50-51]. При этом отмечалось, что, изображая человеческую фигуру, сами стелы антропоморфностью не обладали. [Савинов, 1977, с. 127]. Этот эффект достигался не только посредством нанесённого на них комплекса иконических знаков (пояс, меч, ожерелье и т.п.), но и расположением самих знаков в определённом порядке. Сам же порядок соответствовал обычному реальному расположению данных предметных комплексов на теле человека. Другими словами, каменный столб приобретал семантику антропоморфности посредством нанесенных на него атрибутов и порядка их расположения. Причем, следует отметить, что эта семантика носит бинарный характер, так как комплекс иконических знаков, помимо мужских атрибутов (меч, топор, лук), представлен и женскими. К таковым напрямую относятся ожерелья из раковин “каури” [Дударев, 1999, с. 49]. Раковины во многих культурах как образ женского детородного органа, были атрибутами великих богинь и связаны с функцией плодовитости, плодородия, а также как обереги от тёмных сил, болезней, порчи, бесплодия и т.д. [Элиаде, 2000, с. 209216]. В данном контексте возникает тот же вопрос: что воплощают оленные камни? Н.Н. Диков [Диков, 1958, с. 45] и Н.Л. Членова [Членова, 1984, с. 69] высказывали мнение, что оленные камни изображают фигуру мужчины-воина. С.Л Дударев [Дударев, 1999, с. 48-49] предположил, что стелы могли быть связаны с деятельностью конкретных вождей, являвшихся гарантами целостности социума, как микрокосма. Факт переиспользованности изваяний может указывать на смену лидера и выражает идею незыблемости и преемственности власти. Подобные трактовки заставляют игнорировать отсутствие антропомофных черт на оленных камнях, среди которых хоть и встречаются исключения (напр., Чуйский камень [Кубарев, 1979], камень №14 8 из Ушкийн-Увэр [Волков, Новгородова, 1975]), но в целом они демонстрируют устойчивость основной, неантропоморфной формы [Ольховский, 1989, с. 53]. В силу этого, большее признание получает точка зрения, согласно которой оленные камни – явления космологического порядка [Килуновская, 1987, с. 159]. Согласно этой позиции В.С. Ольховский [Ольховский, 1989, с. 54; Ольховский, 1990, с. 120], считает, что оленные камни изображали фалл (как эквивалент древа жизни, мирового или жертвенного столба), а благодаря нанесению на них определённого набора атрибутов эти камни приобретали черты фигуры человека (первопредка, культурного героя). Анализируя оленные камни, исследователи отмечали, что они, как правило, находятся возле каменных выкладок, курганов, плиточных могил и т.п., располагаются в квадратных или прямоугольных каменных оградах, каменных кольцах [Волков, 1981, с. 80, 82; Кубарев, 1979, с. 36-37]. Подобным образом оформлены стелы без изображений, которые обычно не датируют (рис. 4). В ряде случаев некоторые исследователи фиксируют их несомненную синхронность оленным камням [Новгородова, 1981, с. 205]. В данном случае обнаруживается самый устойчивый признак – столб из камня. Таким образом, имеет смысл рассмотреть, какую роль играл семантический “образ” камня в структуре архаической модели мира. Во многих культурно-мифологических традициях камень был носителем божественной силы, вместилищем бога, обиталищем души умершего [Голан, 1992, с. 89]. В различных вариациях камни выступали как символы Великой Матери богини Земли, но также назывались и “громовыми камнями” [Элиаде, 1999, с. 218]. В исследованном нами брачного сюжета нартовского эпоса – рождение героя из камня [Рауленко, 2007, с. 98-100] – задействованы три персонажа: 1) “трасцендентный” отец культурного героя в образе пастуха и с функциями громовержца; 2) мать культурного героя, олицетворяющая землю, плодородие и территорию обитания; 3) культурный герой с чертами солярного божества, родившийся из камня и после смерти, облачённый в камень. Для всех троих узловым локусом в этом сюжете являлся камень. В результате 9 анализа выяснилось, что камень соотносит в себе несколько семантических дериватов: во-первых, выступает как персонификация образа Бога Грозы и Богини Земли, во-вторых, представлен в качестве алтаря или жертвенника, втретьих, является вместилищем души, причем, как нарождающейся, так и умершей; в-четвёртых, выступает связующим звеном между мирами, как один из эквивалентов axis mundi – мировой оси. Такая многоплановая семантическая палитра выделяет каменный менгир как некий сакральный локус, с широким обрядовым значением. К такому выводу пришёл и В.С. Ольховский [Ольховский, 1989, с. 59-60], но, в его интерпретации, изофункциональное значение стел выражено чертами маскулинного характера. Однако атрибутивный набор на стелах и сама семантика камня соотносят в себе как мужские, так и женские символы, о чем говорилось выше. В этом ключе характерно, что имя громовержца, как правило, совпадает с неким важным мифологическим локусом – камнем, горой, но также скала, гора может выступать и как супруга громовержца [Топоров, 1985, с. 116-117]. Такие семантические пересечения могут указывать, что каменная стела с набором атрибутов была не просто полифункциональным, а основным культовым объектом жизненного ареала кочевников и могла являться иерофанией, вмещающей в себе весь пантеон божеств, которым поклонялись носители этой культуры. В зависимости от востребованного обрядового момента менгир мог соотноситься с божеством или группой божеств, где набор атрибутов в качестве вспомогательных кодов, в различных сочетаниях мог указывать на какой-либо образ и его функции. Например, наличие на стеле изображений ожерелья из раковин “каури” (женского символа плодовитости, плодородия, жизни) и животных могли быть указателями на образ женского божества, связанного с культом плодородия и стихией земли. Анализ стел предскифского периода обнаруживает, что культовое значение изваяний не ограничивается маскулинным характером, так как наличие в камне (как епифании) и некоторых атрибутах феминной семантики, 10 придает стеле символизм гетерогенного характера. Таким образом, изваяние как культовый объект является локусом, где успешно соотносятся мужские и женские мифологические образы, но с явным господством маскулинного аспекта. Подобный гетерогенный семантизм обнаруживается и в скифских изваяниях. Исследуя генезис антропоморфной монументальной скульптуры, В.С. Ольховский отметил, что признаками раннескифских изваяний являются: выделенная голова с чертами лица, гривна и пояс разделитель [Ольховский, 2000, с. 226, рис. 3]. Условность черт лица и набор атрибутов являют нам достаточно нейтральный образ, который невозможно дифференцировать по социально-половым признакам. Выдержанна только фаллическая форма изваяний. Стела из Таганрога, датируемая В.С. Ольховским VII-VI вв. до н.э. и определяемая им как раннескифская [Ольховский, 1999(а), с. 247, рис. 4,1], являет уже фигуру человека с женскими и мужскими признаками. Отсутствие воинской атрибутики только усиливает эту тенденцию. В.С. Ольховский отмечает эволюцию морфологии и иконографии скифских изваяний VI-V вв. до н.э. [Ольховский, 2000, с. 226]. Расширился как репертуар антропоморфных черт, так и набор изображаемых предметов (лук в горите, меч, топор, ритон и т.п.) [там же, рис. 4]. Подобная эволюция изваяний уже отражает явный приоритет маскулинного аспекта, но, при этом, черты феминной семантики (наличие груди) всё же сохраняются [Ольховский, Евдокимов, 1994, ил. 1, 6, 48, 51, 76, 85, 89]. Такой, достаточно устойчивый характер женских признаков на стелах может указывать на важный женский образ в скифской мифологии. Геродот отмечает трёх скифских женских божеств, из которых Табити (Гестия) занимала верховное положение в пантеоне (Геродот, IV, 59). Другая богиня – Апи (Гея) – была связана со стихией Земля [Раевский, 1977, с. 44-45]. У осетин, прямых потомков скифо-сарматского культурного наследия, образ МадыМайрам (Богородицы) связан с ещё дохристианским поверьем, будто она живёт в священном камне [Марков, 1904, с. 160]. 11 Приверженность маскулинной парадигме при анализе стел создавала определённые трудности у исследователей. Рассматривая скифские изваяния как моделированную анатомическим кодом трёхчастную вертикальную структуру космоса, Д.С. Раевский признавал, что в скифской модели мира, такая совокупность всех элементов мироздания заключена в образе женского верховного божества – Табити [Раевский, 1977, с. 106-108, 121]. Но позиция вышеозначенной парадигмы вынудила его искать компромиссное решение в облике скифского первопредка Таргитая [Раевский, 1983, с. 52]. Такое допущение вступало в противоречие с ранними выводами автора, где Таргитай являлся родоначальником трёхчастной структуры космоса социального, а в структуре мироздания он олицетворял срединный мир людей [Раевский, 1977, с. 58-63]. Аналогичные трудности при анализе иконографии антропоморфных скифских стел обнаруживаются и у В.С. Ольховского [Ольховский, 1990, с. 59]. Наиболее узнаваемым мифологическим персонажем, воплощенным в скифских каменных изваяниях, может быть образ громовержца, фигурирующим в скифской мифологии под именем Папай (Геродот, IV, 59). Такие предметы, как оселок, топор и лук, были непременными атрибутами и символами бога-громовержца. Следует сказать, что громовержец вообще нередко был представлен камнем (напр. Юпитер [Иванов, Топоров, 1974, с. 12; Штаерман, 1998, с. 679]) либо восседающим на камне [Афанасьев, 1988, с. 255]. Камень был оружием громовержца Индры (РВ II 30, 5;VI 22, 1), Юпитера [Легенды и сказания…, 1987, с.49], Перкунаса и Перуна [Иванов, Топоров, 1974, с. 85, 92; Афанасьев, 1988, с. 228-229]. В греческой мифологии Рея, чтобы спасти Зевса, дала проглотить Крону завёрнутый в пелены длинный камень [Легенды и сказания…, 1987, с. 17]. Оселки, точильные камни, связываются с богом грозы (славянским Перуном, литовским Перкунасом), и являются его атрибутами [Иванов, Топоров, 1974, с. 86-94]. Такой же атрибут громовержца отмечается у абхазо-адыгов [Инал-Ипа, 1976, с. 153, 157]. У русских, сербов и немцев А.Н. Афанасьевым [Афанасьев, 1988, с. 233] описаны 12 схожие поверья о том, что вместе с молнией громовержец мечет и ‘громовые стрелки’ в виде продолговатых камней. Характерным для этого оружия выступает и самоназвание: “громовая стрелка”, “громовик”, “кремневая стрелка”, которые нередко были представлены старинными каменными орудиями, найденными в земле; такие орудия, по народному поверью, падали с неба с громом [Иванов, Топоров, 1974, с. 91]. При этом можно сказать, что и сама каменная стела, помимо своей фалломорфности, по форме так же близка к “громовой стрелке” (оселку, белемниту и т.д.). Помимо своего значения как оружия и атрибута громовника, “громовые стрелы” использовались в лечебных целях при различных недугах, а так же в заговорах от змей [Иванов, Топоров, 1974, с. 91, 92]. В этом случае оселок выступает в качестве апотропея и магического предмета. Подтверждением этому может служить достаточно распространенный обряд включения оселков в состав погребального инвентаря скифских захоронений VII – III вв. до н.э. [Ольховский, 1991]. Некоторые из этих оселков были отполированы и богато украшены золотом [Сокровища скифских…, 1966, ил. 212; Goldschatz…, 1970, ил. 212; The golden…, 2000, ил. 7, 165]. Другим непременным атрибутом громовержца является боевой топор или молот [Иванов, Топоров, 1974, с. 86, 93-95; Афанасьев, 1988, с. 226]. На Крите в качестве фетиша Зевса почитался ‘лабрис’ – двулезвийный топор [Лосев, 1997, с. 463]. Боевой палицей, молотом или топором владели Индра, Тор, Перун, Перкунас. В XI в. русские дружинники носили маленькие топорики-подвески в качестве воинских амулетов [Макаров, 1992, с. 51], так как нередко громовержец выступал покровителем воинского сословия (как например Индра, Перун). Менее распространённым оружием бога-громовника был лук. В ведийской мифологии боевым луком Индры является радуга, с которой он пускает свои молниеносные стрелы; Перун владеет молниеносными стрелами и огненным луком [Афанасьев, 1988, с. 304]. Но чаще каменными стрелами громовержца называют каменные или железные топоры, молоты, белемниты (оселки) [Иванов, Топоров, 1974, с. 86-94]. 13 Еще одним атрибутом громовержца или культурного героя, с функциями громовержца [Иванов, Топоров, 1974, с. 172], является плеть или розги. В ведической традиции наличествует образ бога-пастуха Пушана, который связан с солнцем, плодородием, покровительством путникам, вечным повторением. Его атрибуты – золотой топор и стрекало. Он, хранитель скота и пастух всего сущего, провожает умерших по пути предков (РВ I 42; IV 53; Х 17). В иранской авестийской мифологии первопредок и культурный герой Йима получает от Ахурамазды золотые стрелу и плеть, с помощью которых он совершает брачные действия с землёй и расширяет её лоно, в качестве жизненного пространства [Авеста, с. 77-78]. В немецких сказках удары бича дают богатство. У русских и литовцев розги или плеть были брачными атрибутами громовника, при помощи которых он оплодотворял землю [Афанасьев, 1988, с. 251; Иванов, Топоров, 1974, с. 93]. Подобные мотивы отмечаются и в сюжетах русского былинного эпоса, где функции громовержца, под влиянием христианства, были перенесены на культурных героев [Иванов, Топоров, 1974, с. 172]. Добрыня Никитич, герой русского былинного эпоса, борясь со змеем, побивает его плетью, после чего обретает жену и богатство (золото) [Былины, 2001, № 10-12, 15]. Этим представлением объясняется использование плети в свадебных обрядах [Афанасьев, 1988, с. 250-251]. В Нартовском эпосе осетин плеть фигурирует как предмет, возвращающий к жизни, и как побудительный медиатор брачных отношений [Нарты, 1990, с. 24, 302-305, 475]. Таким образом, плеть, как культовый атрибут, связана с брачной обрядностью и функциями плодородия, плодовитости, жизни и материальных благ. Таким образом, все перечисленные атрибуты, связанные с образом громовержца, в индоевропейской мифологической традиции, присущи и скифским каменным изваяниям. Наличие на изваяниях такого атрибута как акинак Д.С. Раевский истолковывает в контексте концепции мирового древа [Раевский, 1983, с. 53]. 14 В скифском обряде в честь Арея, описанном Геродотом, акинак выступал как кумир, олицетворение бога войны (Геродот, IV, 62). В социальном аспекте меч являлся символом, указывающим на принадлежность не просто к воинам, но к их высшему слою [Раевский, 1977, с. 153]. Нет никакого сомнения, что Арей – узкоспециализированное божество, имеющее отношение к военному сословию. Алтари, связанные с культом этого божества располагались лишь по округам (Геродот, IV 62) [Попова, 1976, с. 113]. Сам Арей занимал последнее место в скифском пантеоне (Геродот, IV 59). Эти обстоятельства исключали его из обрядов, связанных с так называемым основным мифом [Иванов, Топоров, 1974, с. 164], имеющих в своей основе характеристики космогонического порядка. Обрядовая сторона основного мифа, как правило, была связана с образом громовержца. Примером этого является индоарийский миф, как наиболее полный и детальный, где Индра выступает в качестве системообразующего божества. В процессе своей деятельности он является причиной создания дуального космоса: отделяет небо от земли, и в качестве столба поддерживает его [Кёйпер, 1986, с. 30]. Подобная роль в скифском пантеоне связана с другим божеством – Гераклом-Таргитаем [Раевский, 1977, с. 122]. Следует отметить ещё один аспект: выступая как божество промежуточного пространства [Невелева, 1975, с. 60], Индра, “подпирающий” небо, идентифицируется с “Мировым древом”, которое, будучи идентично космическому столбу в центре мира, держало небо и землю. Однако, как показал Ф.Б.Я. Кёйпер, Индра ничего общего не имеет с “Мировым древом” [Кёйпер, 1986, с. 30]. В силу всех перечисленных обстоятельств, акинак как олицетворение Ареса (узкоспециализированного божества войны), если и участвовал в обрядах системообразующего характера, то не в качестве эквивалента космического древа. В составе атрибутов изваяния, акинак мог являться указателем на образ скифского бога войны – Арея, как это и предполагала А.И. Мелюкова [Мелюкова, 1952, с. 128]. В контексте темы, касающейся образа “Мирового древа” и его роли в архаической модели мира, следует также отметить следующее. На наш взгляд, 15 географическая зона обитания кочевнических культур евразийских степей могла сформировать концепцию восприятия мирового столпа скорее не в образе мирового древа, а, в виде каменного менгира на возвышенности. Наглядным тому примером могут выступать сами каменные стелы. Еще одним характерным признаком скифского изваяния, является его фалломорфизм, либо наличие на них атрибута в виде фалла, что, по мнению ряда исследователей [Артамонов, 1961, с.79; Ревский, 1983, с. 53; Ольховский, 1990, с.122], выступает указателем на образ мифического первопредка. Мифический первопредок скифов, Таргитай-Геракл, входил в пантеон скифских божеств (Геродот, IV, 59). Вышеприведённая семантическая иллюстрация представляет нам скифские каменные изваяния как сложный культовый объект. Столбообразная стела и набор атрибутов, на наш взгляд, представляет в компактном виде основную структуру модели мира, религиозно-мифологические образы и объекты поклонения. Расширенный ряд семантики и обрядовых “полномочий” каменных изваяний не отменяет ключевого факта: подавляющее большинство стел составляло один из элементов погребального комплекса [Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 76]. В этом случае возникает необходимость рассмотреть структуру скифского погребального сооружения в целом. Архитектуру скифского погребального комплекса составляет совокупность погребальных, намогильных, внекурганных и околокурганных сооружений, явившихся результатом целенаправленных ритуально- практических действий в ходе подготовки и совершения захоронения умершего [Ольховский, 1999(б), с. 123]. Сочетание всех требуемых обрядом составляющих превращает погребальный объект в структурно сложный комплекс (рис. 6), соответствующий одному из важнейших элементов архаической модели мира – “Мировой горы”. “Мировая гора” – это сакральный объект, потому что находится в центре мира и через неё проходит мировая ось, объединяющая все зоны мироздания [Элиаде, 2000, с. 31, 268]. 16 Идея объединяющего центра обеспечивала целостность модели мира как системы. Отсюда очевидно, что скифский курган, как искусственно созданный объект, есть материализация мифологического архетипа, в котором соотносится трёхчастная модель мира. Посредством локализации в курганном комплексе трёх уровней космоса: хтонического (погребальная камера), среднего (курган) и верхнего (верхушка курганной насыпи), он непременно становился сакральным местом и культовым объектом. В.С. Ольховский отмечает, на вершинах некоторых курганов эпохи бронзы были обнаружены вбитые в землю скифские акинаки. Это дало ему основание предполагать, что эти курганы скифы использовали в качестве святилищ скифского бога войны [Ольховский, 1991, с. 133]. В структуре собственно скифского некрополя отмечается наличие нескольких жертвенников и жертвенных ям [там же, с. 128, 147]. Количество остатков жертвенных тризн около жертвенников, в ровиках и ямах, свидетельствуют о достаточно продолжительном использовании курганов как культовых мест [там же, С. 131, 134]. Ряд исследователей допускает, что некоторые скифские курганы могли играть роль святилища [Ольховский, 1991, с. 177; Чмыхов, Довженко, 1986, с. 190]. Всё это указывает на то, что в рамках скифского культурного поля курган, исполняя роль системообразующего объекта и актуализируя архетипы жизненного пространства, обуславливал модели восприятия и поведения. Каменное изваяние в структуре курганного некрополя, занимало ключевую роль. В силу своего полисемантизма стела, как иерофания, позволяла соотносить мифологические между персоналии собой стихии, скифского космические пантеона. зоны, Примером и таких соотношений может послужить сюжет скифской генеалогической легенды. В нём повествуется о первопредке скифов Таргитае, родителями которого являются божества Папай и Апи (Геродот, IV 5). В скифской модели мира Апи являлась олицетворением хтонической зоны космоса и стихии Земли (Воды), соответственно Папай олицетворял верхнюю зону космоса и стихию Неба [Раевский, 1977, с. 44-47]. Архитектурное оформление погребальной камеры и 17 кольцевых рвов, которые могли иметь 1-4 перемычки [Ольховский, 1999б, с. 124, 192], есть недвусмысленное выражение женского родового органа (рис. 5). Из недр женского начала гора тянется в верх и, посредсвом фалломорфной структуры и семантики стел [Раевский, 1983, с. 53], связана с мужским началом и верхней зоной космоса – Небом, которое находится на горе [Фрейденберг, 1978, С. 82]. Антропоморфная стела с набором атрибутов (как кодовых маркеров) придавала всей структуре курганного комплекса полифункциональное обрядовое значение. Это условие придавало кургану статус не только погребального, а основного культового объекта с широким спектром обрядовых действий. К подобному выводу нас подталкивает и Геродот (IV 59), сообщающий, что “у скифов не в обычае воздвигать кумиры, алтари и храмы богам, кроме Ареса”, которому также воздвигали курганообразные сооружения (IV 62). Другое свидетельство содержится в ответе скифского царя Иданфирса Дарию, где указывается, что у скифов нет городов, обработанной земли, за которую стоило беспокоиться. Но при этом отмечается, что если персы найдут и осквернят “отеческие могилы”, то узнают гнев скифов (IV, 127). В условиях кочевого образа жизни курганный комплекс – это наиболее логичное оформление культовых объектов, имеющих ряд преимуществ. Вопервых, посредством сооружения сакрального Центра, кочевники актуализировали бытие, а так же могли маркировать стабильность освоения “жизненного пространства” [Дударев, 1999, с.44]. Во-вторых, в условиях постоянных миграций для отправления обрядовых потребностей требовалось наличие культового объекта в пределах досягаемости, а любое освященное пространство совпадает с Центром Мира [Элиаде, 2000, с. 36]. В-третьих, конструкция курганного комплекса максимально адаптирована к естественным условиям окружающей среды и не требовала особого ухода. Исключение могли составлять отмеченные Геродотом (IV, 62) курганообразные сооружения из хвороста в честь бога Арея, требующие постоянного обновления. 18 Обозначив функционально-культовую значимость курганного комплекса, стоит отметить, что далеко не каждый курган мог претендовать на широкие обрядовые “полномочия”. Поскольку, с одной стороны, создание такого сложного и масштабного погребального комплекса требовало значительных людских ресурсов, материальных и технических средств, а так же наличия квалифицированных специалистов и священнослужителей [Ольховский, 1999(б), с. 125]. С другой – на некрополь со сложным и масштабным архитектурным ансамблем могла претендовать персона, обладающая широкими властными и культовыми полномочиями [Раевский, 1983, с. 56]. Таковыми, в скифском обществе, обладали представители царского рода, положение которых было закреплено мифологической традицией (Геродот, IV 5-7) [Раевский, 1977, с 102-108]. Подобная широта полномочий исходила из самой мифологической традиции, в рамках которой скифские цари вели свою родословную от первопредка и были связаны сакральными узами с верховным божеством (Геродот, IV 5-10) [Раевский, 1977, с. 100]. В силу этого скифский царь являлся исключительной личностью божественного происхождения, роль и функции которого имели статус космологического порядка, сходными с понятиями “центра мира” (мировое дерево, мировая гора, божество, трон и т.п.) [Раевский, 1977, с. 163]. Соответственно он сам был мифологическим символом, материальным воплощением опоры срединного мира и занимал центральное место в структуре социального космоса. Несомненно, смерть такой личности воспринималась как критический деструктивный момент космического и социального порядка [Раевский, 1983, с. 56]. Восстановлению этого порядка должен был служить правильно организованный и оформленный погребальный ритуал. Весь процесс постройки погребального сооружения регламентировался традицией и проходил несколько этапов [Ольховский, 1999 (б)]. Сооружение погребального ансамбля (как прообраза мифологического архетипа) был формальным выражением космогонического акта и облекался в форму обряда “смерти-рождения”: погребальная камера в виде женского 19 родового органа, курган, как прообраз “Мировой горы” в сакральном центре мира, фаломорфная стела на вершине насыпи. Тело помещалось в центральную часть материнского лона Апи (Земли), а посредством фаллической формы изваяния в центре вершины умерший соотносился с небом и был сопричастен своему первопредку или божеству. Статус умершего и архетипность погребального сооружения освящали саму территорию и превращали весь комплекс в общекультовое место на достаточно продолжительный период. Так, например, у курганов со скифскими захоронениями V в. до н.э. (Лупарево, к 11; Ковалёвка II, к. 2 и 3) были обнаружены следы тризны IV – III вв. до н.э. [Ольховский, 1991, с. 134]. Рассмотрение структуры скифского погребального комплекса демонстрирует, что это сложный архитектурный ансамбль, воплощающий идею архаического сакрального места. Процесс построения курганного комплекса воспроизводил древний архетип космогонического акта. Сооружение такого сложного комплекса предназначалось для личности, которая сама была проекцией мифологических архетипов и совмещала властные и обрядовые функции. Вследствие такого соотношения курганный комплекс превращался в культовое место с широкими обрядовыми “полномочиями”, где каменное изваяние занимает ключевое значение. В погребальном обряде оно выступало медиатором между зонами космоса, в качестве системообразующей иерофании, что позволяло умершему быть сопричастным первопредку или божеству-демиургу. В обрядах, не относящихся к погребальным, изваяние (посредством атрибутивных кодов) могло выступать как полисемантическая эпифания и обеспечивать выполнение широкого диапазона культовых обрядов, востребованных скифским сообществом. Это подтверждает появление у скифов в IVв. до н.э. святилищ, в виде площадок с кольцевым валом [Ольховский, 1991, с. 133]. Центральное место на этих площадках занимали антропоморфные изваяния. 20 БИБЛИОГРАФИЯ 1. Авеста в русских переводах (1861-1996)., 1997. Под ред. И.В. Рака, С.-Пб. 2. Артамонов М.И., 1961. Антропоморфные божества в религии скифов // АСГЭ. Вып. 2. Л. 3. Афанасьев А.Н., 1988. Живая вода и вещее слово. М. 4. Белозор В.П., 1986. Скифские каменные изваяния VII – IV вв. до н.э. // Автореф. дис. канд. ист. наук. Киев. 5. Былины в 25 томах, 2001. Т. 1. С-Пб., М. 6. Волков В.В., 1981. Оленные камни Монглии. Улан-Батор 7. Волков В.В., 2001. Ранние кочевники Северной Монголии // Мировоззрение древнего населения Евразии. М. 8. Волков В.В. Новгородова Э.А., 1975. Оленные камни из Ушкийн-Увэра Монголия) // Первобытная археология Сибири. Л. 9. Геродот, 2001. История (Перевод и примеч. Г.А. Стратановского). М. 10. Голан А., 1992. Миф и символ. М. 11. Горелик М.В., 1993. Оружие Древнего Востока (IV тысячелетие – Ivвв. до н.э.) М. 12. Граков Б.Н., 1971. Скифы. М. 13. Диков Н.Н., 1958. Бронзовый век Забайкалья. Улан-Удэ 14. Дударев С.Л., 1999. Взаимоотношения племён Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной Европы в предскифскую эпоху (IX первая половина VII вв. до н.э.). Армавир 15. Елагина Н.Г., 1959. Скифские антропоморфные стелы Николаевского музея // СА №2 М. 16. Иванов В.В. Топоров В.Н., 1974. Исследования в области славянских древностей. М. 17. Иванов В.В. Топоров В.Н., 1998. Перкунас, Перун // Мифы народов мира. Т. 2. М. 21 18. Иванов В.В. Топоров В.Н., 1998. Дажьбог // Мифы народов мира. Т. 1. М. 19. Ильинская В.А. Тереножкин А.И., 1983. Скифия VII – IV вв. до н.э. Киев 20. Инал-Ипа Ш.Д., 1976. Вопросы этнокультурной истории абхазов. Сухуми 21. Кёйпер Ф.Б.Я., 1986. Труды по ведийской мифологии. М. 22. Килуновская М.Е., 1987. Оленные камни как памятники монументального искусства культур скифского облика.// Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Тезисы докл. обл. научн. конф. Омск 23. Кубарев В.Д., 1979. Оленный камень с р. Чуи // Древние культуры Сибири и Тихоокеанского бассейна. Новосибирск 24. Кубарев В.Д., 1979. Древние изваяния Алгиая (Оленные камни). Новосибирск 25. Кузьмина Е.Е., 1977. Распространение коневодства и культ коня у ираноязычных племён Средней Азии и других народов Старого Света // Средняя Азия в Древности и средневековье. М. 26. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима, 1987. (Под Ред. А.А. Нейхард). М. 27. Лосев А.Ф., 1957. Античная мифология в её историческом развитии. М. 28. Лосев А.Ф., 1997. Зевс // Мифы народов мира. Т. 1. М. 29. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А., 2002. Боги и герои Древней Греции. М. 30. Ляшко С.Н., Фридман М.И., 1987. Скифские каменные изваяния Периферии Каменского городища // Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Тезисы докл. обл. научн. конф. Омск 31. Макаров Н.А., 1992. Древнерусские амулеты- топорики // РА №2 М. 22 32. Марков Е., 1904. Очерки Кавказа. СПб.-М. 33. Махабхарата V., 1983. Мокшадхарма (Основа освобождения). Пер. с санскр. акад. Б.А. Смирнова. Ашхабад 34. Махабхарата, 1987. Араньякапарва (Книга Лесная). Пер. с санскр. Я.В. Василькова и С.Л. Невелевой. М. 35. Мелетинский Е.М., 2000. Поэтика мифа. М. 36. Мелюкова А.И., 1952. Каменная фигура скифа-воина // КСИИМК. Вып. XLVIII. М. 37. Мелюкова А.И., 1978. Скифское каменное изваяние из с. Буторы // Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. М. 38. Нарты., 1990. Осетинский героический эпос. Кн. 2. М. 39. Новгородова Э.А., 1981. Памятники изобразительного искусства Древнетюркского времени на территории МНР // Тюркологический сборник – 1977. М. 40. Новгородова Э.А., 1989. Древняя Монголия. М. 41. Невелева С.Л., 1975. Мифология древнеиндийского эпоса (Пантеон). М. 42. Ольховский В.С., 1989. Оленные камни (к семантике образа) // СА №1 М. 43. Ольховский В.С., 1990. О северокавказских стелах эпохи раннего железа // СА №3 М. 44. Ольховский В.С., 1991. Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII – III вв. до н. э.). М. 45. Ольховский В.С., 1999(а). Скифские изваяния северо-восточного Приазовья // Евразийские древности. 100 лет Б.Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. М. 46. Ольховский В.С., 1999(б). К изучению скифской ритуалистики: посмертное путешествие // Погребальный обряд. М 23 47. Ольховский В.С., 2000. Идея антропоморфности в монументальной скульптуре степной Евразии эпохи раннего железа // Скифы и сарматы в VII – III вв. до н.э.: палеэкология, антропология и археология. М. 48. Ольховский В.С. Евдокимов Г.Л., 1994. Скифские изваяния VII – III вв. до н.э. М. 49. Попова Е.А., 1974. Об истоках традиций и эволюции форм скифской скульптуры // СА №1 М. 50. Раевский Д.С., 1977. Очерки идеологии скифо-сакских племен. Опыт реконструкции скифской мифологии. М. 51. Раевский Д.С., 1978. Из области скифской космологии (опыт Семантической интерпретации пекторали из Толстой Могилы) // НАА №3 М. 52. Раевский Д.С., 1983. Скифские каменные изваяния в системе религиозномифологических представлений ираноязачных народовевразийских степей // Средняя Азия, Кавказ и древний Восток в древности. М. 53. Рагуленко С.А., 2007. Мифо-эпические сюжеты как семантический отголосок обрядовых форм (мотив рождения героя из камня) // Вопросы истории Ингушетии. Вып. Магас 54. Ригведа в 3-х томах, 1999. (Составитель Т.Я. Елизаренкова). М. 55. Савинов Д.Г., 1977. О культурной принадлежности северокавказских камней-обелисков // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М. 56. Савинов Д.Г., 1980. Изображения собак на оленных камнях (некоторые Вопросы семантики) // Скифо-сибирское культурноисторическое единство. Кемерово 57. Сокровища скифских курганов в собраниях Эрмитажа., 1966. Л. 7. 24 58. Топоров В.Н., 1985. Хетт.-лув. KAMRUŠEPA: Мифологический образ // Древняя Анатолия. М. 59. Фрейденберг О.М., 1978. Миф и литература древности. М. 60. Фрейденберг О.М., 1997. Поэтика сюжета и жанра. М. 61. Хороших П.П., 1962. Оленный камень из Забайкалья // СА №3 М. 62. Черненко Е.В., 1968. Скифский доспех. Киев 63. Членова Н.Л., 1984. Оленные камни как исторический источник. Новосибирск 64. Членова Н.Л., 1999. Новые данные о связях Монголии и Северного Кавказа // Евразийские древности. 100 лет Б.Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. М. 65. Чмыхов Н.А., Довженко Н.Д., 1986. О древнейшем индоиранском компоненте в сложении скифской монументальной скульптуры // Древнейшие скотоводы степей юга Украины. Киев 66. Шишло Б., 2003. “Народы севера” Геродота и скифские ритуалы // Степи Евразии Древности и средневековье. С-Пб. 67. Штаерман Е.М., 1998. Юпитер // Мифы народов мира. Т. 2, М. 68. Шульц П.М., 1976. Скифские изваяния // Художественная литература и археология античного мира (Сб. памяти Б.В. Фармаковского). М. 69. Элиаде М., 1999. Очерки сравнительного религиоведения. М. 70. Элиаде М., 2000. Миф о вечном возвращении (Образы и символы). М. 71. Goldschatz der skythen in der eremitage., 1970. Prag. 72. The golden deer of Eurasia., 2000. New York. КАМЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ В СТРУКТУРЕ КУРГАННЫХ КОМПЛЕКСОВ И В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНО-ОБРЯДОВЫХ ТРАДИЦИЙ СКИФСКОЙ КУЛЬТУРЫ 25 Настоящая статья была опубликована в сб. Вопросы отечественной истории и археологии. ОАО "Издательско-полиграфическое предприятие им. В.А. Гасиева", Владикавказ, 2013. С. 60 - 83 ИЛЛЮСТРАЦИИ 26 27 28 29