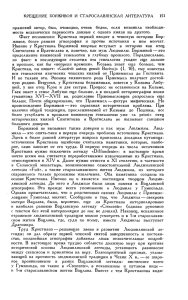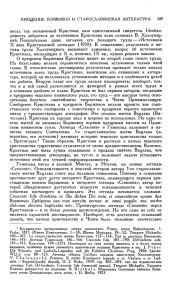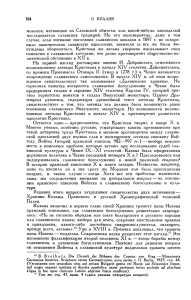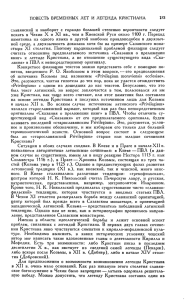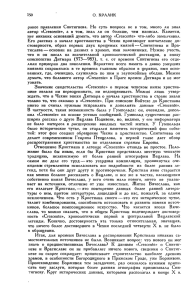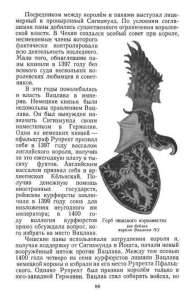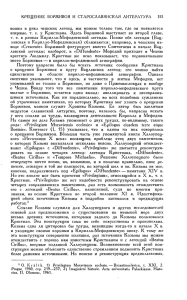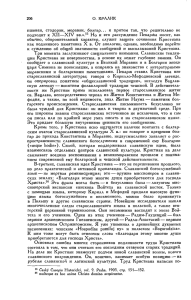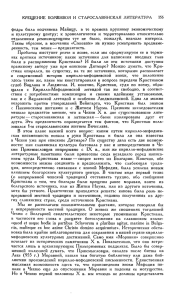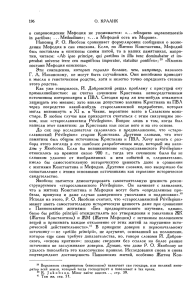applied - Personal pages of the CEU
реклама
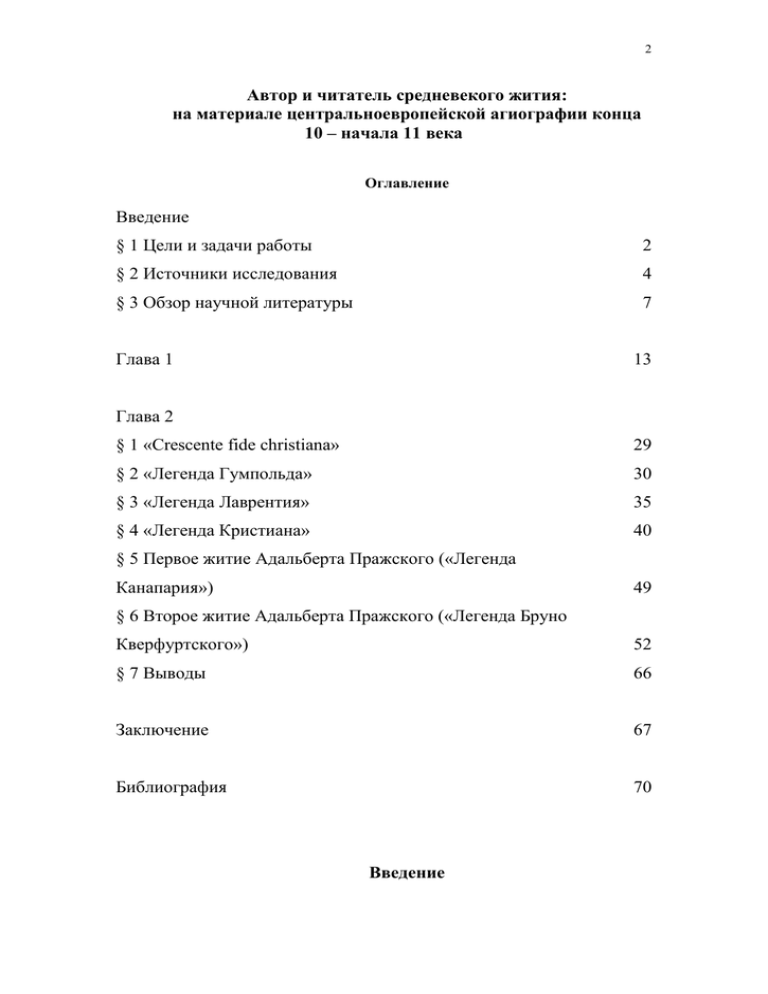
2 Автор и читатель средневекого жития: на материале центральноевропейской агиографии конца 10 – начала 11 века Оглавление Введение § 1 Цели и задачи работы 2 § 2 Источники исследования 4 § 3 Обзор научной литературы 7 Глава 1 13 Глава 2 § 1 «Crescente fide christiana» 29 § 2 «Легенда Гумпольда» 30 § 3 «Легенда Лаврентия» 35 § 4 «Легенда Кристиана» 40 § 5 Первое житие Адальберта Пражского («Легенда Канапария») 49 § 6 Второе житие Адальберта Пражского («Легенда Бруно Кверфуртского») 52 § 7 Выводы 66 Заключение 67 Библиография 70 Введение 3 § 1 Цели и задачи работы Традиция литературоведческого анализа средневековой агиографии насчитывает уже как минимум столетие. Одним из ее основоположников является И. Делье [Delehaye], предложивший первую типологию средневековых житий. С тех пор эта типология уточнялась и дополнялась (см., напр., [Boyer]). Кроме того, активно разрабатывалась система топосов — «общих мест» ― в житиях, в том числе на древнечешском материале (см. [Hošna 1986]). Однако мало кто из исследователей занимался проблематикой, связанной с авторским, индивидуальным началом в текстах легенд, поскольку подчеркивалась в первую очередь компилятивная природа этих произведений. В связи с особенностями существования и распространения средневековых памятников данная характеристика в определенной степени справедлива, однако, разумеется, это не означает, что агиографический текст полностью лишен целостной внутренней структуры или, по крайней мере, элементов такой структуры. История изучения древних памятников в целом складывалась так, что «представление о письменном источнике как о произведении, т.е. цельном тексте, в основе которого лежит некий замысел, так или иначе воплощающийся в каждом фрагменте» [Данилевский, 268] до сих пор встречается не так уж часто. Тем более малоизученной является проблематика авторского начала в средневековой агиографической литературе. Однако трудно не согласиться с Е. Л. Конявской, разрабатывающей схожие вопросы на древнерусском материале: «В широком смысле, авторское самосознание присутствует каждый раз, когда существует субъект, создающий текст, если он действительно создается заново, а не 4 переписывается или воспроизводится» [Конявская, 4–5]. Другую, еще более обобщенную формулировку той же мысли предлагает А. Мацурова: «каждый текст ― как комплексная форма использования языка ― всегда необходимо представляет некий совершенно определенный угол зрения, всегда подает действительность в известной обработке ― и таким образом через себя самого обеспечивает своим имплицитным субъектам [условно говоря, образу автора, присутствующему в тексте. ― Е.Г.] фиксацию в пространстве, во времени и в системе ценностей» [Macurová, 33]. Данная работа посвящена проблемам авторского начала в латинских житиях древнечешской святых, литературе. традиционно В качестве относимых теоретической к базы исследования была выбрана теория нарратологии, поскольку именно в ней проблема автора получает наиболее подробную и глубокую разработку. Однако применение теории, создававшейся на материале литературы XIX–XX веков, к средневековым текстам затруднительно без внесения в нее определенных корректив. Задача моей работы — с одной стороны, предложить ряд таких корректив, а с другой стороны, применить полученную схему к конкретным житийным произведениям. Главная цель работы — показать возможность применения современных литературоведческих методов для анализа проявлений авторского начала в средневековой агиографической литературе. Как отмечает Я. Нехутова, при работе над средневековым латинской латиноязычным текстом медиевистике <...> должен «специалист по использовать методы интерпретации текстов и теории современного литературоведения. Исследователи греческих и латинских текстов классической античности, а также чешскоязычных средневековых памятников <...> уже осознали необходимость современного метода 5 интерпретации литературного произведения, необходимость герменевтического подхода, однако лишь изредка ученые прибегают к нему при изучении латиноязычных литературных произведений эпохи средневековья» [Nechutová 2000, 27]. § 2 Источники исследования Источниками для данного исследования послужили латиноязычные памятники, традиционно относимые в чешской традиции к древнечешской литературе: ранние латинские жития святого Вацлава («Crescente fide christiana», «Легенда Гумпольда», «Легенда Лаврентия», «Легенда Кристиана») и жития святого Войтеха — Адальберта Пражского (т.н. первое и второе жития; автором первого предположительно является Иоанн Канапарий, автором второго — Бруно Кверфуртский). Их объединяет время создания (последняя треть Х — начало ХI века), а также близость если не места создания, то места действия. Как отмечал чешский исследователь О. Кралик, «вацлавские жития, и в первую очередь Эпилог [т.е. «Легенду Кристиана» — Е.Г.] необходимо исследовать вместе с житиями Войтеха» [Králík 1970, 15]. В круг сопоставляемых текстов не входят старославянские жития святого Вацлава: таким образом круг выбранных легенд оказывается ограничен рамками одной, латинской, традиции. Не будет рассматриваться также житие святой Людмилы «Fuit in provincia Boemorum», поскольку оно не содержит материала для проводимого мною анализа. Основой для всей позднейшей вацлавской агиографии считается текст, в литературе обозначаемый по первым словам «Crescente fide christiana» («Когда крепла христианская вера»). По- 6 видимому, эта легенда была создана в Регенсбурге, в монастыре святого Эммерама, примерно в то же время, когда было основано епископство в Праге (973). Существуют две версии этой легенды — так называемые «баварская» и «чешская»; исходной является «баварская», однако считается, что оба эти варианта представляют собой переработки более раннего, не сохранившегося оригинала. Текст жития дошел до нас в рукописях XI и 1-й половины XII века. В данной работе я буду рассматривать «баварскую» версию как более раннюю. Предполагается, что именно «баварский» вариант использовал епископ Мантуи Гумпольд, когда по просьбе императора Священной Римской империи Оттона II (975–985) создавал собственное житие святого Вацлава. «Легенда Гумпольда» сохранилась в рукописи, датируемой примерно 1000 годом. Этот текст значительно обширнее, нежели первый, но исключительно благодаря художественной манере повествователя, а не большему количеству фактического материала. Названные агиографические произведения были использованы автором так называемой «Легенды Кристиана». Она адресована Адальберту (Войтеху) в бытность его пражским епископом, т.е., если доверять тексту, писалась самое позднее в 992–994 годах. Существует 14 рукописей, где представлен полный текст или фрагменты данного произведения. Древнейшая рукопись, содержащая полный текст легенды, датируется 1-й половиной XIV в. К XII веку относят создание нескольких бревиариев, в состав которых входят выдержки из «Легенды Кристиана». Ее сложность и содержательная насыщенность (легенда включает в себя не только описание жизни и посмертных чудес Вацлава и Людмилы, но также рассказывает о ряде эпизодов, имеющих отношение к более древней 7 истории Чехии и Великой Моравии), а также стилистическое совершенство текста привели к тому, что долгое время произведение считалось поздней подделкой, однако в настоящее время исследователи в целом склоняются скорее к ранней датировке данной легенды. Местом создания текста считается или монастырь в Бржевнове (Чехия), основанный Войтехом в 993 году, или все тот же монастырь святого Эммерама в Регенсбурге. В начале ХI века, по-видимому, в монастыре Монте-Кассино, было создано еще одно латинское житие святого Вацлава — так называемая «Легенда Лаврентия». Считается, что ее автор и Лаврентий, архиепископ Амальфи, один из учителей будущего папы Григория VII (годы понтификата 1073–1085) — одно и то же лицо. Произведение написано ритмизованной прозой и содержит стихотворные вставки, в тексте нередко встречаются ссылки на античных авторов. Единственная средневековая рукопись относится к XI или началу XII века. Из всего обширного корпуса агиографических произведений, посвященных Адальберту Пражскому, я буду рассматривать два наиболее ранних. По общему мнению исследователей, первым житием святого Адальберта — Войтеха стала легенда, начинающаяся словами «Est locus in partibus Germaniae», самые ранние рукописи которой датируются второй половиной XI — началом XII века. Наиболее вероятным ее автором считается Иоанн Канапарий, аббат монастыря святых Бонифация и Алексия на Авентине в Риме, где Войтех провел ряд лет в добровольном изгнании после конфликта со своей чешской паствой. Текст данного жития сохранился в трех разных редакциях, ни одна из которых, как считают ученые, не является оригинальной. Однако наиболее ранней, согласно исследованиям польского медиевиста 8 Я. Карвасиньской, следует считать редакцию А (по ее классификации), созданную около 999 года. Эта редакция в настоящее время наиболее исследована, в связи с чем при анализе я буду пользоваться именно ею. Легенда «Еst locus in partibus Germaniae» фигурирует в литературе как «Vita prior», или Первое житие Адальберта Пражского, а также как «Легенда Канапария». Это произведение было использовано при создании Второго жития Адальберта Пражского — «Vita altera», начинающегося словами «Nascitur purpureus flos». Его автор — Бруно из Кверфурта, капеллан при дворе императора Оттона III, учившийся в Магдебурге (как и Войтех), в течение некоторого времени живший в монастыре на Авентине (как и Войтех) и, как и Войтех, принявший мученическую кончину в земле пруссов (1009). Первые имеющиеся рукописи относятся к 1-й половине XII века. Текст сохранился в двух редакциях («Redactio longior» и «Redactio brevior»). Согласно выводам Я. Карвасиньской, Пространная редакция была написана первой — в 1004 году, Краткая же редакция явилась результатом авторской переработки, имевшей место, по-видимому, в 1008 году и так и не оконченной. При анализе я буду пользоваться текстом Пространной редакции. § 3 Обзор научной литературы Научная литература, посвященная вацлавской агиографии и житиям св. Войтеха, весьма обширна. Предметом обсуждения авторов разных работ являются в первую очередь следующие, тесно взаимосвязанные между собой проблемы: 1) датировка «Легенды Кристиана»; 2) вопрос о наличии или отсутствии литургии на славянском языке в Х веке в чешских землях; 3) установление 9 хронологического порядка создания легенд и их протографов, а также выявление взаимозависимостей между ними; 4) авторство легенд; родственные связи между персонажами и авторами легенд. Й. Добровский [Dobrovský], не веря в возможность славянской литургии в Чехии того времени, придерживался мнения, что «Легенда Кристиана» была написана в XIV веке (поскольку в «Легенде Кристиана», помимо прочего, положительно оценивается деятельность Кирилла и Мефодия, в частности, введение богослужения на славянском языке). Только Й. Пекарж [Pekař] в начале ХХ века выдвинул доказательства в пользу подлинности «Легенды Кристиана». На протяжении почти всего ХХ века шла бурная дискуссия по этой проблеме. Исследование В. Халоупецкого [Chaloupecký], ученика Пекаржа, вызвало возражения З. Каландры [Kalandra] и Р. Урбанека [Urbánek], которые продолжали защищать точку зрения Добровского. Р. Урбанек, отрицая подлинность «Легенды Кристиана», тем не менее реконструировал для Х века очень похожий на нее текст. С опровержением главных тезисов этих работ выступил Я. Людвиковский [Ludvíkovský 1951, 1958 и др.], которому принадлежит основная заслуга в том, что «Легенда Кристиана» стала считаться подлинным документом Х века. Cледует также упомянуть работы Р. Вечерки [Večerka 1967, 1976 и др.], опровергнувшего «анахронистичность» некоторых утверждений Кристиана. В поддержку подлинности этого произведения выступал и О. Кралик. Этот ученый активно отстаивал гипотезу о существовании в Х веке в чешских землях славянской письменности и считал, что Войтех активно способствовал ее расцвету. В связи с таким своим тезисом он, в частности, полагал, что Первое житие Иоанна Канапария представляет собой неудачное прозаическое переложение «Стихов о кончине святого Адальберта» (Versus de 10 passione sancti Adalberti = Quattuor immensi), возникших на территории Чехии; таким образом, он датировал это произведение концом Х века [Králík 1969]. Последним, кто настаивал на том, что «Легенда Кристиана» — фальсификация XIV века, был З. Фиала [Fiala], но его аргументация оказалась довольно шаткой и была опровергнута в работах Я. Людвиковского [Ludvíkovský 1978 и др.]. Жития святого Войтеха вызывали менее активную полемику, однако проблемы с их датировкой также возникали. Первое и Второе жития уже первые их издатели — Г. Пертц [Pertz], А. Беловский [Bielowski], Й. Эмлер [FRB I] датировали приблизительно так же, как это принято теперь. М. Углирж [Uhlirz] высказала точку зрения, с которой позднее согласился О. Кралик [Králík 1969], что основой для Первого жития Адальберта Пражского стали «Versus de passione sancti Adalberti». Однако в работах Я. Виликовского [Vilikovský 1929] и в особенности Я. Карвасиньской [Karwasińska 1958] это мнение было окончательно опровергнуто. Говоря о житиях святого Войтеха, нельзя не упомянуть о работах Г. Г. Фойгта, посвященных Адальберту Пражскому и Бруно Кверфуртскому [Voigt 1878, 1907], где содержится не только свод сведений об исторических судьбах этих персонажей, но и ряд ценных замечаний по поводу самих текстов житий. В настоящее время наиболее активно проблемами вацлавской агиографии занимается историк Д. Тршештик. Подведя итоги полемики о датировке «Легенды Кристиана» [Třeštík 1980], он построил собственную концепцию взаимосвязей между ранними житиями Вацлава и Людмилы [Třeštík 2003]. Вопросы атрибуции легенд вызывали острую полемику главным образом применительно к «Легенде Кристиана» и — в 11 меньшей степени — к «Легенде Канапария». Согласно мнению Г. Г. Фойгта [Voigt 1878], автором последнего был брат Войтеха Гауденций (Радим), фигурирующий в тексте в качестве персонажа; согласно А. Колбергу — папа римский Сильвестр II [Kolberg]. Высказывались и другие гипотезы, однако благодаря Я. Карвасиньской [Karwasińska 1962] окончательно возобладала точка зрения, предложенная еще Г. Пертцем [Pertz] и разделявшаяся Р. Голинкой [Holinka]. Разумеется, решение вопроса о том, кем был автор «Легенды Кристиана», зависит от того, в какое время, по мнению исследователя, она возникла; однако если ученый считает, что тексту в этом плане можно доверять, перед ним встает следующая проблема — кем же приходился Войтеху, сыну князя Славника, и Болеславу II Чешскому Кристиан, называющий в прологе Войтеха «дражайшим племянником», а в житии Бруно Кверфуртского именуемый «братом правителя той [чешской - Е.Г.] земли». Этот весьма важный вопрос до сих пор не разрешен (основные точки зрения высказаны в работах Я. Людвиковского [Ludvíkovský 1978] и Д. Тршештика [Třeštík 2003]) и едва ли когданибудь будет разрешен с должной степенью достоверности. Пока продолжались дискуссии о датировке «Легенды Кристиана», ей уделяли внимание главным образом историки и лингвисты. Первым ученым, который подошел к данному произведению (вместе с другими агиографическими текстами о князе Вацлаве) с точки зрения литературоведения, стал И. Гошна. В первой своей монографии [Hošna 1986] он анализирует весь комплекс вацлавских житий до XIV века включительно, стремясь выделить в них агиографические топосы, общие для средневековой европейской агиографии в целом, и сопоставить между собой их разработку в конкретных легендах. Во второй своей книге [Hošna 12 1997] ученый рассматривает образ Вацлава в его житиях, прежде всего ранних. В конце своей рецензии на первую работу И. Гошны Д. Тршештик заявил: «Мы очень нуждаемся в литературоведческом разборе вацлавских легенд» [Třeštík 1988, 247]. По-видимому, воплощением этого «завета» стала написанная с участием самого Тршештика статья Я. Каливоды [Kalivoda], посвященная анализу композиции «Легенды Кристиана». Она во многом является новаторской, однако содержит ряд чисто субъективных оценок, причем исследователь не всегда берет на себя труд попытаться понять замысел автора легенды. «Легенда Кристиана» удостоилась также специальной монографии, автором которой стал датский ученый Г. Колльн [Kølln]. Возвращаясь к проблеме датировки легенды, он относит ее создание к концу Х — началу XI века и усматривает в содержании легенды обоснование претензий чешских князей на земли, ранее входившие в состав Великой Моравии. Кроме того, работа Г. Колльна содержит ряд интересных наблюдений по поводу композиции текста. Можно добавить, что в настоящее время интерес к латинским житиям Вацлава и, в частности, к «Легенде Кристиана» появился и у российских историков. Здесь следует назвать статьи В. М. Живова, Б. Н. Флори [Флоря 1995], а также книгу М. Ю. Парамоновой. В том или ином виде ссылки на ранние жития святых Вацлава и Войтеха присутствуют во всех работах, где рассматриваются как истоки славянской литературы, так и ранняя история славян. Из последних работ на эту тему следует назвать монографию Я. Вуда [Wood 2001], который является между прочим и автором статьи о Первом и Втором житиях Бруно Кверфуртского [Wood 1999]. Среди 13 отечественных исследований необходимо упомянуть обобщающий очерк Б. Н. Флори [Флоря 2002], а также статью В. В. Мочаловой. Глава 1 Одним из почерпнутым, основных как постулатов указывает теории И. П. Ильин в нарратологии, справочнике «Современное зарубежное литературоведение» [СЗЛ], из работ, посвященных рецептивной эстетике, является активная роль читателя ― адресата при создании и восприятии литературного (да и любого) текста. Автор и читатель неразрывно связаны между собой, наличие одного предполагает наличие другого, как отправитель, так и получатель сообщения равно необходимы для осуществления акта коммуникации — это две повествовательные инстанции, которые можно выявить в любом тексте. Согласно нарратологической теории, литературное произведение предполагает наличие как минимум двух (согласно В. Шмиду [Шмид], трех) коммуникативных (или повествовательных) уровней. Это, во-первых, внетекстовый уровень, на котором осуществляется взаимодействие конкретных, реальных автора и читателя; однако данное взаимодействие осуществляется не непосредственно, а через литературное произведение. Во-вторых, это внутритекстовый уровень ― здесь повествователь (вспомним предполагающий имплицитного субъекта текста «угол зрения», о котором говорила А. Мацурова) ведет рассказ, обращаясь к читателю или слушателю, наделенному определенными свойствами, которые позволяют ему этот рассказ воспринять. (О разграничении «абстрактного» и «фиктивного» авторов, вводимого В. Шмидом, речь пойдет ниже.) Кроме того, персонажи литературного произведения могут, 14 разумеется, беседовать между собой, и в этом случае мы получаем новый внутритекстовый коммуникативный уровень; конечно, вставной рассказ от лица героя с собственными действующими лицами может умножить количество этих уровней и, соответственно, повествовательных инстанций (пар «отправитель — получатель сообщения») до бесконечности. При рассмотрении нарратологической концепции соотношения повествовательных инстанций в литературном тексте (повторюсь ― более или менее современном) я буду опираться прежде всего на работу В. Шмида «Нарратология», поскольку данная монография, во-первых, носит обобщающий характер, вовторых, написана фактически основоположником самой этой теории, и, в-третьих, вышла совсем недавно. С учетом поправок, высказанных исследователями к первой предложенной им модели, В. Шмид предлагает следующую модель коммуникативных уровней (см. рис.). Категории конкретного автора и конкретного читателя здесь сами по себе очевидны ― под ними подразумеваются, применительно к интересующему нас материалу, конкретный монах, составлявший житие, и конкретные люди, которые его читали или слушали, как его читают. Абстрактный (имплицитный) автор, согласно И. П. Ильину, ― это «повествовательная инстанция, не воплощенная в художественном тексте в виде персонажа- рассказчика и воссоздаваемая читателем в процессе чтения как подразумеваемый, имплицитный “образ автора”» [СЗЛ, 46]. Согласно В. Шмиду, «это обозначаемое всех индициальных [от лат. indicium ― указание. ― Е.Г.] знаков текста, указывающих на отправителя... Абстрактный автор не является изображаемой инстанцией, намеренным созданием конкретного автора... Нельзя 15 приписать ему ни одного отдельного слова в повествовательном тексте. <...> У него нет своего голоса, своего текста. Его слово ― это весь текст во всех его планах, все произведение в своей сделанности» [Шмид, 53]. Модель коммуникативных уровней [Шмид, с. 40]. Литературное произведение Изображаемый мир Повествуемый мир Цитируемый мир па ка: аа (:) фн: П1: >П2 >фч ач >кч ир Объяснение сокращений и знаков: ка = конкретный автор фч = фиктивный читатель : = создает аа = абстрактный автор ач = абстрактный читатель фн = фиктивный нарратор па = предполагаемый адресат > = направлено к (наррататор) произведения 16 П1, = персонажи П2 Фиктивный эксплицитно и автор ир = идеальный реципиент кч = конкретный читатель (нарратор) имплицитно. может Эксплицитное изображаться изображение подразумевает, что «нарратор может называть свое имя, описывать себя как повествующее “я”, рассказывать историю своей жизни, излагать образ своего мышления... Уже само употребление местоимений и форм глаголов первого лица представляет собой самоизображение, хотя и редуцированное» [Шмид, 66]. Такая самопрезентация, конечно, не является обязательной, в отличие от имплицитного изображения нарратора. Имплицитный нарратор — это, согласно Шмиду, конечный результат взаимодействия шести приемов построения повествования, а именно: «1) Подбор элементов (персонажей, ситуаций, действий, в их числе речей, мыслей и восприятий персонажей)... для создания повествуемой истории. 2) Конкретизация, детализация подбираемых элементов. 3)Композиция повествовательного текста, т.е. составление и расположение подбираемых элементов в определенном порядке. 4) Языковая... презентация подбираемых элементов. 5) Оценка подбираемых элементов... 6) Размышления, комментарии и обобщения нарратора» [Шмид, 66–67]. Проводя разграничение между абстрактным автором и нарратором, Шмид подчеркивает, что разница между ними ― это разница между «реальностью и виртуальностью», реальным сознанием автора и вымышленным им рассказчиком, а также утверждает: «Индексы, указывающие на нарратора, осуществляют 17 замысел автора... Индексы, указывающие на самого автора, являются, как правило, не намеренными, а невольными. Ведь автор обычно не намеревается изображать самого себя, превращать себя в фиктивную фигуру» [Шмид, 77]. Справедливо ли это в отношении текстов рассматриваемого нами периода? Как указывают Р. Шолез и Р. Келлогг (касательно произведений устного творчества), «поскольку между автором и рассказчиком традиционного повествования не существует иронической дистанции, мы не имеем права разграничивать их» [Scholes, 52]. Но «в любом письменном повествовании... присутствует по крайней мере потенциальное, а обычно ― реальное ироническое расхождение между знанием и системой ценностей автора и нарратора» [Там же]. Однако существовало ли подобное ироническое расхождение между системой ценностей реальных монахов — составителей легенд, вся жизнь которых была подчинена ритму богослужений, и представлениями о нравственности и благочестии, отразившимися в их текстах? Бруно из Кверфурта, занимавший видное положение при дворе Оттона III, мечтавший о пути миссионера и в итоге погибший от рук язычников — иронизировал ли он, когда в жизнеописании лично ему знакомого Адальберта, епископа Пражского, принявшего мученическую кончину во время миссии к прусам, обращался к своему герою и учителю: «Ты обрел то, чего всегда искал, претерпев смерть за возлюбленного Христа, блаженной жертвой сделавшись в день, в который Спаситель был распят за тебя и за мир»1? Или же — иронизировал ли Гумпольд, епископ Мантуанский, записывая в пролог к житию святого Вацлава следующие слова: «...мы от такой 1 Habes, quod semper volebas, mori passus pro desiderato Christo, hac die felix victima functus, qua die Salvator pro te et pro mundo crucifixus (Бруно, 38). 18 мудрости и ученого красноречия весьма далеки, однако эти краткие замечания, как бы ни плохо написанные, которые нашему невежеству священным повелением указал составить победоносный император-август Оттон Второй, дабы вслед за ними назвать имя достопамятного мужа и деяний его славное великолепие описать, предшествуют следующему удивительному тексту, ценность которого насколько уменьшена по вине греховности пишущего, настолько же возвышена благородным достоинством святого»2? На этот вопрос не представляется возможным ответить ни положительно, ни отрицательно, поскольку мы не можем брать на себя смелость категорически судить о том, что происходило в сознании людей, живших за много столетий до нас. Однако дихотомия «абстрактный / имплицитный автор ― нарратор» как раз и подразумевает наличие иронической дистанции между двумя этими категориями. Поэтому, чтобы избежать излишней модернизации подхода, в дальнейшем я буду использовать только термин «нарратор», а также слова «рассказчик» и «повествователь», рассматривая их как синонимы. Точно так же мне предстоит отказаться и от последовательно проводимого В. Шмидом разграничения «абстрактного» и «фиктивного» читателя, или наррататора. «Под абстрактным читателем подразумевается здесь содержание того образа получателя, которого (конкретный) автор имел в виду, вернее, содержание того авторского представления о получателе, которое теми или иными индициальными знаками зафиксировано в тексте» [Шмид, 60], в то время как фиктивный читатель ― это «адресат 2 nobis a tanta sapientum ac docta loquacitate admodum seiunctus, brevis tamen seriola subnotacionis, quamvis corrupte prolata, victoriosissimi imperatoris augusti Ottoni secundi sacro jussu rusticitati nostrae imposita, memorabilis viri nomen gestorumque insignes mentiones paulo post declaratura, sequentis praecedat textus raritatem, quem vero quantum attenuat culpa viciose scribentis, tantum exornat sancti excelsa dignitas (Гумпольд, 7). 19 фиктивного нарратора, та инстанция, к которой нарратор обращает свой рассказ» [Шмид, 96]. На отсутствие иронической дистанции между абстрактным / имплицитным читателем и читателем фиктивным указывает П. Зюмтор, правда, в связи с произведениями другого рода: «в средневековом тексте, каким мы его знаем, нет имплицитного читателя... фантастика, которую мы приписываем средневековому роману — это наша фантастика» [Зюмтор, 141]. По аналогии с эксплицитным и имплицитным изображением нарратора, В. Шмид считает нужным говорить об эксплицитном и имплицитном изображении фиктивного читателя [Шмид, 99] ― при этом под имплицитным изображением подразумевается ситуация, когда какие-либо прямые указания на адресата текста отсутствуют, а под эксплицитным, соответственно, любая форма таких указаний ― от местоимений второго лица до подробной характеристики ожидаемого адресата. Однако в рамках инстанции читателя (разумеется, с неменьшим правом можно было бы говорить об инстанции «слушателя», но для удобства я буду использовать привычное обозначение) применительно к средневековым агиографическим текстам существуют две четко разграничиваемые подкатегории. По замечанию П. Зюмтора, средневековый «текст всегда предназначается целому коллективу — а не индивиду и не группе отдельных индивидов» [Зюмтор, 29]. Минимальная характеристика имплицитного «предполагаемого адресата» легенд, «языковые коды, идеологические нормы и эстетические представления которого учитываются для того, чтобы произведение было понято читателем» [Шмид, 61], — христианское вероисповедание. Эксплицитное изображение адресата присутствует далеко не во всех житийных текстах. Наиболее частым элементом такого эксплицитного 20 изображения являются местоимения второго лица (обычно множественного числа) и соответствующие формы глаголов. В связи с указанными особенностями, данную подкатегорию инстанции получателя сообщения я буду называть «коллективным адресатом». Другой тип предполагаемого читателя, который в агиографических произведениях в целом встречается достаточно часто, чтобы присвоить ему отдельное обозначение, я буду именовать «конкретным адресатом». Это то лицо, которому посвящена данная легенда, что сообщается в самом ее тексте — обычно в прологе. Применительно к рассматриваемому материалу, следует вспомнить прежде всего Адальберта Пражского в «Легенде Кристиана»; примерно в то же время создавалась, например, «Vita sancti Eadmundi» Аббона из Флëри, предисловие которой обращено к архиепископу Дунстану (возвращаясь к истокам, замечу, что и евангелие от Луки начинается с обращения к некоему Феофилу [1:1– 4]). Это явление, разумеется, пришло из эпистолярного жанра, однако, в отличие от подлинных писем, перечисленные тексты изначально были предназначены для ознакомления широкому кругу читателей. Как коллективный, так и конкретный адресат жития могут изображаться с большей или меньшей долей подробности. Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что данная модель коммуникативных уровней, предложенная В. Шмидом и развитая им самим и другими исследователями, нацелена в значительной степени на разработку проблематики, связанной с рецепцией, восприятием текста ― здесь позволю себе снова сослаться на И. П. Ильина [СЗЛ, 68]. Эта модель построена как бы «извне» художественного текста. Я же хочу предложить осмысление данной модели «изнутри» текста, т.е. применить здесь субъектный, а не объектный подход, поскольку моей конечной целью, если 21 использовать формулировку Е. Л. Конявской, является анализ авторского самосознания средневековых книжников. К примеру, В. Шмид определяет явление, когда «нарратор обращается к слушателю, которого он представляет активно реагирующим» [Шмид, 106] (примеры ― «Кроткая», вторая часть «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского) как «диалогизированный нарративный монолог» и указывает, что здесь «диалогичность нарратором только инсценируется, она не переходит за пределы его сознания... Поэтому этот квазидиалог, по существу, остается монологом» [Там же]. С точки зрения субъекта текста, уже сам факт обращения к собеседнику значим и достаточен для того, чтобы в данном случае говорить о диалоге, о взаимном воздействии нарратора и адресата. Однако, как подчеркивают, в частности, авторы коллективного труда «Историческая поэтика» [Поэтика], тип художественного сознания в Новое и Новейшее время принципиально отличается от аналогичной категории в Средние века. Прежде чем заниматься анализом конкретных текстов, следует определить эти различия, поскольку «именно художественное сознание, в котором всякий раз отражены историческое содержание той или иной эпохи, ее идеологические потребности литературы действительности, принципов и литературного и представления, определяют творчества в их... отношения совокупность практическом... воплощении» [Поэтика, 3]. По словам К. С. Льюиса, «модель мира наших предков уже содержала в себе смысл ― двоякого рода: она обладала «значимой формой» (имеется в виду ее восхитительный замысел) и представляла собой воплощение мудрости и благости, ее создавших... Окончательное совершенство уже заключалось в ней. Единственная трудность состояла в том, чтобы найти 22 соответствующий этому совершенству ответ» [Lewis, 203–204]. Тот же исследователь указывает на иерархичность средневековой модели мира, на заданность существовавшей в то время системы ценностей: «В историческом, как и в космологическом, плане средневековый человек стоял у подножия лестницы; глядя вверх, он испытывал восторг... Святые смотрели сверху на духовную жизнь каждого...» [Lewis, 185]. Иерархичность средневековой модели мира обусловлена присутствием в ней полюса божественного. Как отмечают Р. Шолез и Р. Келлогг, «Бог являлся автором Библии. Благодаря инспирации Святого Духа земные авторы оказывались простыми писцами». И далее: «Как автор, Бог предпочитал аллегории. Он часто скрывал то, что имел в виду, за историческими событиями, описанными в Ветхом Завете» [Scholes, 122]. «Соответствующий ответ», о котором говорит Льюис, как раз и состоял в том, чтобы раскрыть скрытое значение исторических событий, притом отнюдь не только описанных в Ветхом Завете, ― в данном случае это будут события из жизни святых: «Цель изображения состоит не просто в имитации красоты объекта, но в обнаружении его внутренней красоты, его причастности божественной красоте...» [Petrů, 24]. Как мне представляется, для анализа средневековых коммуникативных житий уровней, следует ввести созданную в модель В. Шмидом, дополнительную «точку отсчета», которая усложняет стройную систему взаимодействия между автором и читателем, достаточную для описания структуры произведений современной литературы. Эта дополнительная категория присутствует на всех повествовательных уровнях (т.е. на уровне конкретного автора, уровне нарратора и уровне героев), определяя, в терминологии нарратологов, «точку зрения» (т.е. «образуемый внешними и внутренними факторами узел 23 условий, влияющих на восприятие и передачу событий») ― как на идеологическом, так и на языковом уровне [Шмид, 121 и слл.], и этой дополнительной категорией в средневековых текстах является Бог. «Художественные произведения... возникали к славе и хвале Божьей, или же как инструмент коммуникации с Богом вплоть до мистического единения с ним» [Pražák, 13]. Что же из этого следует применительно к коммуникативной структуре житий? Наличие единой координационной точки для всех повествовательных уровней нередко приводит к «размыванию границ» между этими уровнями — в первую очередь уровнем героев и уровнем нарратора; во второй главе мы неоднократно столкнемся с такими примерами. Кроме того, в частности, именно с постоянным присутствием Бога в сознании человека, пишущего житие святого, связаны трудности в разграничении абстрактного автора и нарратора текста, да и вообще трудности с вычленением авторского начала в житии. Я не хочу смешивать внетекстовый и внутритекстовые уровни ― хотя «книжная» природа культуры средневековья отмечалась неоднократно, в частности, в тех же работах К. С. Льюиса [Lewis] и Э. Петру [Petrů]. Однако о сознательном противопоставлении человека собственному тексту для средневековья говорить сложно, в то время как в новейшей литературе это наблюдается сплошь и рядом, что, собственно, и сделало необходимым внутреннее деление инстанции автора. На внетекстовом уровне Бог в конечном итоге является причиной событий, ставших основой для сюжета жития, на уровне нарратора (уровень повествуемого мира, согласно модели Шмида) он присутствует в двоякой функции, о которой мы скажем ниже, на сюжетном уровне (уровень изображаемого мира) он также нередко вмешивается в ход событий. В то же время, очевидно, нельзя 24 говорить о каком бы то ни было «ироническом расхождении» между любым из этих проявлений данного полюса. То же самое, повидимому, относится и к полюсу зла — дьявола, который, впрочем, играет менее значительную роль в текстах легенд, поскольку, опятьтаки в конечном итоге, дьявол не является творцом их сюжета. Поскольку Бог и святые присутствовали в сознании средневекового человека как данность, постольку диалог с ними воспринимался как не менее реальный, чем диалог с окружающими людьми. Именно в этом смысле я считаю возможным говорить о дополнительной, третьей повествовательной инстанции — чтобы чуть-чуть снизить количество естественно возникающих ассоциаций, назовем ее «высшим полюсом». Притом мы имеем дело с подлинным диалогом — «высший полюс» может выступать как в качестве «отправителя сообщения», так и в качестве его «получателя». Первую функцию он исполняет хотя бы потому, что любой святой становится святым и, следовательно, молитвенным заступником тех, кто страдает и поныне в «юдоли скорби», только благодаря водительству высшего начала. Составление жития фактически представляет собой расшифровку способов, какими в судьбе данного человека проявился божественный промысел. Для раскрытия этих проявлений естественно обратиться за помощью к самой их причине, что мы и наблюдаем во многих агиографических текстах, где нарратор просит поддержки в своем труде у Бога. Так, в «Легенде Лаврентия» мы находим следующую мольбу автора: «Христе, спасение людей... Изгони, молю, прочь призраки из нашего сердца, / дай увидеть свет, от которого уходят беспутные заблуждения, / поскольку деяния великого мученика, / что 25 почитания достойны в веках, восславить мы замышляем. Аминь»3. Итак, Бог читает агиографический текст — впрочем, не обязательно агиографический: «создаваемый летописцем перечень деяний людей и их моральных оценок, видимо, в первую очередь предназначался для Того, Кому в конце концов должны были попасть летописные тексты... Этого потенциального Читателя летописец ни при каких условиях не мог игнорировать при составлении летописного известия. Ему же лгать нельзя (курсив автора. ― Е.Г.)» [Данилевский, 266]. Согласно несколько полемически заостренному высказыванию того же исследователя, «возможно, подобные рассуждения могут показаться современному человеку наивными. Но еще наивнее полагать, будто основные ценностные ориентиры и психологические механизмы поведения человека не претерпели за последние 300–600 лет никаких изменений» [Данилевский, 257] — в нашем случае речь идет о более длительном сроке. По замечанию современного чешского медиевиста, «средневековая легенда представляет собой ярчайший пример того, как литература опирается на христианские основы жизни и культуры данного периода» [Nechutová 2000, 36]. Если применительно к инстанциям нарратора и адресата можно различать их эксплицитное и имплицитное изображение, логично предположить, что то же деление должно действовать и в отношении инстанции божественного. Действительно, такое деление провести достаточно просто. Эксплицитное изображение подразумевает как минимум употребление соответствующего имени и местоимений при обращении — как в процитированном выше 3 Oremus itaque eum, dicentes: / Christe salus hominum... / Pelle procul nostri quaeso fantasmata cordis, / Martyrii eximii falerato quatinus acta / Famine pangamus cunctis reverenda per aevum. Amen. (Лаврентий, 168). 26 фрагменте из «Легенды Лаврентия». Кроме того, как эксплицитное изображение надлежит рассматривать прямые цитаты из Священного Писания (см. выше — «Бог являлся автором Библии» [Scholes, 122]), то есть случаи, когда нарратор ссылается на цитируемый источник. Наконец, следует отметить, что в качестве «высшего полюса», к которому нарратор (или его персонажи) обращается с молитвой, не обязательно выступает первое или второе лицо Троицы. Это может быть Мария, а также другие святые, которые зачастую фигурируют под общим наименованием «все святые и ангелы», но нередко в тексте звучит обращение к конкретному святому — обычно к центральному герою данного жития, но, возможно, и к кому-то другому. Думается, что как имплицитное изображение «высшего полюса» следует трактовать скрытые цитаты из Библии. Тот факт, что скрытые библейские цитаты, библейские образы, мотивы и лексика широко присутствуют в житийных текстах, является общеизвестным и не требует дополнительных доказательств. Итак, в тексте средневекового жития, в отличие от современного литературного произведения, сосуществуют три повествовательные инстанции. Однако в акте коммуникации одновременно могут участвовать только две, а не три стороны. Это в ряде случаев приводит к любопытному «совмещению» двух инстанций. Так, нередко в агиографических произведениях встречаются молитвенные обращения к Богу или святому от «мы», от лица коллективного адресата легенды4. К примеру, в конце жития Вацлава «Crescente fide christiana» помещена молитва этому Здесь можно возразить, что нарратор просто иногда именует сам себя во множественном числе. Зачастую это так и есть. Однако, с одной стороны, в нижеследующем примере замена «мы» на «я» очевидно противоречит духу христианской традиции; с другой стороны, в некоторых случаях в тексте «я» со всей отчетливостью оказывается противопоставлено «мы», подтверждения чему будут даны во второй главе. 4 27 святому: «Потому молим тебя, о блаженнейший властитель Вацлав ... чтобы ты ныне за бесчисленные наши пороки был у милостивого Отца надежным заступником, чтобы Он нас по твоей благочестивой молитве сохранил в мире в веке нынешнем и соизволил укреплять неустанно в священном служении Ему...»5. Как мне представляется, совмещение инстанций нарратора и «высшего полюса» также возможно; выделение таких случаев требует работы с имплицитным изображением третьей инстанции. Впрочем, третий участник коммуникативной ситуации агиографического текста может, естественно, оказаться и за пределами конкретного коммуникативного акта. Проще говоря, нарратор может обращаться либо сам, напрямую, к «высшему полюсу», либо столь же непосредственно ― к адресату. Как же взаимодействия в конечном счете повествовательных соотносится инстанций с проблема проблемой авторского начала в легенде? Центральной для коммуникативной структуры текста является, разумеется, инстанция отправителя сообщения. Как указывает В. Шмид, «изображение наррататора надстраивается над изображением нарратора, потому что первый является атрибутом последнего, подобно тому как абстрактный читатель входит в совокупность свойств абстрактного автора» [Шмид, 100]. Точно так же и «третья повествовательная инстанция», конечно, не является внешней по отношению к тексту. Она также фактически «входит в совокупность свойств» нарратора. Итак, исследование авторского самосознания (пользуясь формулировкой Е. Л. Конявской) включает в себя анализ не только способов 5 Proinde obsecramus te, o beatissime domine Vendezlave... ita nunc pro innumeris nostris iniquitatibus apud eundem clementem patrem sis idoneus interventor, qui nos tua pia oratione placatus in praesenti saeculo custodire, et indesinenter confortare in suo sancto servitio dignetur... (Crescente, 190) 28 изображения нарратора, но и способов представления инстанции адресата и инстанции Божественного, а также взаимоотношений между ними. Наиболее простой метод такого анализа — рассмотрение случаев эксплицитного изображения нарратора, а также эксплицитного изображения двух других повествовательных инстанций, в первую очередь тогда, когда они напрямую соотнесены с нарратором. Этим методом я и буду пользоваться в данной работе. Тем не менее, прежде чем перейти собственно к разбору конкретных произведений, необходимо сказать несколько слов по поводу коммуникативных структур сюжетного уровня. «Повествовательный текст слагается из двух текстов, текста нарратора и текста персонажа» [Шмид, 195]. Таким образом, в литературном произведении текст нарратора пусть не противопоставлен, но принципиально отличен от текста персонажа. Поэтому, несмотря на то, что, «подбирая слова персонажа, нарратор пользуется чужим текстом в своих повествовательных целях» [Шмид, 198], речь героев как таковая рассматриваться мною не будет — поскольку, как только что говорилось, исследование авторского начала в литературном произведении прежде всего подразумевает рассмотрение инстанции нарратора, принадлежащей первому внутритекстовому уровню ― уровню повествуемого мира. Итак, при анализе конкретных легенд я собираюсь выявить, каковы взаимоотношения между нарратором и двумя зависимыми от него участниками коммуникативной ситуации: коллективным адресатом и «высшим полюсом» — или, иными словами, как мыслит автор жития свои отношения с предполагаемыми читателями и Богом. 29 Глава 2 § 1 «Crescente fide christiana» Нарратор конкретизирован, в этом не житии святого изображен Вацлава эксплицитно, почти не пользуясь формулировкой В. Шмида. Местоимения и глаголы в форме первого лица встречаются редко. На весь текст легенды, кроме финала, приходятся три случая их появления: 1) «из многих его пророчеств одно отмечу»6; 2) «через посредничество его многие совершаются чудеса и по сей день. Из них, бесспорно, хотя бы о некоторых нам сказать следует»7; 3) «что же для нас из этого явствует, если не то, что сила Бога всемогущего перенесла ее [т.е. повозку с телом Вацлава через разлившуюся реку]?»8. Заметим, что во всех случаях появление «я» сопровождает рассказ о связанных с благочестивым князем чудесах, которые должны доказать его святость и силу его заступничества всем христианам и каждому из них в отдельности; «я» рассказчика здесь — это «я» конкретного человека, уже уверившегося в величии Вацлава, что добавляет убедительности его сообщению. Коллективный адресат легенды как таковой не изображен эксплицитно. Однако в конце произведения нарратор позволяет себе заговорить от первого лица ― но не от единственного, а от множественного числа не только формально, но и по сути. После описания всех чудес, совершившихся благодаря Вацлаву, повествователь обращается к святому от лица всех христиан с молитвой, фрагмент из которой был процитирован выше: «Потому 6 in aliis eius multis vaticiniis unam rem innotesco (Crescente, 184). per intercessione eius multa operantur mirabilia usque in praesentem diem. De quibus nimirum loqui nobis aliquid oportet (Crescente, 188). 7 30 молим тебя, о блаженнейший властитель Вацлав, чтобы, как Господь по твоей святейшей молитве многих людей из заточения и оков освободил ― чтобы так и ныне ты за бесчисленные наши пороки был у милостивого Отца надежным заступником, чтобы Он нас по твоей благочестивой молитве сохранил в мире в веке нынешнем... и нас не вводил в искушение, но дал нам жизнь мирную»9. Строго говоря, перед нами ситуация «наложения» повествовательных инстанций — совмещаются инстанции нарратора и адресата, который при этом теряет свою функцию. Получателем сообщения оказывается «высший полюс», и его роль в этой легенде выполняет Вацлав. Контакт с Богом осуществляется через него. Итак, в легенде «Crescente fide christiana» отсутствует какаялибо конкретизация как нарратора, так и адресата; рассказчик почти полностью устраняется из повествования; в конце легенды он исполняет роль посредника, несущего мольбы читателей к «высшему полюсу», посредником которого, в свою очередь, выступает Вацлав. § 2 «Легенда Гумпольда» Во всем тексте этого произведения мы не встретим ни одного местоимения второго лица, ни одного непосредственного обращения ни к читателю, ни к «высшему полюсу». Такой характер взаимоотношений между нарратором и адресатом задан уже в первой фразе пролога к легенде, где говорится о многообразии quid nobis de hoc animadvertendum est, nisi quod virtus omnipotentis dei transportavit illud (Там же). 9 Proinde obsecramus te, o beatissime domine Vendezlave, ut sicut plurimos nuper per tuam sanctissimam orationem de carcere et de vinculis homines dominus liberavit, ita nunc pro innumeris nostris iniquitatibus apud eundem clementem patrem sis idoneus interventor, qui nos tua pia oratione placatus in praesenti saeculo custodire... et non inducat in tempacionem, sed det nobis tranquillam vitam (Crescente, 190). 8 31 интеллектуальных занятий, которым посвящает себя «этот род (поколение?), превосходный разумом»10. Но местоимения первого лица встречаются, по сравнению с «Crescente fide christiana», не так уж и редко. В прологе сперва пространно описаны различные научные занятия (как-то — риторика, астрономия, диалектика, филология), способные отвлекать от размышлений о деяниях святых, а затем высказан укор тем, кто, «излишне пристрастившись к писаниям язычников, не только на второй план отодвигают то, о чем для Божьей славы следовало бы говорить и сообщить, записав, потомкам, ― но и то божественное, что уму верному является как приятнейшее, простое и без запутанных сложностей, в глубине души, словно что-то бесполезное, отвергают»11. Естественно видеть здесь назидание, пусть даже адресат его и не назван впрямую. Обратим внимание, что записывать свидетельства Божьей славы надлежит для потомков ― о возможных читателях-современниках речь не идет. Но назидание — не единственная функция данного пассажа, он служит также и для самоопределения нарратора.. Нарратор противопоставляет себя этим образованным, но пренебрегающим духовными проблемами людям, заявив: «...мы от такой мудрости и ученого красноречия весьма далеки»12, и готовится перейти собственно к тексту легенды, «ценность которого насколько уменьшена по вине греховности пишущего, настолько же повышена благородным достоинством святого, материал [для нас] указавшего в святом образце деяний»13. Суть пролога — топос аффектированной id genus racione prestantissimum (Гумпольд, 2). ardentius inhaerendo gentilium scriptis, non tantum quid in sacris gestis laudi divinae proferendum ac litterarum indiciis in posteros divulgandum postposuerint, verum quicquid divinum ac menti devotae mitissimum simpliciter ac sine difficultatis perplexione videtur, penitus id quasi utilitate carens abiecerint (Гумпольд, 6). 12 nobis a tanta sapientum ac docta loquacitate admodum seiunctus (Гумпольд, 7). 13 quem vero quantum attenuat culpa viciose scribentis, tantum exornat sancti excelsa dignitas, materiae causam operum sacra auctoritate designantis (Там же). 10 11 32 скромности [Curtius, 83] автора: многие развили в себе бóльшие таланты, нежели я, но они не применяют свои способности, чтобы описать проявления Божественного величия в назидание потомкам, что оправдывает мой недостойный труд на этом поприще. В том же самоуничижительном контексте глагол в форме первого лица появляется далее: «мы приступаем к описанию этим своим простеньким слогом»14 области, населенной славянами. Весь этот пассаж явно адресован коллективному адресату текста, несмотря на то, что рассказчик здесь противопоставляет себя возможным читателям. В легендах, где имеется пролог, нарратор в нем обычно устанавливает отношения с обоими инстанциями — как с инстанцией адресата, так и с инстанцией Божественного. Действительно, «высший полюс» явно присутствует в легенде — хотя бы как «божественное, что уму верному является как приятнейшее, простое и без запутанных сложностей» и оказывается отвергнуто некоторыми чересчур учеными людьми. Но отношения между нарратором и «высшим полюсом» отнюдь не диалогичны. Вацлав для нарратора «материал указал в святом образце своих деяний». Кроме того, «мы узнали о ростках спасительной веры, с которых первое укрепление церкви начиналось, поскольку прежних богословов благотворное мастерство благодаря обширным штудиям текстов все это осветило, в книгах запечатлев и полному веры потомству точно передав»15 ― информация дошла до нарратора не напрямую от Бога, а через посредство «прежних богословов». Так или иначе, инстанция божественного для Гумпольда — не 14 stili simplicitate praesentis exprimendam... aggredimur (Гумпольд, 9). quia fidei salubris incrementa, quo primum roboris sumpsissent exordium aecclesiastici, priore theologorum sollertia salutarium studiis textuum latius coruscante, libris inscriptum ac credulae posteritati certius praesignatum satis constare pernovimus (Гумпольд, 8–9). 15 33 непосредственный вдохновитель и собеседник, а источник и причина событий и фактов, легших в основу его собственного текста и ряда других произведений, в определенном смысле автор сюжета, и только в этом качестве он выступает как источник информации, отправитель сообщения для нарратора. Непосредственный диалог отсутствует. Первое лицо появляется в тексте еще в двух местах, и оба раза его употребление предваряет рассказ о чудесах святого. Сперва оно возникает на том же месте, что и в «Crescente fide christiana», а именно перед повествованием о пророческом видении Вацлава: «Мы, однако, не считаем полезным скрывать от радушного рвения любителей истины, что, [как мы узнали] из достоверного известия некоторых людей... он о будущих вещах ясные пророчества... произносил»16. И далее ― об одном из этих пророчеств «не умолчит пишущего смиренное благоговение»17. Здесь мы узнаем, кто же коллективный адресат легенды: это «любители истины» — но нарратор, опять-таки, не обращается к ним напрямую, а говорит о них в третьем лице. Кроме того, сообщив дату перенесения мощей святого, нарратор замечает: «Достойным представляется, чтобы в наш рассказ между прочим было вставлено заботливое упоминание о деяниях, которые божественное правосудие ради заслуг его [Вацлава], дабы в мире просияла слава его, соизволило совершить»18. В отличие от соответствующих мест в «Сrescente fide christiana», эти слова нельзя при всем желании интерпретировать так, что нарратор собственным примером убеждает в чем-то 16 Non latere autem benignam veri amatorum intentionem utile ducimus, quoniam honesta quorundam relatione, futurorum certa praesagia... praescisse... (experti sumus) (Гумпольд, 29–30). 17 scribentis non reticet humilima devotio (Гумпольд, 30). 18 De virtutibus autem, quae pietas divina, per meritorum eius orbi clarescentem gloriam post dignata est operari, sermonis nostri transcursu curiosa interseratur mentio, condignum videtur (Гумпольд, 64). 34 читателей или слушателей жития; нет здесь также и обращения к Богу. Перед нами то же самое явление: послание от «высшего полюса» заключено в определенных событиях, дело рассказчика ― раскрыть то, что уже дано, зафиксировано; речь повествователя обращена к читателям. Можно, по-видимому, говорить о наличии в легенде конкретного адресата. Неуверенность в данном случае вызвана все тем же отсутствием прямого к нему обращения; однако заказчик назван — это «победоносный император-август Оттон Второй»19. Он фигурирует в тексте исключительно как тот, кто «нашему невежеству священным повелением указал составить» данное житие, являясь инициатором повествования, но не собеседником повествователя. Рассказ о том, как Вацлав со слугой сами делали вино и пекли облатки для причастия, завершается тремя восклицаниями: «О несокрушимые узы нерушимой веры вокруг непорочнейшей груди! О достохвальное послушание преданнейшего последователя! О удивительное смирение правителя, по велению любви к божественному не стыдящееся совершать служение рабов!»20. Но это обращения не к Вацлаву, а к его качествам. Мы сталкиваемся здесь не с фактом коммуникации между нарратором и «высшим полюсом», а с риторической фигурой. Итак, нарратор в «Легенде Гумпольда» не вступает в диалог ни с одной из двух других инстанций; его функция ― «расшифровка» и запись того, каким образом божественный промысел (весть от «высшего полюса») оказался зафиксирован в тех 19 victoriosissimi imperatoris augusti Ottoni secundi (Гумпольд, 7). O indissolubile circa pectus castissimum fidei inviolabilis vinculum! O laudabilis obedientie sectatorem devotissimum! O principis miram humilitatem, servulorum officia divini amoris instinctu subire non pudentem! (Гумпольд, 28). 20 35 или иных событиях; толчок для этой работы ему был дан Оттоном II; рассказчик трудится таким образом скорее «для потомков», нежели для своих современников — вероятно, именно поэтому он никогда не обращается к адресату напрямую. § 3 «Легенда Лаврентия» Начало пролога к данной легенде звучит следующим образом: «Господь и Спаситель наш... молвил: “Отец Мой доныне делает, и Я делаю”... Ибо всемогущему Богу, как мы узнаем из проверенных отцами положений, не подобают ни прошедшее, ни будущее время, но только настоящее»21. Очевидно, здесь налицо эксплицитное изображение «высшего полюса». Однако к кому относится «мы»? Можно предположить, что тут мы сталкиваемся с совмещением инстанции нарратора и коллективного адресата жития; но можно допустить также, хотя с некоторой натяжкой, что это просто рассказчик называет себя во множественном числе. Однако дальше мы окончательно убеждаемся в правильности первого предположения: «Мы ежедневно можем видеть, как это небесное обещание, то есть “и Я делаю”, осуществляется в действительности, то есть в работе всего мирового механизма, но как-то сильнее это подтверждает мученический венец блаженного Вацлава, который недавно среди зимних снегов северной земли, словно новый Титан, явился»22. Итак, в начале пролога «высший полюс» непосредственно обращается (благодаря цитате) к адресату легенды, с которым Dominus ac redemptor noster... intonuisse..: Pater meus usque modo operatur, et ego operor [Ин 5:17]... Omnipotenti quippe deo, ut sedulis patrum erudimur dogmatibus, nec preteritum nec futurum proprie tempus aptatur, sed tantummodo presens (Лаврентий, 167). 22 Hanc igitur coelicam pollicitationem, videlicet Et ego operor, licet cotidianis cernamus in factis impleri, gubernatione scilicet totius mundanae machinae, martyrialis tamen eam beati Vuenzeslai laurea robustius quodam modo asserit, qui nuper brumabilis septemrionalis axis nivibus quasi novus eminens Titan (Там же). 21 36 отождествляет себя и повествователь. Однако вслед за этим коллективный адресат конкретизируется, и «мы» становится не обобщенной категорией, а обозначением повествователя: «Итак, за описание событий его мученичества мы, хоть неспособные, но некоторыми побужденные, взялись, чтобы такого блеска человеческого, среди своих широко просиявшего, латинянин, алчущий правды, не лишился»23. Охарактеризовав своего читателя и цель собственного труда, рассказчик выслушивает наказ «высшего полюса»: «И хотя мы недостаточно приобщились к свободным искусствам, чтобы наш рассказ избежал сухости, но нас некоторым образом вдохновляют обещания всемогущего, сказавшего: “Открой уста свои, и я наполню их”»24. Затем нарратор сам обращается к Богу: «Потому мы молимся Ему, говоря: “Христос, спасение людей... Изгони, молю, прочь призраки из нашего сердца, / дай увидеть свет, от которого уходят беспутные заблуждения, / поскольку деяния великого мученика, / что почитания достойны в веках, восславить мы замышляем. Аминь”»25. После обращения к «высшему полюсу» следует обращение к коллективному адресату: «Тем временем всех, кто станет читать это, настоятельно просим, чтобы, удаляясь порока недоброжелательства, любезно исправили то, что сочтут достойным осуждения»26 — употребляя данный топос, рассказчик одновременно как бы устанавливает с читателями «обратную связь». Далее он еще раз 23 Huius itaque scribendae passioni operam dare inertes licet, a quibusdam tamen compulsi, idcirco studuimus, quatinus tanti claritas hominis apud suos oppido fulgens Latio veritatis cupido no deesset (Лаврентий, 168). 24 Et licet nos apprime liberalium unda minus attigerit literarum, quibus nostri plectri fugaretur ariditas. omnipotentis tamen promissa nos quodammodo animarunt dicentis: Aperi os tuum, et ego adimplebo illud [Пс 80:11] (Там же). 25 Oremus itaque eum, dicentes: / Christe salus hominum... / Pelle procul nostri quaeso fantasmata cordis, / Martyrii eximii falerato quatinus acta / Famine pangamus cunctis reverenda per aevum. Amen (Там же). 26 Interea lecturos haec quosque cernuo praecamine flagitamus, quo livore semoto invidiae dignanter corrigant, quae reprobanda cognoverint (Там же). 37 конкретизирует своего адресата: «Пусть также знают, что мы не вообще для всех, но специально для тех, кто настоятельно просил об этом, в качестве назидания записали то, что мы узнали из правдивого известия»27. Итак, «Легенда Лаврентия», согласно установке нарратора, адресована латинянам, ищущим истины, а точнее, тем из них, кто просил Лаврентия рассказать о житии и чудесах иноземного святого Вацлава. Кажется даже, что в данном случае термин «коллективный адресат» не вполне точен. Вторично рассказчик отождествляет себя с читателями, когда сообщает об убийстве святого правителя: «И потому, как мы верим, он короной мученичества украшен и, сопровождаемый бесчисленным сонмом блаженных мучеников, заслужил вступления в звездный чертог. Поистине, кто из верных усомнится, что этот блаженный коронован мученическим венком, когда он за истину, которая есть Христос, с готовностью принял смертные терзания?»28. Если даже допустить, что «мы» в первой фразе относится только к рассказчику, то обращение к читателям — «верным», тем не менее, присутствует уже в следующем предложении. Причина такого отождествления очевидна: перед величием этого шага все простые смертные могут лишь преклониться, и здесь не приходится разбирать, кто узнал о данном событии первым. Однако нарратор в «Легенде Лаврентия» вступает в диалог не только с «высшим полюсом» и адресатом, но и с собственным персонажем — а именно Болеславом, убийцей Вацлава. Повествователь ищет ответа, зачем тот отважился на свое 27 Nos quoque noverint non generaliter cunctis sed specialiter quibusdam devotius postulantibus in modum commonitorii, quae veraci relatione comperimus, exarasse (Лаврентий, 169). 28 Et ideo martyrii, ut credimus, diademate comptus, comitante se innumero beatorum cuneo martyrum, in astrigerum meruit subire palatium. Quis etenim fidelium ambigat, quin iste beatissimus martyriali sit laurea coronatus, cum pro veritate, quae utique Christus est, passionem susceperit libentissime? (Лаврентий, 178). 38 преступление: «Может быть, чтобы, овладев царством, ты выше всех поднялся, тогда как ты подчинен стольким господам, скольким болезням пороков подвергаешься? Согласно евангелию: “Всякий, делающий грех, есть раб греха”»29. Рассказчик как бы приводит ответ своего героя и тут же дает цитату из Священного Писания ― чтобы показать ложность мотивов Болеслава, он сталкивает два «прямых» высказывания. Зачем нарратору понадобилось разрушать повествовательную структуру текста, зачем он решается вступить в прямую коммуникацию с персонажем, принадлежащим другому внутритекстовому уровню? Очевидно, затем, чтобы подчеркнуть, насколько огромно преступление братоубийцы ― в словах рассказчика явно содержится назидание. Такая вина не может быть рассмотрена только на уровне сюжета. С одной стороны, читатели не должны воспринять ее как нечто далекое, они обязаны ужаснуться этому греху вместе с автором. С другой стороны, Бог должен произнести приговор над преступлением впрямую. В рассказе о посмертных чудесах Вацлава эксплицитное присутствие нарратора исполняет ту же роль, что и в «Crescente fide christiana». Повествование становится значительно более индивидуализированным: когда останки мученика перевозили в Прагу, «необыкновенное, весьма поразительное по нашим временам чудо произошло, и мы верим, что случилось оно не без воли всемогущего Бога, создателя всех вещей... Ибо, как мы благодаря известию некоего достойного веры уроженца упомянутого прежде королевства славянского узнали»30, по дороге повозка неожиданно 29 Forsitan ut regio potiens apice omnibus esses praelatus, cum utique tot videaris esse subditus dominis, quot vitiorum pestibus es subiectus. Juxta illud evangelicum: omnis, qui facit peccatum, servus est peccati [Ин 8:34] (Лаврентий, 176). 30 mirum in modum nostrisque temporibus nimis stupendum miraculum accidit, quod non sine omnipotentis dei rerum omnium optificis nutu... accidisse credimus. Nam sicut nobis relatu cuiusdam fidelissimi praephati regni Sclavorum indigenae compertum est... (Лаврентий, с. 179). 39 стала настолько тяжелой, что ни кони, ни припряженные к ним волы не смогли сдвинуть ее с места, но после общей молитвы всего духовенства и народа она стала даже легче, чем раньше. Ответ на вопрос, кто является здесь адресатом повествования, как будто не вызывает сложностей — это весь коллектив читателей. Последний раз рассказчик выступает на первый план в заключении: «Мы же скорее убогостью стиля, нежели скудостью материала вынуждены отказаться продолжать речь... Поистине, не настолько мы тупоумны, чтобы, согласно речению некоего мудреца, не знать, что мы ничего не знаем. До сих пор написано во славу и хвалу вечную»31. Нарратор как бы смотрит на себя со стороны, притом со стороны своего адресата, — и дело не только в том, что он оценивает собственный стиль (разумеется, это все тот же топос аффектированной скромности), но он также применяет к себе «речение некоего мудреца». Коллективный адресат, ищущий истины, и истины именно о судьбе Вацлава, слишком четко определен; повествователь опасается не удовлетворить его ожиданий. Итак, в «Легенде Лаврентия» нарратор активен, он вступает в диалог как с коллективным адресатом, так и с преступным героем, а также напрямую обращается к «высшему полюсу»; коллективный адресат довольно сильно конкретизирован — это латиняне, причем те из них, которые сами желали узнать о жизни Вацлава. Таким образом, рассказчик не наставляет своих читателей, а как бы исполняет их требование, ведет повествование в ответ на просьбу о 31 Nos igitur stili inopia magis quam materiae sterilitate coacti sermonem longius ducere recusamus... Non etenim tantae sumus hebetudinis, ut iuxta illud cuiusdam sapientis eulogium nesciamus, quod nescimus. Haec porro scripta sunt ad laudem utique perpesque decus (Лаврентий, с. 182). 40 нем — но в какой-то момент чувствует себя не в силах исполнить эту просьбу надлежащим образом. § 4 «Легенда Кристиана» Теперь рассмотрим агиографической традиции текст, по ряду в рамках причин вацлавской пользующийся наибольшей известностью, — «Житие и страсти святого Вацлава и святой Людмилы, его бабки», или «Легенду Кристиана». В первом же предложении этого текста названы как повествователь, так и конкретный адресат легенды: «Господину и трижды блаженному второму епископу святой церкви Божьей в Праге Адальберту смиреннейший и даже звания последнего из всех монахов недостойный брат, только именем Кристиан (= христианин), во Христе Иисусе желает успешного исполнения всех его молитв»32. Ни в одном другом разбираемом нами житии эти субъекты текста не конкретизированы до такой степени. Назвав конкретного адресата, нарратор устанавливает с ним своего рода «обратную связь», указав на то, что создание легенды санкционировано его волей: «я счел нужным к вашей святости... обратиться, чтобы, по вашему велению, равно как с вашим соизволением его [рассказ о гибели Вацлава и Людмилы] некоторым образом исправить»33. Только после «беседы» с конкретным адресатом рассказчик устанавливает связь с «высшим полюсом»: «Но поскольку глупость наша и леность беспредельны... на поддержку самих этих святых 32 Domino et ter beato sancte ecclesie dei Pragensis secundo pontifici Adalberto humillimus et omnium monachorum nec dicendus infimus frater, solo nomine Christianus, in Christo Iesu prosperis successibus ad vota pollere (Кристиан, 88). 33 dignum duxi, ut vestram sanctitatem... adirem, quo ex iussione vestra simul et licencia aliquo modo eam corrigerem (Там же). 41 надеясь, начну описывать, как все происходило»34. Обратим внимание, что «сами эти святые» названы в третьем лице — повествователь не смеет обращаться к ним прямо, разве что, как мы видим чуть далее в прологе, через посредство конкретного адресата: «Ныне молю вас, прославленный епископ и дражайший племянник, чтобы, поскольку вы меня, недостойного, начать этот труд побудили, то помогите молитвами к общему покровителю, чтобы он... нас снисхождения ко грехам нашим удостоил»35. Далее рассказчик прямо указывает, что рассчитывает на поддержку обоих инстанций: «... к раскрытию деяний их приступаем, как заслугами блаженного мученика, так молитвами вашими поддерживаемые, с помощью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа»36. Нетрудно заметить, что нарратор, говоря о себе, использует местоимения и глаголы первого лица как в единственном, так и во множественном числе, причем без очевидной закономерности; однако, обращаясь к конкретному адресату, в прологе он использует исключительно местоимения и глаголы второго лица множественного числа — в отличие от второго появления Адальберта в легенде, о чем будет сказано ниже. В ряде случаев применительно к «Легенде Кристиана» можно говорить о том, что повествователь выступает от лица читателей. Так, в прологе он заявляет, что «в землях Лотарингов или Каролингов» святые, о которых он собирается начать рассказ, давно уже пользовались бы огромным почитанием, «но мы ими пренебрегаем, и хотя, признаюсь, только их после Бога имеем, как34 Sed quia inepcie nostre simul et pigricie maxime sunt... ex adiuvamine ipsorum sanctorum confidens, ut se res habeat, aggrediar exarare stilo (Кристиан, 88). 35 Nunc vos deprecor, pontifex inclite et nepos carissime, ut qui me inmeritum hoc opus subire fecistis, precibus aput communem patronum iuvetis... nobis saltem veniam criminum impetrare dignetur (Кристиан, 89). 36 ad gesta eadem propalanda accingamur, tam meritis beati martyris quam precibus vestris suffulti, auxiliante domino nostro et salvatore Iesu Christo (Там же). 42 то недостойно ведем себя, и, пусть изо дня в день их добродетели видим, мы, недостойные, словно бы неверующими остаемся»37. Очевидно, что это — не просто констатация факта, а назидание коллективному адресату легенды (который, кстати, оказывается таким образом конкретизирован — во всяком случае, обитатели земель Лотарингов или Каролингов из рамок этого понятия исключены). Однако назидание, как и любое сообщение, подразумевает наличие двоих участников — того, кто его произносит, и того, кто слушает. Кто же в данном случае выступает в качестве отправителя сообщения? Прежде чем ответить на этот вопрос, приведем еще некоторые примеры употребления в легенде аналогичной коммуникативной структуры. Так, в первой главе рассказ о трагической судьбе Великой Моравии, поплатившейся за нечестие своих правителей, повествователь завершает замечанием: «Примеры эти и нами, как представляется, должны быть учтены, когда мы по их стопам пытаемся следовать; ибо, кто дом соседа своего горящим увидит, опасаться должен за свой»38. Коммуникативная ситуация проясняется, когда нарратор повествует о добродетелях Людмилы, упоминая, в частности, что она рассылала милостыню со слугами по ночам, «исполняя евангельское речение, по которому деяния любви нужно творить так, чтобы наша левая рука не ведала, что делает правая»39. То же самое — в рассказе о том, что, хотя Вацлав сперва изгнал из подвластного ему края мать Драгомиру, чтобы в земле воцарился мир, но потом призвал ее 37 At nos horum carentes cunctorum, hos, ut ita fatear, post deum solos habentes, quasi indigne tractamus eorumque de die in diem indigni virutes videntes, veluti increduli manemus (Кристиан, 89). 38 Quorum exempla nos quoque videntur respicere, qui eisdem passibus conamur incedere, quoniam qui domum vicini sui conspicit concremari, suspectus esse debet de sua (Кристиан, 91). 39 ewangelicum implens illud, quo iubetur agapen agere ignorante sinistra nostra, quid faciat dextra (Кристиан, 96). 43 обратно, «помня божественные наставления, согласно которым мы должны чтить отца и мать»40. Перечислим прочие случаи эксплицитного появления нарратора. Можно спорить касательно того, кто наблюдает за гибелью сторонников Вацлава в восьмой главе и делает вывод об их посмертной судьбе — только рассказчик, или же рассказчик вместе с читателями: «Мы верим, что те, кто стали соучастниками мученической кончины [Вацлава], приобщились и славе, и пусть мы, недостойные, не знаем числа их и имен из-за их множества, но верим поистине, что Бог знает и изберет их»41. В результате почти все многочисленные клирики, собравшиеся во владениях Вацлава за время его правления, были вынуждены покинуть край, «и мы в этом поистине увидели исполнение того, что, как мы знаем, от Господа особо предсказано: “Поразите пастыря, и рассеются овцы стада”»42. В принципе, эти высказывания можно понять как принадлежащие только нарратору, который говорит о себе во множественном числе, но следующее предложение лишает нас такой возможности: «Но вот, когда перо стремится к рассказу, что за гнев и месть возгорелись против врагов Господа, я должен возгласить о мощи Бога и чудесах Того, который всегда, как справедливейший мститель, приходит»43. Очевидно, «я» повествователя здесь свидетельствует о том, что предыдущие высказывания предполагали соавторство читателей. 40 memor preceptorum divinorum, quibus patrem honorare debemus et matrem (Кристиан, 104) Quos, quia participes fuerunt passionis, credimus esse effectos et glorie, et eorum numerum et nomina licet nos indigni pre multitudine eorum nesciamus, tamen deum scire et elegisse vere credimus (Кристиан, 115). 42 ut vere in hoc impletum cerneremus, quod de domino specialius predictum cognoscimus: Percutite pastorem et dispergentur oves gregis [Мф 26:31] (Кристиан, 116). 43 Ecce autem dum ad narrandum, quanta ira et vindicta domini hostes exarserit, stilus procedit, virtutem et mirabilia divinitatis predicare compellor, qui semper iustissimus ultor adest (Там же). 41 44 Итак, каким образом мы можем описать данную коммуникативную ситуацию? По-видимому, как и в начале «Легенды Лаврентия», в качестве источника сообщения выступает «высший полюс», а нарратор и коллективный адресат — всего лишь его получатели. Хотя далеко не всегда в тексте имеются прямые цитаты из Библии, но, например, «мы изо дня в день их добродетели видим» — это пример ситуации, аналогичной «Легенде Гумпольда»: весть от «высшего полюса» заключена в событиях, данных в сюжете. Приведем пример самостоятельного появления рассказчика в тексте. Так, добродетели, отличавшие Вацлава, когда тот взял правление в свои руки, «ум, язык, речь и страница высказать не в силах, а равно и я не могу описать из-за бремени тяжких грехов»44. Конечно, перед нами — все тот же топос аффектированной скромности автора, однако он, как мы видели на примерах заключения в «Легенде Лаврентия» и пролога в «Легенде Гумпольда», может реализовываться по-разному. В данном случае повествователь, воспринявший сообщение от «высшего полюса», заложенное в определенных фактах и явлениях действительности (как у Гумпольда), не отваживается на «соответствующий ответ» [Lewis, 204]; по-видимому, здесь рассказчик вспоминает о том, что читателем его произведения и судьей его писательской деятельности в конечном итоге является Бог. Но, вообще говоря, нарратор в «Легенде Кристиана» говорит о себе как в единственном, так и во множественном числе, причем число может меняться в пределах нескольких предложений. Так, рассказывая об открытии нетленного тела Людмилы, повествователь 44 mens, lingua, sermo, paginaque dicere deficit, simul moleque gravatus peccaminum pandere nequeo (Кристиан, 108). 45 называет священника Павла, «о котором выше мы упоминали»45, описывает, как тот помешал оставить гроб невскрытым, как пришедшие стали открывать крышку гроба, и та сломалась, причем Павел упал на тело покойной, и выяснилось, что оно совершенно не разложилось, только лицо было покрыто пылью, поднявшейся, когда сломалась крышка, «как я выше заметил»46. Я не буду перечислять все случаи, когда вмешательство нарратора сводится к тому, чтобы сослаться на предшествующий или последующий текст, поскольку такие случаи многочисленны и свидетельствуют главным образом о достаточно высокой индивидуализации текста в целом. Заметим только, что количество грамматических форм первого лица возрастает по мере того, как повествование приближается к сцене убийства Вацлава (а также в части, посвященной описанию посмертных чудес, о которой будет говориться позднее). Непосредственно перед рассказом об убийстве, но уже после эпизода пира у Болеслава, когда неизбежность трагедии становится ясна всем, в том числе и Вацлаву, нарратор вторично обращается к конкретному адресату: «Ты читаешь это, милостивый епископ, и удивляешься, как то, что, как ты знаешь, и высокопоставленные милостью Божьей в церкви мужи с трудом могут исполнить, мирянину, да к тому же князю... удалось осуществить»47 (имеется в виду то, что Вацлав в честь пасхальных торжеств выкупал молодых рабов). Перед нами — не просто обращение, а диалог между двумя инстанциями, поскольку рассказчик здесь предвосхищает реакцию конкретного адресата. Как и в прологе, повествователь ищет здесь у своего читателя поддержки: «Молю, отец сладчайший, чтобы ты, от 45 cuius et superius mencionem fecimus (Кристиан, 105). quod supra memini (Там же). 47 Legis hec, pontifex alme, et que vix ipsos summi in ecclesia gracia dei viros vix implere potuisse noveras, layci ordinis virum et eundem ducem... adimplesse tenuissime miraris (Кристиан, 113). 46 46 рождения наделенный источником мудрости, со мною вместе и то, что уже написано, и то, что написано будет, достойной хвалой возвысил, поскольку, как ты велел, кроме того, что я из уст твоих слышал, или того, что ты вместе со мной от верных и святости полных узнал доподлинно, всего прочего пером касаться отказываюсь. Однако продолжим начатый рассказ»48. Заметим, что, в отличие от пролога, здесь при обращении употребляется единственное, а не множественное число. Это, по-видимому, указывает на более непосредственные, чем в прологе, отношения между повествователем и конкретным адресатом — в начале легенды Адальберт выступал как посредник между составителем жития и «высшим полюсом», как высшая по отношению к первому инстанция; здесь Войтех стоит ближе к повествователю («ты вместе со мной»). Начатый рассказ продолжается нарратором от первого лица («как мы сказали», «отчетливо вижу», «пока это пишу»49); не меняя установки на индивидуализацию повествования, нарратор обращается к собственному герою — Болеславу: «Ты собственным словом своим, о жесточайший из преступников, осужден и связан, когда кровью, которую проливаешь, святое место осквернить страшишься. Но было сделано, как ты приказал» (речь идет о том, что Болеслав велел запереть с утра двери церкви, чтобы Вацлав не спасался от заговорщиков в ней)50. С тем же явлением мы столкнулись в «Легенде Лаврентия», но здесь обращение, пожалуй, знаменует скорее соотнесение с «высшим полюсом», нежели с 48 Oro, pro ingenito tibi sapiencie fonte, patrum felicissime, mecum et scripta et scribenda laude digna extollas, quia sicut iusseras, preter ea, que tuo ore audieram, aut mecum a fide et sanctitate plenius vera conpereras, aliqua stilo perstringere omnino refugio. Sed cepta ut prosequamur (Кристиан, 113). 49 ut diximus... certe video... dum ista scribo (Там же). 50 Tuo, omnium hostium severissime, verbo condempnaris et confoderis, qui eo, quem fundis, cruore loca sancta infici perhorrescis (Там же). 47 адресатом. Прежде чем закончить наконец повествование об убийстве, нарратор еще раз выходит на первый план, на этот раз уже обращаясь ко всем читателям: «Но почему боль в сердце, почему слезы глаза застилают, когда о смерти праведного, уходе невинного должен я в долгой речи рассказывать? Поистине, много слов у великой боли. Но о страстях святого мученика узнать желающих не буду томить долее»51. Как можно было заметить, во всех житиях, где имеется рассказ о посмертных (и не только посмертных, как мы увидим далее) чудесах, его предваряет эксплицитное появление нарратора. Не является исключением и «Легенда Кристиана». Описание грядущей посмертной славы Вацлава прерывается заявлением: «Но, поскольку слог наш столь скуден и неловок, оставим это тем, кто мудрее, и обратим перо к простой записи его чудес»52. Рассказ о чудесах должен быть индивидуализирован, с чем мы уже неоднократно сталкивались на примере других произведений. В «Легенде Кристиана» нарратор в этой части то и дело обращается напрямую к коллективному адресату, причем изображенному эксплицитно: «Ныне с Божьей помощью тем, кто искренне желает знать о новом мученике, возвещу о новых чудесах»53; «Теперь предстоит рассказать о столь великом чуде, что, признаюсь, из-за величия его я размышлял, не умолчать ли о нем, но поскольку уста многих, о нем узнавших яснее света, рассказывать о произошедшем не прекращают, я счел недостойным молчать»54; «И снова я начинаю 51 Sed quid dolorem cordis, quid lacrimas oculis congemino, dum mortem iusti, transitum innocentis multis sermonibus cogor enarrare? Habet certe plurima verba dolor ingens. Sed passionem sancti martyris avide scire cupientibus ne diu differam (Кристиан, 113–114). 52 Sed nos tante siccitatis et rusticitatis, hec sapiencioribus relinquentes, ad simplicem miraculorum eius hystoriam scribendam stilum vertamus (Кристиан, 115). 53 Nunc deo auctore de novo martyre sincere scire volentibus nova miracula pandam (Кристиан, 119). 54 Grande aliquid dicturus, fateor pro sui magnitudine me deliberasse, ut silerem, sed ora plurimorum sciencium hec luce clarius, quia incessanter predicant, me silere indignum putavi (Кристиан, 120). 48 рассказывать о старых чудесах нового мученика вам, кто из любви к этому мужу стоит здесь»55; о каре, постигшей осквернителей могилы Вацлава, «поскольку это случилось в недавние времена и для многих сделалось явным, я счел излишним вставлять рассказ в этот мой скромный труд»56; «Поведаю об одном знамении, которое в теперешние времена Христос, всемогущий Бог, через своего воина соизволил явить»57; «Итак, если бы я попытался охватить пером все знамения, которые Господь соизволил показать через своего блаженного мученика, мне не хватило бы света еще ранее, чем места на странице»58. Итак, повествование в «Легенде Кристиана» очень индивидуализировано; эксплицитное изображение получают как нарратор, так и конкретный адресат и, до некоторой степени, даже адресат коллективный. Конкретный адресат выполняет для рассказчика функцию «посредника» между ним и «высшим полюсом»; роль последнего в данном случае выполняют святые, которым и посвящено житие — Вацлав и Людмила. Повествователь устанавливает диалогические, а не односторонние, отношения с конкретным адресатом (выполняет его наказ и получает от него поддержку) и с «высшим полюсом» (через конкретного адресата). С преступным героем связь нарратора скорее односторонняя: повествователь выносит персонажу приговор. Веления «высшего полюса» выслушивают не только читатели, но и рассказчик — здесь происходит совмещение двух инстанций. 55 Iterum de novo martyre antiqua miracula vobis pro amore tanti viri astantibus narrare agrediar (Кристиан, 123). 56 Quod quia rudibus constat factum temporibus plurimisque patet, supervacuum huic opusculo credidi inserendum (Кристиан, 124). 57 Signum quoddam, rudibus quod nunc temporibus Christus, omnipotens deus, militem per suum dilucidare dignatus est, refero (Там же). 58 Igitur si cuncta beati martyris signa, que dominus per eum demonstrare dignatus est, stilo comprehendere coner, lux michi ante, quam pagina deficiet (Кристиан, 125). 49 § 5 Первое житие Адальберта Пражского («Легенда Канапария») В данном произведении (точнее будет сказать — в данной редакции этого произведения) нарратор почти не получает эксплицитного изображения. На его присутствие в тексте указывают фактически три глагольные формы первого лица, причем все три употреблены рядом — в рассказе о годах учебы Войтеха в Магдебурге. При этом две из них — формы множественного числа, когда нарратор как бы принимает точку зрения коллективного адресата. Первое употребление — это начало рассказа о забавном случае из юношеских лет Войтеха, случае, который, будучи сам по себе незначителен, становится знамением целомудренной жизни будущего епископа: «Теперь посмотрим, в каком изобилии он был наделен святой простотой, среди прочих добродетелей, которыми обладал»59. Завершая повествование о времени, проведенном Войтехом в Магдебурге, рассказчик констатирует: «Сколько лет он учился, неясно, но мы все знаем, что он великолепнейшим образом знал светскую философию. Я верю, что Господь хотел, чтобы он научился этой человеческой философии, чтобы потом легче ему было взойти на вершины божественной мудрости»60. «Мы все» (обратим внимание, что таким образом объем понятия «коллективный адресат Первого жития Адальберта» оказывается сужен, охватывая лишь тех, кто уже к моменту его прочтения был если не знаком лично, то наслышан о Войтехе) сменяет «я» — как 59 Videamus nunc inter alias virtutes, quas habuit, sancte simplicitatis quam ditissimus erat (Канапарий, 8). 60 Quot annis studuit, incertum est, sed quia secularis philosophie sat scientissimus erat, novimus omnes. Quem Dominus, credo, ad hoc humane philosophie studere voluit, ut post divine sapientie montes faciliore gressu scandere posset (Канапарий, 9). 50 известно, излишнее пристрастие к «светской философии» не поощрялось в церковной традиции; возможно, отчасти поэтому нарратор только от себя подчеркивает, что и здесь в судьбе героя проявился божественный промысел. Думается, что студенческие года, когда Войтех хотя уже и был Адальбертом, но еще не был Адальбертом, епископом Пражским — это время, рассказ о котором требует от повествователя меньше всего серьезности, позволяет почти не дистанцироваться от героя, к чему нарратор приглашает и своих читателей. Естественно ожидать, впрочем, что годы раннего детства также не требуют чрезмерно почтительного повествования; действительно, единственное обращение к читателю (глагол второго лица) мы находим в рассказе о том, как младенец серьезно заболел, но исцелился, как только родители дали обет посвятить его Богу. «Ибо ты мог бы видеть, как тельце ребеночка внезапно увеличилось в размерах...»61 — далее описывается вызывающее искреннее сострадание зрелище. Очевидно, повествование о годах епископского и монашеского служения Адальберта должно было вызывать у читателя другого рода эмоции — вероятно, поэтому в дальнейшем текст нарратора безличен, и остается таковым в том числе и при описании видения «некоего» Иоанна Канапария, который ныне, отчасти на основании как раз этого описания, считается автором данной легенды. Ему приснилось, будто с неба упали два белых одеяния, и каждое из них окутало и унесло на небеса человека. «Одного из них имя, кроме того, кто это видел, до сих пор немногие знают; другой же был, как и сегодня он помнит, 61 Cerneres namque infantuli corpusculum subita magnitudine excrevisse (Канапарий, 5). 51 господин Адальберт»62. Действительно, логично предположить, что в данном случае нарратор говорит в третьем лице о себе самом — иначе выражение «как и сегодня он помнит» представляется чересчур неестественным. Единственное подобие обращения в тексте мы находим после описания мученической гибели Войтеха, упавшего на землю, раскинув руки: «О святой и блаженнейший муж, в чьем лике — ангельское сияние, в сердце — всегда Христос пребывали! О благочестивый и всех почестей достойнейший, тот, кто крест, который всегда носил в душе и воле своей, ныне руками и всем телом обнял»63. Однако здесь употреблена не форма звательного падежа (sanctе et beatissimе vir), а форма аккузатива: sanctum et beatissimum virum, так что это просто экспрессивная форма утвердительного предложения. Итак, Первое житие Адальберта Пражского почти не содержит элементов эксплицитного изображения нарратора, за исключением фрагмента, повествующего о раннем периоде жизни Войтеха. Тем не менее это не означает, что «Легенда Канапария» безлична. Неповторимое своеобразие произведения достигается благодаря другим средствам, принадлежащим сфере имплицитного изображения нарратора, которая не входит в область нашего рассмотрения — это сам подбор событий из жизни Войтеха в качестве элементов сюжета, описание этих событий, нередко довольно ироничное, прямая речь героев, которая занимает весьма значительное место в смысловой структуре легенды. Возможно, в оригинале этого произведения рассказчику отводилась более 62 Unius nomen extra ipsum, qui hec vidit, admodum paucissimi sciunt; alter vero erat, ut adhuc hodie ipse meminit, dominus Adalbertus (Канапарий, 44). 63 O sanctum et beatissimum virum, cuius vultu angelicus splendor, in corde semper Christus erat. O pium et omni honore dignissimum, qui crucem, quam voluntate semper et animo portavit, tunc eciam manibus et toto corpore complexus est! (Канапарий, 46–47) 52 активная роль. Как полагает Я. Карвасиньская, первый вариант текста данного жития, прежде чем использовать его при канонизации мученика, был переделан в духе официальной политики Оттона III. «Возможно, окончательную форму редакции А придал автор первого наброска, а значит, вероятнее всего, Канапарий, но сотрудничали с ним, а может, даже и добавляли готовые формулировки также и другие, и среди них — сам Оттон III, а также кто-то из папской канцелярии» [Karwasińska, 1962, c. XXVIII]. § 6 Второе житие Адальберта Пражского («Легенда Бруно Кверфуртского») Это произведение, пожалуй, наиболее индивидуализировано по сравнению с другими рассматриваемыми текстами. Здесь мы найдем более всего эксплицитных свидетельств присутствия нарратора. В целом рассказчику свойственно «от себя» давать отсылки на предыдущий или последующий текст — причем он говорит о себе как в единственном, так и во множественном числе, с чем мы уже сталкивались в «Легенде Кристиана». Кроме того, повествователь нередко ссылается на источник тех или иных сообщаемых им сведений — в частности, описывая чудеса. Как мы видели на примере других житий, то, что рассказы о чудесах (правда, обычно посмертных) сопровождает эксплицитное появление нарратора, — отнюдь не редкое явление. Так, сообщив, как в день выборов епископа из бесноватого вышел демон и публично заявил, что при новоизбранном епископе он больше оставаться в этом человеке не может, рассказчик уточняет: «О чем некий Виллик, добрый и 53 мудрый клирик, который в тот час там присутствовал, подал письменное известие, которое мы и читали, когда нашему аббату это послание вручил гонец»64; описывая жизнь Войтеха в монастыре, нарратор заверяет, что, когда тот спрашивал аббата о том, «чего раньше не знал» ни он, ни сам духовный отец, «аббат отвечал правильно, как сам не раз говорил нам»65. Вообще чаще всего знаки эксплицитного присутствия нарратора (главным образом грамматические глагольные формы первого лица) появляются именно в рассказе о пребывании Адальберта в монастыре святых Бонифация и Алексия — известно, что Бруно Кверфуртский также был в свое время монахом этого монастыря. Иногда повествователь может и высказать сомнение в достоверности сообщаемых им сведений; так, рассказ о том, как грешный епископ перед смертью объявил, что его уносят в ад, предварен словами «если было так, как мы слышали»66. В легенде отсутствует пролог, где рассказчик мог бы проявить себя непосредственно, и с первых строк начинается повествование о родителях Войтеха, которое можно определить как «топос благородного происхождения» святого [Hošna 1986]. Однако нарратор тем не менее быстро обнаруживает свое присутствие, устанавливая связь с «высшим полюсом»: поведав о том, как, когда младенец заболел, его родители дали обет посвятить мальчика в случае исцеления деве Марии, он объявляет: «...Не может презреть сердца просящих, с небес приносит помощь немощным смертным блистающая звезда морей. Так ты отметила слугу своего, о дева Мария». Рассказчик обращается напрямую к «высшему полюсу», 64 Cui rei homo qui hora illa presens erat, Willico quidam, bonus clericus et sapiens, visibile testimonium asserebat; quod nos et legimus, cum ad abbatem nostrum hoc scripto filius mandaverat (Бруно, 7). 65 quod ante nesciut... recte abbas respondit, ut ipse non semel ad nos dixit (Бруно, 16). 66 si est ut audivimus (Бруно, 6). 54 однако не с мольбой, как это обычно происходило в уже рассматривавшихся нами житиях; помощь смертным обозначена не как нечто желанное, а как данность ― перед нами не просьба, а хвала. Рассказчик может обращаться к «высшему полюсу» не только от себя, но и от лица читателей: так, после рассказа о перемене, произошедшей в характере Адальберта после избрания его епископом, повествователь с позиции коллективного адресата кается перед Богом в грехах современников: «Во всем этом, о Господи, как благостен и сладок дух Твой!.. Мы же, поистине несчастные, лишены лучей Его света, мы изгнаны от живой славы, мы мертвыми и слепыми терпеливо остаемся, ибо какое чудесное и ни с чем не сравнимое добро мы утратили, в довершение нашего несчастья, — не ведаем. [Но ведь] мы собственными ушами слышали, сколь чудесен Ты в деяниях своих, о Господь Величайший, о сладчайший, жизнь и хлеб ангелам!»67. Глаголы множественного числа первого лица употребляются и в исповедании веры в святость Адальберта (27-я глава); думается, здесь также следует видеть стремление выразить чувства и мысли читателей: «...у нас есть заступник, твой, Господи, Адальберт, о котором мы знаем, что он вступил во святая святых и которого почитаем, любя»68. Еще раз обратим внимание, что это не молитвенная просьба, как, например, в «Crescente fide christiana»; это опять-таки, как и в начале легенды, хвала, благодарность за уже существующую «обратную связь» между Богом и верующими. Между инстанциями осуществляется диалог: 67 Inter hec, o Domine, quam bonus et suavis spiritus tuus in omnibus!.. Quem loqui, quem suave sedulo meditari, o quam delectabile, felix et insaciabile! cuius lucis absentes radios nos vere miseri, nos vive glorie exules, nos mortui et ceci patienter sustinemus, utique quia quam suave et incomparabile bonum perdidimus, ad maiorem cumulum miserie merito ignoramus. Auribus nostris audivimus, quem mirabilem in operibus suis, maxime o Domine, o dulcedo, vita et panis angelorum! (Бруно, 11). 68 nostrum intercessorem in manibus habemus, Adelbertum, Domine, tuum, sancta sanctorum intrasse cognovimus et amantes veneramur (Бруно, 34). 55 «мы собственными ушами слышали» — речь снова идет о раскрытии божественного промысла в событиях из жизни святого. Пример такого же рода мы находим ближе к концу жития, когда нарратор пересказывает видение Иоанна Канапария о двух белых одеяниях, одно из которых унесло на небо Адальберта: «Кого приняло в объятья и доставило к Богу другое одеяние, признаюсь, мы так и не сумели добыть из его уст, и потому не знаем точно, был ли это он или кто-то другой. Но это нас не тревожит; ибо у нас в руках наш заступник, твой, Господи, Адальберт, о котором мы знаем, что он вступил во святая святых, и которого мы, любя, почитаем»69. Повествователь активно призывает к диалогу и читателя, в том числе с помощью риторических вопросов — так, рассказывая о трагической судьбе прелюбодеицы, пытавшейся спастись в храме, он вопрошает: «Что толку, что она искала убежища в святая святых? Чем поможет христианский закон там, где правит варварство?»70. Хотя ответ очевиден, он тем не менее не звучит явно, и читатель принужден произнести его самостоятельно. Приведем некоторые другие примеры того, как в «Легенде Бруно» протекает общение между рассказчиком и адресатом. Хотя назидание часто встречается в легенде, нередко оно преподносится в довольно-таки необычной форме. Посмотрим, как это происходит, на одном примере. Адальберт дважды покидал свою епископскую кафедру; после того как его вынудили вернуться туда в третий раз, пришло известие, что братья Войтеха, члены видного рода 69 Quem aliud linteum suo amplexu acciperet et ad Deum portaret, ab eius ore, fateor, numquam excutere potuimus et ideo sive hic, sive alter sit, certa mente nescimus. Nec hoc nos fatigat; qui nostrum intercessorem in manibus habemus, Adelbertum, Domine, tuum, sancta sanctorum intrasse cognovimus et amantes veneramur (Бруно, 34). 70 Quid prodest refugium ad sancta sanctorum? Quis curat regnante barbarismo fas christianus? (Бруно, 19). 56 Славниковичей, убиты. Сообщив об этом, повествователь сокрушается: «Увы, наши несчастные времена! Мы называем мудрым того, кто искусен во лжи, кто в устах мед, а в сердце яд скрывает... Не ищи далеко примера! В той же кровной линии святейшего Вацлава убил его собственный брат. Кто не заплачет над грязью несчастья нашего? Кто не ужаснется слепорожденным людям нашим?»71 По-видимому, причитания нарратора адресованы все-таки читателям, а не Богу, о чем свидетельствует глагольная форма второго лица единственного числа. Подтверждение этого мы находим в следующей фразе: «О человек, ты исполнил предсказанное, приложив беззаконие к беззаконию, ожидай ныне исполнения евангельского слова: “Кровь пролитая на тебе и на детях твоих”»72. Итак, перед нами действительно поучение: поучение всегда подразумевает взгляд «сверху вниз», и нарратор не только приводит прямую цитату — непосредственное высказывание Бога, но и сам как бы выступает с позиции «высшего полюса», говорит словами из боговдохновенного Писания: «ты исполнил предсказанное, приложив беззаконие к беззаконию» [Пс 68:28]. Как узнали ранее читатели жития, Войтеху было видение, что его и самого старшего из его братьев ожидают два роскошных ложа, и то, которое предназначено для него, Войтеха, превосходит красотой предназначенное для брата. Далее следует вкратце переданный в предыдущем абзаце сюжет; затем рассказчик снова фактически обращается к читателю, причем общение их происходит в реальном времени, сейчас (вспомним, что нарратор у Гумпольда 71 Eheu nostra infelicia tempora! Sapientem vocamus, cui fallere ingenium calet, cui in ore mel, in corde fel latet... Nec longe queras exemplum! in eadem linea sanguinis occidit frater suus sanctissimum Ventizlauum. Interea quis non deploret squalores miserie nostre? Quis non exhorret cecum natum hominem nostrum? (Бруно, 27). 72 Homo, complesti propheticum, apponens iniquitatem super iniquitatem, expecta nunc illud evangelicum: Sanguis qui effusus est, super te et super filios tuos [Мф 27:25] (Там же). 57 ставил себе задачу писать для потомства): «Итак, эти события в то время случились, но, когда об этих достойных вещах мы, недостойные, пишем, — ныне умер от меча самый старший брат. И видение благочестивого Адальберта исполнилось, ибо прежде него четверых братьев, а после, в этот год — самого старшего брата смерть настигла; насколько превосходила его кончина — их гибель, насколько ложе его их постелей было великолепней, всякий поймет, кто знает, что он — во имя Бога, они же — ради мира, и защищая жизнь свою убиты были»73. Обратим внимание, какую роль в данном произведении играет понятие «наш век», «наше время», современность в той или иной форме. Повествователь излагает известные ему события именно в «этот год», когда был убит старший брат Войтеха; как назидание, так и раскаяние принадлежат моменту «сейчас», причем этот момент четко закреплен в историческом времени, что станет еще очевиднее, когда мы рассмотрим важную для данной легенды тему императорской власти и некоторые способы ее реализации в тексте. В связи с рассказом о назначении Адальберта на епископскую кафедру, повествователь говорит о бесславных войнах Оттона II, который произвел противопоставлен это назначение. «благочестивому» наследника великого неудачное, причина императора же всех Оттон II в Оттону I; правление представлено этих неудач как житии крайне заключается в преступлении, совершенном Оттоном II против церкви (дело в том, что он упразднил Мерзебургское епископство, отдав входившие в его состав земли, а также учрежденный его отцом монастырь 73 Hec tunc scilicet fuerunt, sed quando digna indigni scribimus, nunc est mortuus gladio frater maximus. Completa autem est pii Adelberti visio tota, dum ante se bis duorum fratrum, post hoc anno maximi fratris mors est subsecuta; quorum mortibus mors sua quam prestantior foret, quorum lecto suus lectulus quam pulchrior emineret, omnis intellegit, qui ipsum causa Dei, illos causa seculi et defendende vite cecidisse cognoscit (Бруно, 28). 58 святого Лаврентия под власть епископа Магдебургского). Рассказчик даже обращается к своему герою напрямую: «Как тебе, как, о благородный юноша, тебе было в тот день, когда ты увидел, что народ Божий отдан под власть сарацин, и узрел, что краса христианства под ногами язычников исковеркана? Поистине, как некто в духе поет Господу: “Будучи праведен, Ты всем управляешь праведно, того же, кто заслуживает наказания, осуждаешь”»74. Здесь, подобно тому, как это происходило в «Легенде Лаврентия» и в «Легенде Кристиана», разрушаются границы повествовательных уровней текста; при этом герой оказывается поднят на уровень повествуемого мира, как и в «Легенде Кристиана», в первую очередь для того, чтобы приговор герою прозвучал напрямую от лица Бога. Затем следует назидание для читателей. По мнению повествователя, человеческие потери еще могли бы быть оправданы, если бы войны велись во имя распространения христианства. «Но увы нашему несчастному веку! Ни один король не имеет рвения обращать язычников, как Бог с небес повелел. Любят честь свою, о Христе, не твою пользу... есть, увы, те, кто за грехи преследует христиан, и никого, кто бы ради Божественного в церковь заставил вступить язычника»75. Здесь нарратор обращается уже к «высшему полюсу»; как бы переворачивая привычную ситуацию, он рассказывает не людям о Боге, а Богу о людях. Конечно, в этих словах содержится урок современным ему правителям — можно, таким образом, сказать, что у легенды Бруно имеется и относительно конкретный адресат: император Священной Римской империи, а также другие 74 Que tibi, que magnanime iuvenis, illa dies erat, quando in potestatem Sarracenorum populum Dei traditum vidisti et sub pedibus paganorum christianum decus laceratum aspexisti? Vere ut quidam spiritu canens Domino ait: Cum sis iustus, iuste omnia disponis, eum quoque qui (non) debet puniri recte condemnas [ср. Премудр. 12:15] (Бруно, 9). 75 Sed ve nostro miserabili evo! et nemo rex studium habet, ut convertat paganum, quasi Deus de celo iubeat. Diligunt honorem suum, o Christe, non lucrum tuum... et est eheu pro peccatis qui persequatur christianum, et nullus prope dominus rerum qui ecclesiam intrare compellat paganum (Бруно, 9–10). 59 короли и князья — это вполне оправдано, поскольку Бруно Кверфуртский был капелланом Оттона III. Однако судьба Оттона II становится поводом для наставления не только правителям, но и значительно более широкому христианскому коллективу. Повествователь обращается к коллективному адресату в целом — но в единственном числе: «О человек, воззри на примере одного человека, какова твоя сила, если отвратишься от лица Божьего!»76, и тут же отождествляет себя со своими читателями, выслушивая слово третьей инстанции: «Потому да прислушаемся к доброму совету, что гласит: “Возложи на Господа все силы и помышления твои, и он напитает тебя”»77. Может показаться, что я уделяю побочной для легенды теме императорской власти слишком много внимания, но в ней раскрывается ряд моментов, интересных для характеристики произведения в целом, хотя, строго говоря, не относящихся непосредственно к материалу нашего анализа. Даже произнося назидание, Бруно не ограничивается однозначно отрицательной оценкой императора: «В этом маленьком теле — чудная добродетель, великая любовь и преданность, щедрость ко всем без исключения, мудрость не по годам, благочестивая обходительность по отношению к слугам Божиим, правая вера и молитва правили, но, увы, какое наказание за решение о епископстве!.. Стал жертвой смерти, прах во прах возвратился. Смотрите, сколько цесарь оставил славы!»78. В отличие от «Легенды Гумпольда» и «Легенды Лаврентия», где оценки как событий, так и людей всегда либо Avertente faciem Deo, que sit tua virtus, o homo, specta nunc in homine uno (Бруно, 13). Qua propter audiamus bonum consilium quo dicitur: Omnes vires et cogitatum tuum iacta in Dominum, et ipse te entriet [Пс 54:23] (Бруно, 14). 78 Huic in parvo corpore melior virtus, magnus amor et fides suis, larga manus sine querela cunctis, sapientia maior annis, pia humanitas Dei servis, confessio et oratio bona regnum tenuerunt, sed, heu, pena de statuendis episcopis! ...fit victima mortis, pulvus in pulverem redit. Videre quantum glorie cesar reliquit! (Бруно, 14–15). 76 77 60 только положительны, либо только отрицательны, здесь нарратор позволяет себе двойственность отношения, что требует от читателя собственных размышлений. Имплицитный адресат (здесь даже уместнее воспользоваться категорией В. Шмида «идеальный реципиент»79) данного текста строго осуждает несоблюдение христианских заветов, как их понимает нарратор, но при этом способен не осуждать безоговорочно человека, который их не соблюдает, иными словами, не относит его к «полюсу зла». «Чернобелая» характеристика поступков и персонажей действительно нередко встречается в житиях, однако, вопреки распространенному мнению, не является, как мы видим, правилом. Вернемся к проблеме эксплицитно выраженных взаимоотношений нарратора и адресата. Рассказчик активно использует прямые обращения к собственным героям (с одним примером этого явления мы уже встретились) — особенно повествуя о переломных моментах их судьбы. Так, Адальберту, когда тот в последний раз покидает Рим, чтобы отправиться, как предполагалось, сперва в Прагу, а если паства не станет его слушаться и на этот раз — то с миссией к язычникам, Бруно обещает: «Человек Божий, нечего тебе бояться, иди смело! Звезда морей станет шествовать перед тобой, и предводитель добрых, вернейший князь Петр, будет сопутствовать тебе»80. Интересно, что, если эту фразу еще можно при желании понять как общую характеристику жизни Адальберта, то обращение Бруно к своему герою сразу после рассказа о первой полученной им ране воспринять таким образом уже затруднительно, и становится Идеальный реципиент — тот, кто «осмысляет произведение идеальным образом с точки зрения его фактуры и принимает ту смысловую позицию, которую произведение ему подсказывает» [Шмид, 61]. 80 Homo Dei, ne timeas habens causam, vade securus! Stella maris tuum iter preibit et dux bonorum Petrus fidelissimus comes coherebit (Бруно, 24). 79 61 ясно, что коммуникация нарратора и персонажа протекает в реальном времени (точнее, во времени сюжетном, но при этом сюжет как бы переводится на уровень действительного мира, разворачивается «здесь и сейчас»): «Человек Божий, знаешь ли, как блистает на спине твоей эта простая рана, или какую цену имеет такое добровольное страдание на земле в память Сына Бога живого? Ибо не так жемчужина блистает в навозной куче, не так — царский пурпур среди народа... и даже не так — золотое солнце в небе, как в чистом сердце — один удар, который получил ты, ликуя, во славу Христа твоего»81. Приведем еще некоторые примеры этой необычной ситуации, когда время героя совпадает со временем повествователя. Войтех после неудачи первой попытки проповедовать прусам раздумывает, каким образом все-таки добиться успеха миссии или заслужить мученическую смерть; рассказав об этом, нарратор добавляет: «Но, достойная голова, что ты утруждаешь себя запутанными размышлениями? Близко то, чего ищешь... Се, перед тобой красота твоя, се, у дверей то, цены чему человек не знает, блаженное, несравненное мученичество, чтобы и в наш век Сын по мольбе Девы соделал тебя мучеником своим!»82. Здесь благодаря прямому обращению герой оказывается соотнесен с «высшим полюсом», к которому в конце легенды, как мы увидим, он будет всецело принадлежать. В конце жития рассказчик уже не покидает своего героя. Сообщив о том, что прусы схватили чужеземных миссионеров, повествователь, опять-таки в рамках сюжетного времени, ставшего и 81 Homo Dei, putasne simplex plaga splendeat in dorso tuo, aut precium habeat super terram talia libenter pati in memoriam Filii Dei vivi? Utique non sic margarita splendet in sterquinilio, non purpura regis in populo... adhuc nec aureus sol in celo, ut est in corde pulchro una percussio, quam habes letus glorie pro Christo tuo (Бруно, 31). 82 Sed o venerabile caput, quid te fatigas implexis cogitationibus? Prope est quod queris... Ecce iuxta te pulchritudo tua, ecce in foribus cuius nescit homo precium, felix et incomparabile martyrium, ut nostro etiam evo Virgines ille Filius insperato te faciat martyrem suum! (Бруно, 33). 62 временем нарратора и адресата, снова напрямую обращается к Адальберту. При этом герой оказывается соотнесен со всеми тремя участниками коммуникативной структуры текста: сперва повествователь защищает его перед читателями, а затем утешает его с позиций «высшего полюса». Итак, связанный прусами Войтех бледнеет. «Разве больший Господин, искупитель наш, Христос, когда приближались муки, не потел кровью..? Если Бог трепещет, стыдно ли, что человек дрожит от страха, когда подступает близко телесная гибель? <...> Муж добрый, чего ты боишься? Почему изнываешь от глупого страха? Богу твоему повинуясь, проливаешь кровь, пролив которую, по безопасной, открытой дороге отправишься в небеса, без нападений стерегущих демонов, без малейших укоров в грехах»83. Далее рассказчик устанавливает с героем двустороннюю связь, ведет с ним диалог (произносит диалогизированный монолог, по терминологии В. Шмида) — сперва говорит сам, потом выслушивает ответ: «О, как блаженна, о, как исполнена славы такая смерть, когда никакие грехи не проявят себя, ибо они, согласно обещанию, смыты крещением, уничтожены мученической кончиной!.. Чего не знает там тот, кто познал Всеведущего? Чего нет у того, у кого есть обладающий всем?.. Ты для нас — очевидный свидетель этих речений... Ты открыто говоришь, что под небесами нет ничего прекрасней, нет ничего слаще, чем отдать жизнь за сладчайшего Иисуса Христа, демонстрируя так, что нельзя усомниться, как прекрасно живешь ты ныне, ведь от твоих мертвых 83 Nonne maior Dominus, redemptio nostra, Christus propinquante passione sanguinem sudat..? Si Deus trepidat, turpe est ut homo paveat, cum carnis mors prope accedit? <...> Vir bone, quid times? Cur inermi pavore tabescis? Deum tuum secutus sanguinem fundis, quo fuso securum commeatum et liberum iter habes ad celum, sine occursu insultantium demonum, sine objectione vel minima peccatorum (Бруно, 36). 63 костей столько благодати исходит, и столько знамений милосердия является постоянно»84. Описание мученической гибели Войтеха фактически дается во втором лице: «Семью дарами наделил тебя Христос, излил на тебя в изобилии милость добродетели Святой Дух; ныне ты, пронзенный семью копьями в Его честь, обними желанного Христа»85. Здесь осуществляется переход героя с уровня людей на уровень «высшего полюса»; теперь он отождествляется с «третьей повествовательной инстанцией», и рассказчик обращает молитвы читателей к Богу и заступнику перед ним, святому Адальберту: «Взывает к тебе ныне сердце скорбящее, взывают бесчисленные заблуждения наших времен; вопиет к тебе, блаженнейший мученик, наших несчастий великий вопль. <...> Ты, что много можешь при дворе Царя, дай нам закон и справедливое избавление от злобной ненависти всех врагов <...> Мы страдаем чем-то чудовищным; исполнив желание, больше жаждем... Хватит! — никогда не скажем. Это общая беда всех, а больше всего — мое несчастье... Если ты что-то можешь — но конечно, ты можешь — исцели наши раны»86. Только теперь, уже признав в Адальберте сопричастника «высшего полюса», повествователь наконец констатирует факт гибели епископа — и снова обращается к нему, но уже не с молитвой, а с хвалой: «От слез человеческих перейди в ликование 84 O quam beatum, o quam glorie plenum ita mori, ut non appareant ulla peccata, quoniam que secundum fidem lavantur in baptismo, extinquuntur in martyrio. <...> Ubi quid nescit, qui omnia scientem novit? Quid non habet, qui omnia habentem habet?.. Harum sententiarum habemus te testem clarum... Palam loqueris, sub celo non esse pulchrius, non quicquam dulcius, quam pro dulcissimo Ihesu Christo dulcem dare vitam, monstrans nimirum quam bene vivas, ad cuius mortua ossa tot salutes exeunt, tot signa misericordie sine tedio currunt (Бруно, 37). 85 Septem donis ditavit te Christus, virtute multa fluxit tibi gratia sancti Spiritus; nunc in eius honore septem lanceis confossus, amplectere desiderabilem Christum (Бруно, 38). 86 Vocat te nunc cor contritum, vocat nostrorum temporum infinitus error; clamat tibi, felicissime martyr, nostrarum miseriarum magnus clamor. <...> Tu qui multa potes ad regis curtem, fac nobis legem et iusticiam de iniquo odio tantorum hostium <...> Nescio monstri quid simile patimur; post expletionem voluptatum amplius esurimus... Sufficit! nunquam dicimus. Hoc est commune malum 64 ангельского сонма... Даже выше ангела, о мученик, взойди во славе к царю мучеников, к живому Спасителю, с Тем, от лица Которого бежит небо и земля, говори лицом к лицу, как человек с другом своим»87. Думается, что здесь через слово «человек» Войтех, уже принадлежащий другому, небесному миру, оказывается связан и с миром «немощных смертных», а рассказчик, словно проходя вместе с ним горний путь, и сам, а через него — и читатели, приобщается к божественному. Впрочем, это, вероятно, только одно из возможных толкований. В конце нарратор, не в силах устраниться из собственного текста, говорит убийцам Войтеха: «Вы осуществили свое безумие, но не знаете, какое блаженство вы произвели на свет!.. Тому, кто желал обратить вас к Христу Спасителю, вы, того не желая, даровали бессмертное величие»88. Если мы сравним это высказывание с тем, как повествователь обращается к Болеславу в «Легенде Кристиана» или «Легенде Лаврентия», то увидим, что у Бруно, в сущности, здесь нет ни упрека, ни назидания; язычникипрусы не интересуют повествователя, его внимание сконцентрировано на Адальберте. Завершает легенду молитвенное обращение повествователя к святым Адальберту и Георгию, принявшим мученическую кончину в один день — и хотя здесь употреблено единственное число, рассказчик просит словно бы от лица всех: «Се, вы двое, благие, часто я к вам взываю. Говорите, молитесь Христу, сердцу небесному; да взойдет звезда морей, блаженная Божья Матерь, да omnium, maxime hec est miseria mei... Si quid potes, immo quia potes, nostris medere vulneribus (Бруно, 38–39). 87 Post fletus hominum transi in letum numerum angelorum... Adhuc ultra angelum martyr, ad martyrum regem ascende cum gloria, ad vivum Salvatorem, ad ipsum a cuius conspectu fugit celum et terra [Откр 20:11], loquere facie ad faciem, quasi homo ad amicum suum (Бруно, 40). 88 Vos fecistis vestram insaniam, sed ignorando o qualem genuistis beatitudinem!.. volendo vos convertere ad Christum Salvatorem, dedistis ei nolendo immortalem dignitatem (Там же). 65 идут с Нею ангел Михаил и милостивый Петр, да следует каждый святой. Ради Бога, говорите добро о несчастных живых, добро перед лицом Царя»89. Обратим внимание, насколько широко здесь понимается адресат — это все «несчастные живые», но, повидимому, только «нашего века». Как пишет Я. Вуд, «мы имеем здесь дело с бесспорным личностным интересом Бруно к Войтеху» [Wood 1999, 167]. Повествователь постоянно, на протяжении всего текста легенды стремится установить диалогические, двусторонние отношения как с коллективным адресатом, понимаемым предельно широко, а также с героем — Адальбертом, так и с «высшим полюсом», который, напротив, часто оказывается конкретизирован — это дева Мария, а также архангел Михаил, апостол Петр, святой Георгий и, конечно же, Адальберт, который не принадлежит этому уровню изначально, но возвышается до него в конце жития. Время создания текста в историческом плане максимально конкретизировано, у легенды имеется и относительно определенный адресат — современные европейские правители. Нарратор нередко ссылается на источник тех или иных излагаемых сведений, особенно когда речь идет о чудесах. Время сюжета как бы совпадает со временем, когда происходит рассказ, что позволяет повествователю говорить со своим героем в критические для того моменты. 89 Ecce iterum boni, et estis mihi sepe vocandi. Loquimini, orate ad Christum, ad cor celi; surgat stella maris beata Dei Genetrix, iungat se angelus Michahel et propicius Petrus, sequatur et omnis sanctus. Propter Deum loquimini bonum de vivis miseris, bonum in conspectu Principis (Бруно, 41). 66 § 7 Выводы Подведем некоторые итоги. Как мы видели, почти во всех житиях (исключение — «Легенда Канапария») вступают в непосредственные, эксплицитно охарактеризованные диалогические отношения все три выделенные нами повествовательные инстанции: нарратор, адресат и инстанция божественного. Эта двусторонняя связь может строиться с помощью прямых обращений и цитат, а также посредством «диалогизированного нарративного монолога», когда рассказчик ссылается на ожидаемые ответы адресата, передаваемые косвенной речью; кроме того, в качестве «сообщения» от «высшего полюса» могут выступать те или иные действительные события, на которые повествователь, а также коллектив читателей должны соответствующим образом откликнуться. В целом анализируемый материал был недостаточно обширен для того, чтобы сделать подробные выводы касательно стандартных приемов, используемых повествователем в средневековом агиографическом произведении. Тем не менее мы можем выделить хотя бы два таких приема. Во-первых, рассказывая о чудесах, нарратор всегда выступает на первый план («Crescente fide christiana», «Легенда Гумпольда», «Легенда Лаврентия», «Легенда Кристиана»; «Легенда Бруно Кверфуртского»). Во-вторых, значимость преступления или подвига героя подчеркивается тем, что рассказчик обращается к нему напрямую, нарушая тем самым границы повествовательных уровней. Отметим, что обычно в этом диалоге (нередко именно диалоге) участвуют не две, а три инстанции: нарратор так или иначе апеллирует к 67 «высшему полюсу». Подобные примеры нам встретились в «Легенде Лаврентия», «Легенде Кристиана», «Легенде Бруно Кверфуртского». Мы также имели возможность убедиться, что общеизвестный топос аффектированной скромности — чересчур широкое понятие; автор может признавать свое «недостоинство» как перед читателями («Легенда Лаврентия»), так и перед Богом («Легенда Кристиана»). Заключение Итак, мы видели, что принципы современной теории нарратологии с успехом могут быть использованы при анализе средневековых текстов, в частности, агиографических произведений второй половины Х — начала ХI века. Мы также убедились, что внесение в эту теорию некоторых корректив позволяет приспособить ее к типу художественного сознания, отличному от современного. За пределами данной работы осталась почти вся проблематика, связанная повествовательных рассматривался с инстанций также круг имплицитным в тексте; вопросов, изображением практически не затрагивающий коммуникацию на уровне персонажей. Все это могло бы стать темой для будущих исследований в данном направлении. Кроме того, мы убедились, что структура взаимоотношений между повествовательными инстанциями во всех житиях различна, то есть каждый автор легенды по-своему воспринимает свое положение относительно читателей и Бога. В легенде «Crescente fide christiana» отсутствует какая-либо конкретизация как нарратора, так и адресата; рассказчик почти полностью устраняется из повествования; в конце легенды он 68 исполняет роль своего рода посредника, возносящего от лица читателей молитвы к Вацлаву, а через него к «высшему полюсу». Нарратор в «Легенде Гумпольда» не вступает в диалог ни с одной из двух других инстанций; он только раскрывает то, каким образом божественный промысел (весть от «высшего полюса») оказался зафиксирован в тех или иных событиях; рассказчик трудится таким образом скорее «для потомков», нежели для своих современников — вероятно, именно поэтому он никогда не обращается к адресату напрямую. В «Легенде Лаврентия» нарратор вступает в диалог как с коллективным адресатом, так и с преступным героем, а также напрямую обращается к «высшему полюсу»; коллективный адресат конкретизирован — это латиняне, причем те из них, которые сами желали узнать о жизни Вацлава. Таким образом, рассказчик не наставляет своих читателей, а как бы исполняет их требование, ведет повествование в ответ на просьбу о нем. Повествование в «Легенде Кристиана» очень индивидуализировано; эксплицитное изображение получают как нарратор, так и конкретный адресат и, до некоторой степени, даже адресат коллективный. Конкретный адресат выполняет для рассказчика функцию «посредника» между ним и «высшим полюсом»; роль последнего в данном случае выполняют святые, которым и посвящено житие — Вацлав и Людмила. Повествователь устанавливает диалогические, а не односторонние, отношения с конкретным адресатом (выполняет его наказ и получает от него поддержку) и с «высшим полюсом» (через конкретного адресата). С преступным героем связь нарратора скорее односторонняя: повествователь выносит персонажу приговор. Веления «высшего 69 полюса» выслушивают не только читатели, но и рассказчик — здесь происходит совмещение двух инстанций. Первое житие Адальберта Пражского почти не содержит элементов эксплицитного изображения нарратора, за исключением фрагмента, повествующего о раннем периоде жизни Войтеха. Однако это не означает, что в «Легенде Канапария» отсутствует авторское начало ― просто оно выражено с помощью других средств. Повествователь в «Легенде Бруно Кверфуртского» постоянно, на протяжении всего текста легенды стремится установить диалогические, двусторонние отношения как с коллективным адресатом, понимаемым предельно широко, и с собственным персонажем — Адальбертом, так и с «высшим полюсом», который, напротив, часто оказывается конкретизирован — это дева Мария, а также архангел Михаил, апостол Петр, святой Георгий, а в конце легенды ― и сам Адальберт. Время создания текста в историческом плане максимально конкретизировано, у легенды имеется и относительно определенный адресат — современные европейские правители. Думается, все сказанное является достаточным доказательством того, что говорить об индивидуальном, авторском начале в житиях не только можно, но и необходимо. Библиография Источники Список сокращений: FRB ― Fontes rerum Bohemicarum = Prameny dĕjin českých. Ed. J. Emler, Praha. 70 LF — Listy filologické, Praha. MPH, NS ― Monumenta Poloniae Historica, Nova Series = Pomniki dziejowe Polski, Seria II, Warszawa. RČSAV — Rozpravy Československé Akademie vĕd, Praha. Сrescente Crescente fide christiana // FRB, I, 1873, c. 183–190. Fuit Fuit in provincia Boemorum // FRB, I, 1873, с. 148–149. Бруно Bruno Querfurtensis. Passio sancti Adalberti episcopi et martyris. Redactio longior // MPH, NS, IV/2, 1969, c. 1–41. Гумпольд Gumpoldus episcopus Mantuanus. Vita Venzeslavi ducis Bohemiae // Н. Никольский. Легенда мантуанского епископа Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славянорусском переложении. Памятники древней письменности и искусства, вып. CLXXIV, СПб., 1909, c. 1–77. Канапарий Ioannus Canaparius (?). Passio sancti Adalberti martyris Christi. Redactio A // MPH, NS, IV/1, 1962, c. 1–47. Кристиан Christianus monachus. Vita et passio sancti Wenceslai et sanctae Ludmilae aviae ejus // Pekař J. Die Wenzels- und Ludmila Legenden und die Echtheit Christians. Praha, 1906, c. 88–125. Лаврентий Laurentius monachus. Passio s.Wenceslai regis // FRB, I, 1873, c. 167–182. 71 Литература Аверинцев Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. Блок Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. Гаспаров Гаспаров Б. Поэтика «Слова о полку Игореве» // Wiener slawistischer Almanach, 12. Wien, 1984. Данилевский Данилевский И. Н. Повесть временных лет. Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004. Живов Живов В. М. Slavia Christiana и историко-культурный контекст «Сказания о русской грамоте» // Из истории русской культуры, 1. Древняя Русь. М., 2000, с. 552–585. Зюмтор Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики. СПб., 2003. Карсавин Карсавин Л. П. Культура Средних веков. М., 1995. Конявская Конявская Е. Л. Автор в литературе Древней Руси (XI– XV в.). М., 2000. Кралик Кралик О. "Повесть временных лет" и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле // Труды Отдела древнерусской литературы, 19, 1963, с.177–207. Мочалова Мочалова В. В. Чешская литература // История литератур западных и южных славян, 1. От истоков до середины XVIII века. М., 1997, с. 604–672. Парамонова Парамонова М. Ю. Святые правители Латинской Европы и Древней Руси: сравнительно-исторический анализ вацлавского и борисоглебского культов. М., 2003. Поэтика С. С. Аверинцев, М. Л. Андреев, М. Л. Гаспаров, 72 П. А. Гринцер, А. В. Михайлов. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994, с. 3–38. Рогов Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности. М., 1970. СЗЛ Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М., 1999. Тюпа Тюпа В. И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса. Тверь, 2001. Флоря 1995 Флоря Б. Н. Кирилло-мефодиевские традиции в «Легенде Кристиана» // Byzantinoslavica, 1995, с. 571– 577. 2002 Флоря Б. Н. Христианство в Древнепольском и Древнечешском государстве во второй половине Х — первой половине XI века // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002, с. 190–266. Шмид Шмид В. Нарратология. Москва, 2003. Beneš Beneš Z. Historický text a historická kultura. Praha, 1995. Bielowski MPH I, Lwów, 1864, c. 189–222. Boyer Boyer R. An Attempt to define the Typology of Medieval Hagiography // Hagiography and Medieval Literature. ― A Symposium. Odense, 1981, c. 27–36. Brown Brown P. The Cult of Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1981. 73 Chaloupecký Chaloupecký V. Prameny X. století legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile // Svatováclavský sborník II, 2, Praha, 1939, c. 459–557 Curtius Curtius E. R. European Literature and the Latin Middle Ages. NY, 1963. Delehaye Delеhaye H. Les Légendes Hagiographiques. Bruxelles, 1955. Dobrovský Dobrovský J. Bořiwoj’s Taufe // Kritische Versuche die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen, I. Praha, 1803. Fiala Fiala Z. Hlavní pramen legendy Kristiánovy // RČSAV, Řada SV, 84, 1. Praha, 1974. Hamilton Hamilton B. The Monastery of S.Alessio and the Religious and Intellectual Renaissance in tenth-century Rome // Studies in Medieval and Renaissance History 2, 1965, c. 265–310. Heffernan Heffernan T. J. Sacred Biography: Saints and their Biographers in the Middle Ages. N.Y.-Oxford, 1988. Hodrová Hodrová D. Od hagiografie k románu // Hodrová D. Hledání románu. Praha, 1989, c. 84–96. Holinka Holinka R. Svatý Vojtĕch // Církev a vlast, III, Brno, 1947. Hošna 1986 Hošna J. Kníže Václav v obrazu legend // Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia LXXXV-1981. Praha 1986. 1997 Hošna J. Druhý život svatého Václava. Praha, 1997. Ingham Ingham N. W. Czech Hagiography in Kiev. The Prisoner Miracles of Boris and Gleb // Die Welt der Slaven, X, 2. Wiesbaden, 1965, c. 166–182. 74 Jakobson Jakobson R. Cyrilo-Metodĕjské studie. Praha, 1996. 1996 1953 Jakobson R. The Kernel of Comparative Slavic Literature // Harvard Slavic Studies, I, 1953. Cambridge, Mass., c. 1–71. Kalandra Kalandra Z. České pohanství. Praha, 1946. Kalivoda Kalivoda J. Historiographie oder Legende? “Christianus monachus” und sein Werk im Kontext der Kontext der mitteleuropäischen Literatur des 10th Jahrhunderts // Beiträge zur Alterskunde, 141. München-Leipzig, 2001, c. 136–154. Karwasińska Karwasińska J. 1958 Wojciecha, biskupa praskiego // Studia źródłoznawcze, 2, Studia krytyczne nad żywotami św. Warszawa, 1958; 5, Poznań, 1959. 1962 Karwasińska J. Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, żywot pierwszy. Wstęp // MPH, NS, IV/1, 1962, c. V–XLVIII. 1969 Karwasińska J. Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, żywot drugi. Wstęp // MPH, NS, IV/2, 1969, c. V–XXXI. Kleinschmidt Kleinschmidt H. Understanding the Middle Ages: The Transformation of Ideas and Attitudes in the Medieval World. Woodbridge, 2000. Kolberg Kolberg A. Die von Papst Silvester II edierte Passio S. Adalberti Episcopi et Martyris // Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 16, 1907, c. 557– 648. Kølln Kølln H. Die Wenzelslegende des Mönchs Christian // Den Kongelige Danske Videskabernes Selskab, Historisk- filosofiske Meddelelser 73, 1996. Copenhagen, 1996, c. 27– 36. Králík Králík O. Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha, 75 1969 1969. 1970 Králík O. K počátkům literatury v přemyslovských Čechách // RČSAV, Řada SV, 70, 6. Praha, 1960. Lawrence Lawrence C. H. Medieval Monasticism: Forms of Religious Life in Western Europe in the Middle Ages. L., 2001. Lewis Lewis C. S. The Discarded Image. Cambridge, 1964. Ludvíkovský Ludvíkovský J. Rytmické klausule Kristiánovy legendy a 1951 otázka jejího datování // LF, 76, 1951, c. 169–190. 1958 Ludvíkovský J. Novĕ zjištĕný rukopis Crescente fide a jeho význam pro datování Kristiána // LF, 6, 1958, c. 56–68. 1965 Ludvíkovský J. Great Moravia Tradition in the 10th century Bohemia and Legenda Christiani // Magna Moravia (Spisy Univerzity J.E.Purkynĕ v Brnĕ, filozofická fakulta, 102). Praha 1965, pp.525-566. 1973 Ludvíkovský J. Latinské legendy českého středovĕku // Sborník prácí filozofické fakulty Brnĕnské univerzity, E18/19, 1973/4, pp.267-268. 1978 Ludvíkovský J. Kristiánova legenda. Praha, 1978. Macurová Macurová A. Subjekty a text // Promĕny subjektu, I, Praha, 1994, c. 31–37. Martínková Martínková D. Sémantické poznámky ke Kristiánovĕ legendĕ // LF, 109, 1986, c. 72–75. Nechutová Nechutová J. Study of Latin Medieval Literature in Bohemia 1992 // LF 115, Suppl. II, 1992, c. 148–156. 2000 Nechutová J. Latinská literatura českého středovĕku do roku 1400. Praha, 2000. Pekař Pekař J. Die Wenzels- und Ludmila Legenden und die Echtheit Christians. Praha, 1906. 76 Pertz Monumenta Germaniae Historica, Scriptores IV, Hannover, 1841, c. 596–612. Petrů Petrů E. Zašifrovaná skutečnost. Brno, 1972. Pražák Pražák E. Poznámky k otázce postavení estetické funkce ve středovĕkém náboženském umĕní // Pražák E. Stati o české středovĕké literatuře. Praha, 1996, c. 13–17. Scholes Scholes R., Kellogg R. The Nature of Narrative. L.-Oxf.NY, 1966. Slavníkovci Slavníkovci ve středovĕkém písemnictví. Praha, 1987. Spunar Spunar P. Kultura českého středovĕku. Praha, 1986. Staber Staber J. Die älteste Lebensbeschreibung des Fürsten Wenzeslaus und ihr Ürsprungsort Regensburg // Acta II Congressus internationalis historiae slavicae SalsburgoRatisbonensis a.1967 celebrati (Annales Instituti Slavici, 6) Wiesbaden, 1970. Třeštík 1980 Třeštík D. Deset tezí o Kristiánovĕ legendĕ // Folia Historica Bohemica 2, 1980, c. 7–38. 1984 Třeštík D. Diskuse k předloze václavské legendy Laurentia z Monte Cassina // LF 107, 2, 1984, c. 85–89. 1988 Třeštík D. Kníže Václav nebo svatý Václav? // Československý časopis historický 36, 1988, c. 238–247. 2003 Třeštík D. Počátky Přemyslovců. Praha, 2003. Uhlirz Uhlirz M. Die älteste Lebenbeschreibung des heiligen Adalbert // Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1, Göttingen, 1957. Urbánek Urbánek R. Legenda tak zvaného Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských a václavských a její 77 autor. I. Praha 1947. II. Praha 1948. Večerka 1967 Večerka R. Jazykovĕdný příspĕvek k problematice staroslovĕnského písemnictví v Čechách // Slavia, 1967, 36, c. 421–428. 1976 Večerka R. Slavistický příspĕvek k latinské legendĕ Kristiánovĕ // Slavia, 1976, 45, c. 132–136. Veselský Veselský J. Diskuse k tajemstvím václavské Laurentiovy legendy (Pribislawa, ave nomine Pribisl, mulier aevi plena) // LF, 107, 1984, c. 77–84. Viktora Viktora V. K hagiografickému kontextu vojtĕšských legend // Viktora V. K pramenům národní literatury. Plzeň, 2003. Vilikovský Vilikovský J. Versus de passione s. Adalberti. Nĕkolik 1929 poznámek // Sborník filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavĕ, 6, 1929, c. 317–350. 1948 Vilikovský J. Písemnictví českého středovĕku. Praha, 1948. Vlasto Vlasto A. P. The Entry of the Slavs into Christendom. An Introduction to the Medieval History of the Slavs. Cambridge, 1970. Voigt 1878 Voigt H. G. Adalbert von Prag. Berlin, 1878. 1907 Voigt H. G. Brun von Querfurt, Mönch, Eremit, Erzbischof und Märtyrer. Stuttgart, 1907. Wood 1999 Wood, I. Wojciech-Adalbert z Pragi i Bruno z Kwerfurtu // Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk. Wydział historii i nauk społecznych. Prace komisji archeologicznej, 18. Tropami świętego Wojciecha. Poznań, 1999, c. 159–168. 2001 Wood, I. The Missionary Life: Saints and the Evangelisation of Europe 400–1050. L., 2001.