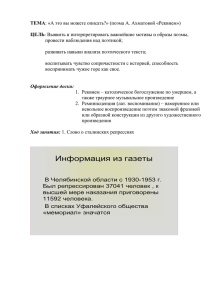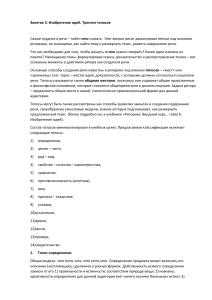Фонтанном Доме
реклама
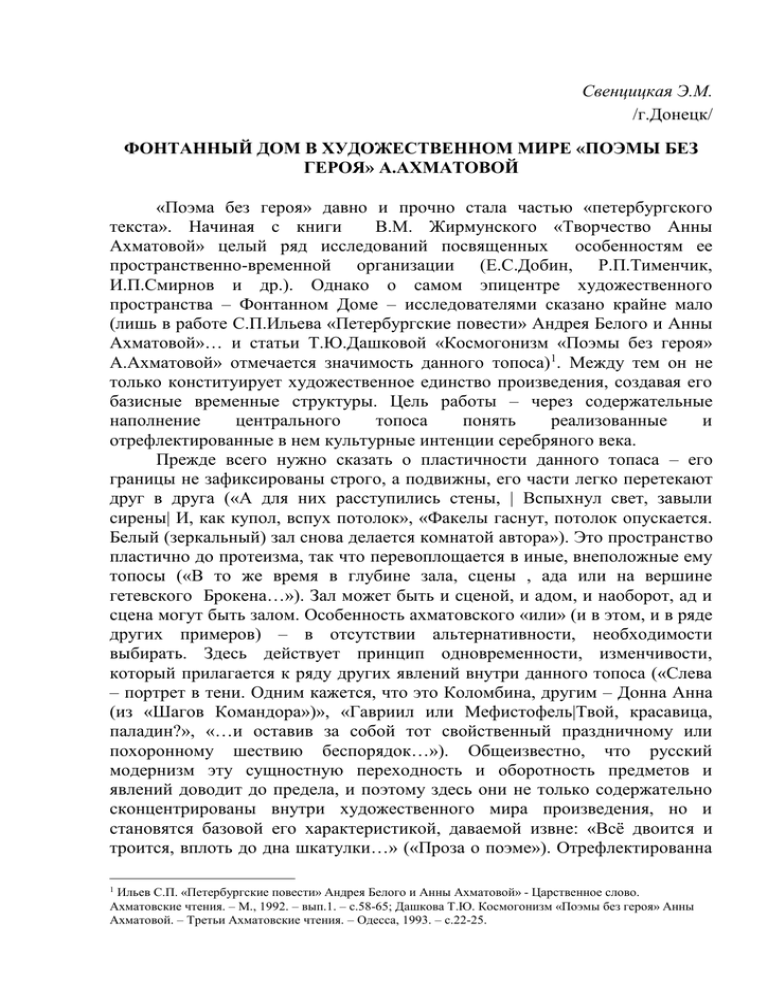
Свенцицкая Э.М. /г.Донецк/ ФОНТАННЫЙ ДОМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ «ПОЭМЫ БЕЗ ГЕРОЯ» А.АХМАТОВОЙ «Поэма без героя» давно и прочно стала частью «петербургского текста». Начиная с книги В.М. Жирмунского «Творчество Анны Ахматовой» целый ряд исследований посвященных особенностям ее пространственно-временной организации (Е.С.Добин, Р.П.Тименчик, И.П.Смирнов и др.). Однако о самом эпицентре художественного пространства – Фонтанном Доме – исследователями сказано крайне мало (лишь в работе С.П.Ильева «Петербургские повести» Андрея Белого и Анны Ахматовой»… и статьи Т.Ю.Дашковой «Космогонизм «Поэмы без героя» А.Ахматовой» отмечается значимость данного топоса)1. Между тем он не только конституирует художественное единство произведения, создавая его базисные временные структуры. Цель работы – через содержательные наполнение центрального топоса понять реализованные и отрефлектированные в нем культурные интенции серебряного века. Прежде всего нужно сказать о пластичности данного топаса – его границы не зафиксированы строго, а подвижны, его части легко перетекают друг в друга («А для них расступились стены, | Вспыхнул свет, завыли сирены| И, как купол, вспух потолок», «Факелы гаснут, потолок опускается. Белый (зеркальный) зал снова делается комнатой автора»). Это пространство пластично до протеизма, так что перевоплощается в иные, внеположные ему топосы («В то же время в глубине зала, сцены , ада или на вершине гетевского Брокена…»). Зал может быть и сценой, и адом, и наоборот, ад и сцена могут быть залом. Особенность ахматовского «или» (и в этом, и в ряде других примеров) – в отсутствии альтернативности, необходимости выбирать. Здесь действует принцип одновременности, изменчивости, который прилагается к ряду других явлений внутри данного топоса («Слева – портрет в тени. Одним кажется, что это Коломбина, другим – Донна Анна (из «Шагов Командора»)», «Гавриил или Мефистофель|Твой, красавица, паладин?», «…и оставив за собой тот свойственный праздничному или похоронному шествию беспорядок…»). Общеизвестно, что русский модернизм эту сущностную переходность и оборотность предметов и явлений доводит до предела, и поэтому здесь они не только содержательно сконцентрированы внутри художественного мира произведения, но и становятся базовой его характеристикой, даваемой извне: «Всё двоится и троится, вплоть до дна шкатулки…» («Проза о поэме»). Отрефлектированна Ильев С.П. «Петербургские повести» Андрея Белого и Анны Ахматовой» - Царственное слово. Ахматовские чтения. – М., 1992. – вып.1. – с.58-65; Дашкова Т.Ю. Космогонизм «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. – Третьи Ахматовские чтения. – Одесса, 1993. – с.22-25. 1 художественная продуктивность данного принципа, в дальнейшем мы увидим его проблемность. Свойства художественного пространства произведения и его базового топаса переходят на само произведение, в результате чего оно начинает мыслиться как отдельное пространство с аналогичными свойствами двойственности и множественности («Поэма опять двоится…», «Но когда я слышу, что Поэма и «трагедия совести», и объяснение, отчего в России произошла революция», и «Реквием по всей Европе» (голос из зеркала), трагедия искушения и еще невесть что, мне становится страшновато» («Проза»). Более того, сквозь все характеристики поэмы как отдельного пространства просматриваются не только элементы топоса дома (тут, возможно реализуется старая метафора «поэзия – дом»), но и элементы архитектуры Фонтанного Дома: («Эта поэма – своеобразный бунт вещей. Ольгины вещи, среди которых я долго жила, вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем…» «Иногда я вижу ее всю сквозную, излучающую непонятный свет (похожий на свет белой ночи, когда все светится изнутри), распахиваются неожиданные галереи, ведущие в никуда («Проза о поэме»)». Способом организации этой пространственности самой материяльной данности произведения – слова – является смена шрифтов. Думаю, именно здесь объяснение ахматовского высказывания «Моя поэма стоит между символистами… и футуристами». Игра шрифтами выглядит вполне футуристической, точнее было бы сказать что это живопись, растворенная в слове. Но одновременно живопись является способом конкретизации содержания данного слова, внесения в него новых смыслов. Ведь каждый курсив в поэме это прежде всего выход в другое время, взгляд из другого времени на происходящее в этом топосе (начиная со вступления «Из года сорокового…», и кончая строфой «Сколько гибилей шло к поэту..», и, естественно, послесловием). Интересно, что наиболее футуристическим выглядит отступление о Госте из будущего - с надписью «Белый зал» по вертикали. Это надпись необходима не только по тому, что объясняет появление Гостя из будущего («выходит из единого зеркала, traverse la sčene, И входит в другое «Балетное либретто»). В прозаической ремарке (начало главы) Белый зеркальный зал был лишь местом действия. Появление его еще раз в той же главе связано с подчеркиванием и вынесением за пределы реальности его звуковой и буквенной стороны – эти буквы уже не указывают на предмет как на своё означаемое, а сами арганизовуют отдельную пространственную структуру, внутри которой развёртывается своё действие («Звук шагов, тех, которых нету»…). Конечно, футуристической игра со шрифтами только выглядит, на самом деле это именно промежуток между символом и футуризмом, точнее, преодоление того и другого. Как музыка у символистов, так и смена у шрифтов у футуристов были, в сущности, способом разъятия семантики слова (пусть даже и с целью поиска неких ее первоэлементов как у Хлебникова, у Ахматовой же и музыка, и слово нужны для переведения слова в иной план, и, наоборот, воссоздания, воссоединения его смысла из равноправных и разновременных отрезков звучания. Белый зеркальный зал, безусловно, является центральным топосом внутри Фонтанного Дома. О зеркальности поэмы исследователи говорили много (В.Я.Виенкин, В.М.Жирмунский, Е.С.Добин, О.А.Седакова, Л.Л.Сауленко), добавлю лишь, что данный топос определяет временную концепцию произведения. Зримым становится бег времени, когда все уходит и повторяется вновь, как в зеркале. Восстановленный бег времени – единственный герой поэмы. Здесь действительно и буквально – бег времени через человека, но человек, впуская в себя все призраки и преступления времени, раскручивает ею в обратную сторону, заставляет ею двигаться вспять. Топос Фонтанного Дома служит для данного процесса опорой. Ведь это место в пространстве является точкой пересечения различных исторических эпох (и князей Шереметевых, и серебряного века, и жизненного настоящего поэта). Разные временна существуют там одновременно, и эту синхронность поэт органично чувствует, находясь здесь, когда прошлое, связанное с этим местом, наплывает на настоящее и время закручивается, подобно воронке. Эта воронка – не данность, а результат напряженного и целенаправленного усилия, и в результате взаимного оживляющего переосмысления разных времен получается не замкнутый круг, когда нет выхода из сплошного контрданса повторений, но спираль, в которой каждое из времён восстает во своей неразрушимой сущности. И прежде всего это время написания произведения – не столько в социально – политическом плане, сколько в плане протекания творческого процесса, отображенного в художественном мире произведения и связанного, опять-таки, с топосом Фонтанного Дома («первый раз она пришла в Фонтанный Дом…»). Следовательно, Фонтанный Дом – место пересечения реальности текста с внетекстовой реальностью. Через этот топос история создания произведения становится одним из элементов уже созданного поэтического мира, данным топосом обусловлен их взаимопереход и взаимодействие на границе, исполненной живыми и разнонаправленными связями. Внетекстовая реальность двоится, распадаясь на жизненную реальность поэта и реальность написания произведения, которая, войдя в художественный мир через этот топос, вновь и вновь отзывается в нем («Все в порядке – лежит поэма…», «Я пишу для кого-то либретто…» и т.д.).Возникает впечатление одновременности развития событий поэмы и слова о них, жизни и творческого ее осмысления. Форма произведения рождается на наших глазах, приобретая динамический характер, оформливая хаос жизни, который оказывается самоценным из-за своих творческих интенций. Подчеркну разницу. У символистов жизненная реальность тоже не третируется, но и не является самоценной. Она становится способом усложнения и обогащения реальности поэтической (в пределе это выражено у Брюсова: «Всё в жизни лишь средство| Для ярко-певучих стихов»). Жизненная реальность стягивается на художественную и как таковая перестает существовать, преобретая орудийный характер. У Ахматовой жизненная реальность остается автономной, но не утрачивает связей с порожденной ею художественной реальностью. Она глядит в нее, как в зеркало, узнавая себя и не узнавая, переструктурируясь в ней, переосмысливаясь. Никакая из этих реальностей не средство для другой, у каждой из них своя цель. Автор – тот, кто живет в них обеих, их не смешивая, не путая (а героиня – Путаница-Психея, и другие герои, появившиеся здесь,- тоже путаники). Судьбой, не выбранной по произволу, а выбирающей поэта, оказывается позиция сопряжения, собирания (но без смешения) разных судеб и времен, их породивших, трансформации «шума времени» в «бег времени». Топос Фонтанного Дома и является в данном случае топосом собирания, фокусом, точкой пересечения отдельных судеб и базовых интенций эпохи. Мотивация собирания всех («отказа никто не прислал» - («Балетное либретто»)) в одном месте является, во-первых, карнавал, во-вторых, Страшный Суд. Страшный Суд здесь не метафора, а реальность. Описаны приготовления («А для них расступились стены, | Вспыхнул свет, завыли сирены| И, как купол, вспух потолок…»), начало («Это всплески жесткой беседы, |Когда все все воскресают беды, |И часы все еще не бьют». И самое главное - о себе поэт говорит: «С той, с какой была когда-то…|До долины Иосафата|Снова встретиться не хочу…» Но в пространстве эта встреча явно происходит: «…войду сама я,|Кружевную шаль не снимая…» Одно и то же место – Фонтанный Дом – является и местом и Страшного Суда, и карнавала. Это – знамение времени, его релятивности, являющеися безусловным следствием той одновременности, оборотности, переходности, о которой говорилось выше. Более того, с какой-то точки зрения на Страшный Суд можно посмотреть как на карнавал, и карнавал можно воспринимать, как Страшный Суд. Место, где совместились эти противоположности, – дом, где живет поэт, пережив эту двойственность и продолжая ее переживать внутри своего сознания и в поэтическом слове, которое, собственно, конституирует эту двойственность и одновременно ставит ей предел, выявляя ее проблемность. В этом смысле очень лукава формулировка «тени тринадцатого года под видом ряженых». В карнавале, происходящем в Фонтанном Доме, невозможно четко определить, кто под чьим видом пришел на карнавал, где сущность и где личина, маска и лицо вполне могут меняться местами. Тем более, что все равно, «маска это, череп, лицо ли»: перед лицом гибели у маски и лица общая основа – череп. Смысл карнавала, когда «Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном», когда «Афродиты возникли из пены,|Шевельнулись в стекле Елены» - не просто воскрешение кочующих мифов. Зримой делается временная воронка и как в сороковом году воскресает тринадцатый, так в тринадцатом – более давние времена. Главная проблема, которая через карнавал отрефлектирована очень четко, - это проблема личности. На рубеже веков человек не знает как будто бы, что делать с самим собой, бросается из крайности в крайность, стремясь то к максимальному обособлению, то - столь же напряженно – к избавлению от своей неповторимости и слиянию с массой. Карнавальность эпохи и была, возможно, выявлением кризиса личности во всей его полноте. Ведь маска – это обособление от своего времени, и – сокрытие индивидуальности, превращение ее лишь в связь, в аналогию уже бывшему. Характерно, что в этой множественной сущности маски выбирать ничего не надо, все это существует одновременно. Перед человеком в серебряном веке – веер вожможностей, не все реализуются, но все проигрываются всерьез и до упора, все аналогии тут же воплощаются. В них человек и теряет себя, ощущая, как он похож на тех, кто уже были, и обретает, т.к. непохожесть в данном случае выступает рельефнее. Тут действительно концентрация проблемы, и в результате вот какого процесса возникает «петербургская чертовня». Когда «Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном» - еще ничего, но когда появляются «Санчо-Пансы и ДонКихоты», «в калистрах, магах, лизисках», «хаммураби, ликурги, солоны», всех стало много, и это страшно. То, что было единым и единственным, стало множественным. То, что жило в своей культурной парадигме и логике, - оказалось из нее изъятым и насильственно помещенным в иную систему связей. «Смертоносный пробуют сок», «безумья близится срок» - так чувствует себя маска, но так же чувствует себя и маскируемый, примеряя не только маску, но путь и судьбу – чужие, но не отказываясь при этом от своих. Между тем маска прорастает сквозь судьбу и сквозь лицо - до черепа(«Маска это, череп, лицо ли…»). В эту реальность можно войти без маски(«Ты, вошедший сюда без маски…»), но выйти из нее можно или маской, или черепом (или поняв, что череп – тоже маска). И проблема не в том, чтобы одеть маску, и не в том, чтобы маски менять (или не менять), – а в том, что бы в любой маски узнать в себя, узнать себя даже в черепе и от себя не отречься. Но – «Словно в зеркале страшной ночи|И беснуется, и не хочет|Узнавать себя человек». В этой ситуации неузнавания и главное устремление серебряного века – преобразование жизни по законам красоты – можно воспринимать как своего рода карнавал, переодевание жизни в искусство, а искусства – в жизнь. Это действительно не только невозможно, но и ненужно. «Поэма без героя», по-моему, демонстрирует возможность иного пути. Не частная жизнь должна развёртываться по законам искусства, ломая себя и приходя к гибели, не искусство «пойдет в народ» и станет бытом. Преобразование – совсем не обязательно переделка, вполне возможно взаимопроникновение двух противоположных начал, но с сохранением границ, без изменения смысловой доминанты, без сведения этих начал к одному. Красота в жизни может развертываться по законам жизни и наполнять жизнь собою, жизнь не может наполнять искусство своим быстротечным содержанием, реализовывать его метафоры, но по своим законам. Конечно, для этого жизнь не должна пониматься как нечто незавершенное и несовершенное, из чего нужно что-то создавать (как это делали романтики), и акт творчества – как способ пересоздания, демиургический акт. Жизнь в поэме понимается как некое будничное и многосубъектное творчество, создаваемое нами и создающее нас по своим законам, в осознании «нераздельности и неслиянности» с трансцендентным смыслом как своей трагедии.