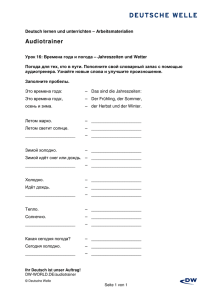Елена Шевченко
реклама
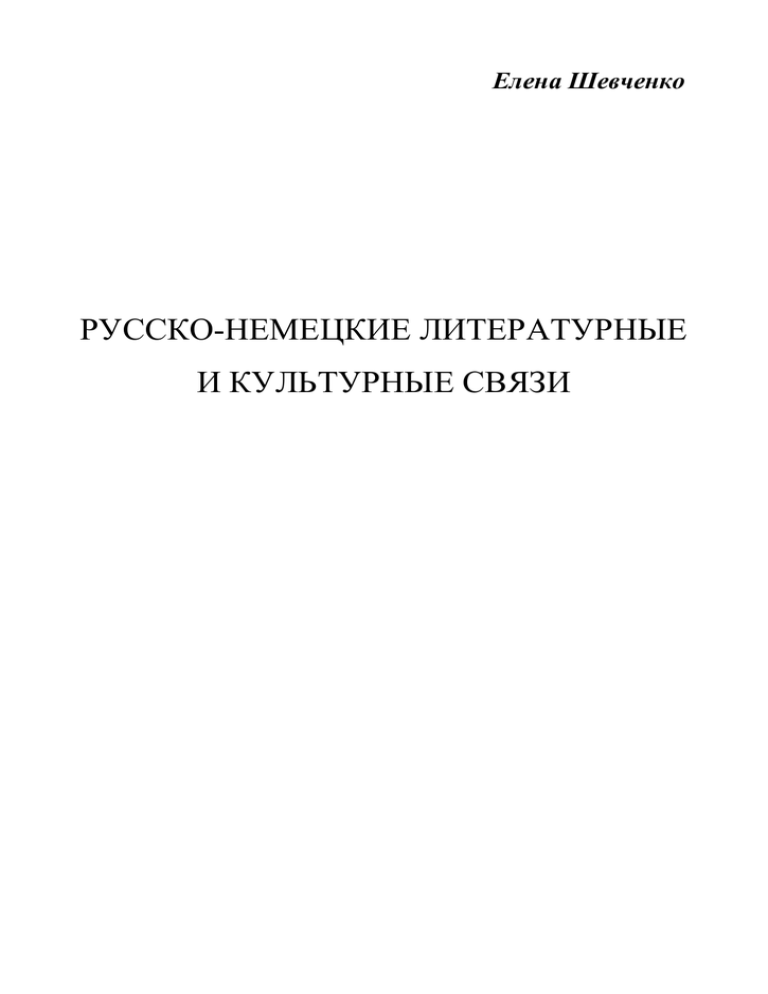
Елена Шевченко РУССКО-НЕМЕЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ От автора Вопрос о русско-немецких художественных параллелях, о литературных и культурных связях, взаимной рецепции явлений литературы и культуры России и Германии не первый год находится в центре внимания филологов, культурологов, историков и искусствоведов наших стран. Существует немало исследовательских трудов как по теории вопроса, так и по конкретным формам реализации литературных и культурных взаимодействий. Настоящая книга не претендует на глобальное освещение проблемы, она содержит ряд статей, в которых рассматриваются некоторые примеры художественной интерпретации феноменов иной культуры, «трансфера» посредством перевода или театральной постановки и, наконец, отдельные типологически родственные явления в литературе и искусстве России и Германии ХХ-ХХI вв. ОГЛАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯ КЛАУСА МАННА (Образ П.И.Чайковского в романе К.Манна «Патетическая симфония») ………………………………………………………с. 4 ОБРАЗ РОССИИ В ТРАВЕЛОГЕ ЭЛМАРА ШЕНКЕЛЯ «СИБИРСКИЙ МАЯТНИК»………………………………………………………………………с.14 СТИХИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА В РАССКАЗЕ ЭЛМАРА ШЕНКЕЛЯ "ШВАРЦВАЛЬДСКИЙ ПАССАЖ"…………………………………………….с.24 ЭЛМАР ШЕНКЕЛЬ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК…………………………………………………………………………….. с. 31 БРЕХТ НА СЦЕНАХ КАЗАНСКИХ ТЕАТРОВ…………………………….....с.51 О НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВКАХ НЕМЕЦКОЙ «НОВОЙ ДРАМЫ» В РОССИИ (К проблеме сценичности современной драматургии)…………….с.59 ОБРАЗ ГОРОДА В ДРАМАТУРГИИ ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА И АЛЬБЕРТА ОСТРЕМАЙЕРА………………………………………………………………….с.68 ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО НЕМЕЦКОЙ И РОССИЙСКОЙ «НОВОЙ ДРАМЫ»………………………………………………………………………….с.76 БИБЛИОГРАФИЯ……………………………………………………………… с.88 ВЕРСИЯ КЛАУСА МАННА (Образ П.И.Чайковского в романе К.Манна «Патетическая симфония») ...Вы говорите, что тут нужны слова. О нет! Тут именно слов-то и не нужно, и там, где они бессильны, является во всем всеоружии своем более красноречивый язык, то есть музыка. П. И. Чайковский Всякое гениальное явление в искусстве знаменует собой рождение новой вселенной, центром, «верховным божеством» которой оно становится, вселенной, состоящей из разновеликих и разнозначимых планет-спутников, одни из которых благоговейно и самоотреченно отражают его свет, другие, преломляя, направляют его в новое русло, третьи, оплодотворенные космической энергией свечения, обретают собственную, неповторимую жизнь. Роман немецкого писателя Клауса Манна «Патетическая симфония» («Symphonie Pathétique“) — это маленькая живая планета на вселенской орбите Шестой симфонии Чайковского, попытка разгадать гениальную загадку, прикоснуться к тайне «великой исповеди души в звуках». Клаус Манн (1906—1949) — художник необычайно сложной судьбы. Сын знаменитого писателя Томаса Манна, он получил доступ к величайшим культурным богатствам, вырос в уникальной духовной ауре. Но, с другой стороны, роль сына великого отца, положение «в тени титана» стали трагической участью художника. Самоценность его дарования подвергалась сомнению на протяжении всей жизни писателя. Талант К. Манна и вся его сложная, мятущаяся, изломанная жизнь неизменно соизмерялись с гением и безупречной добропорядочностью отца. Французский романист Мишель Турнье так оценил это «противостояние»: «...лопнувшая, разорванная, задыхающаяся жизнь К. Манна была, возможно, ответом на слишком сдержанную жизнь его отца»1 [47, 297]. Томасу Манну, как полагает писатель, потому удалось сохранить респектабельность северного буржуа, оставаясь безупречной «моделью» в социальном, политическом, семейном плане, что в своем творчестве он дал волю всем демонам плоти и духа, в то время как Клаус Манн, не обладая гением отца, жертвовал «демонам» собственную жизнь. Трудно оспаривать тот факт, что Томас и Клаус Манн — несоизмеримые по масштабу величины в искусстве. Но несомненно и то, что К. Манн — писатель, имеющий свое неповторимое лицо, традиционный и самобытный одновременно. Об этом, кстати, как нельзя лучше сказал сам Томас Манн в письме к сыну от 22.07.39, выражая глубокое удовлетворение по поводу прочитанного им романа Клауса «Вулкан» („Der Vulkan“): «Ты, конечно, наследник, но, в конце концов, наследовать надо уметь, это, в конечном итоге, культура» [37, 390]. Придя в литературу «капризным вундеркиндом», «взбалмошным, эксцентричным эстетом», К. Манн со временем становится серьезным художником, пытающимся осуществить в своем творчестве «синтез морали и красоты». Социальные катаклизмы — приход к власти нацистов, вынужденная эмиграция, начало второй мировой войны — ускорили процесс гражданского и художественного возмужания писателя. В годы эмиграции он создает свои лучшие произведения — романы «Патетическая симфония» (1935), «Мефистофель» (1936), «Вулкан» (1939). Художественная палитра К. Манна весьма разнообразна. На разных этапах творчества он обращается к лирике, драме, новелле, роману. Писателя интересуют и великие люди прошлого, и его современники. Но к каким бы героям (будь то Александр Македонский, Сократ, Чайковский или вступающий в «сделку с дьяволом» актер Третьего рейха), к какому бы жанру, к какой бы теме или проблеме ни обращался Клаус Манн, он всегда пишет, прежде всего, о с е б е . Творчество писателя — это единая, непрерывная исповедь, иногда, быть может, не идеальная по форме, но всегда предельно искренняя, страстная и 1 Здесь и далее перевод мой – Е.Ш. неизменно - скорбная. Роман «Патетическая симфония» в этом отношении, пожалуй, одно из самых характерных произведений К. Манна. Выбор героя писателем не был случаен. К. Манн чувствовал глубокое духовное родство с русским композитором. В книге воспоминаний «На повороте» («Der Wendepunkt») он пишет: «Его невротическое беспокойство, комплексы и экстазы, его страхи и взлеты, почти невыносимое одиночество, в котором он должен был жить, боль, которая снова и снова стремилась превратиться в мелодию, в красоту — все это я мог описать, ничто не было мне чуждым» [39, 429]. Одиночество, отчужденность, бесприютность были хорошо знакомы самому Клаусу Манну. Тем больший отклик находил в его душе образ Чайковского: «Он был эмигрантом, ссыльным — не в силу политических причин, а потому, что нигде не чувствовал себя дома, нигде не был дома. Он страдал везде… Не только его эрос изолировал его, делал аутсайдером, почти парией, но и характер его таланта, его художественный стиль…» [там же]. Однако сразу следует оговориться, что восприятие К. Манном феномена Чайковского было весьма своеобразным. Это отчетливо видно из следующего высказывания писателя: «Конечно, я знаю и то, что композитор, написавший слишком слащавую сюиту «Щелкунчик» и слишком эффектное полотно «1812», — не Бетховен, не Бах. Но какой рассказчик отважился бы подступиться к этим титанам? У меня не хватало мужества. А перед Петром Ильичом я не испытывал робости. Именно спорность его гения, надломленность его характера, слабости художника и человека сблизили меня с ним, сделали его для меня понятным, достойным любви» [39, 428-429]. Подобная оценка творчества Чайковского явно связана с германоцентристским подходом во взгляде на культуру, когда любое музыкальное явление рассматривалось сквозь призму национальной традиции, в частности, оценивалось с точки зрения бетховенского симфонизма. Отдавая дань этой традиции, писатель вместе с тем восстает против нее, сознательно выбирая героем не Баха, не Бетховена, не Моцарта, а (как ему казалось!) художника «со слабостями спорного гения», полного сомнений в себе, творчество которого вызывало в обществе самые ожесточенные споры, то есть художника, близкого ему по природе дарования и характеру личности, а в чем-то и изломами своей судьбы. Для К. Манна, мучительно сознававшего себя «звездой второй величины», этот мотив в романе стал одним из ведущих. Создавая роман о Чайковском, К. Манн опирался на документальный материал. В основу его легла, в частности, книга Модеста Чайковского «Жизнь Петра Ильича Чайковского». Но документ для писателя — это, прежде всего, повод для собственной интерпретации личности Чайковского. Автор в первую очередь делает акцент на тех свойствах натуры композитора, которые были присущи ему самому, стремясь тем самым найти оправдание собственным психологическим комплексам. В результате книга о Чайковском, написанная в жанре биографического романа, парадоксальным образом превращается в автобиографию писателя. В письме к сестре Монике от 30.VII.35 Клаус Манн так и говорит: «…я смог внести в жизнь моего трогательного Петра Ильича поразительно много из своей собственной жизни…» [38, 117]. Концепцию личности Чайковского писатель строит на трех «столпах» Эрос, Смерть и Бог. Исключительное место при этом занимает категория эроса. Факт неординарности эротической природы П. И. Чайковского, давно известный на Западе, в нашей стране стал освещаться сравнительно недавно (Ю. Нагибин - «Чайковский: финал трагедии»; Б. С. Никитин - «Чайковский» и др.). В силу необычайной деликатности этой темы вообще, а тем более в связи с национальной значимостью имени композитора вопрос этот требует особой корректности. Следует сразу же отметить, что прямых «выходов» на эту тему в содержании, в сюжете романа К. Манна немного, но зато он буквально соткан из намёков, перенасыщен ими. А намек, как известно, может особенно тонко передавать ощущение непрестанного страдания, неослабевающей муки. Скрытое присутствие эроса чувствуется с самых первых страниц романа (смущение героя в связи с появлением молодого кельнера). Эротически окрашены и отношения Чайковского с музыкантами А.Зилоти и Ф.Бузони, К.Шиловским, слугой Алексеем Софроновым. Тема соблазна в романе связана с образом Злого Ангела – Алексея Апухтина, друга отрочества и юности композитора, с порочным очарованием которого Чайковский борется всю жизнь. Но во всем неизменно присутствует отношение самого К. Манна, чувствуется глубинная внутренняя связь между автором и его героем. Так, следующий монолог Чайковского в романе вполне мог бы принадлежать самому писателю: «Я никогда не любил женщин так, как их следует любить… Ах, как часто я вынужден был скрывать свое бессмысленно расточаемое чувство, настолько неприемлемым и непонятным было оно для тех, кого я жаждал одарить и обогатить им. Иногда, редко, его разделяли: в одном случае, вероятно, дело было в сострадании, в другом же - я должен был просто платить наличными…» [40, 111]. Эротические переживания Чайковского неизменно связаны со страданием, чувством одиночества, исключительности. Влечение композитора не только не принимается обществом и теми, на кого оно направлено, но и для самого героя является источником жестоких внутренних противоречий, мучительной борьбы мотивов. Будучи проявлением его природы, оно вступает в противоречие и противоборство с сознанием, подчиненным понятию «норма», с религиозными и нравственными установками, вызывая у героя ощущение собственной аномалии, недозволенности своих наклонностей. Чувство Петра Ильича к племяннику Владимиру Давыдову — наиболее трагическая страница его душевных переживаний. Характеризуя его, К. Манн вносит в понятие эроса платоновское начало, видя в нем не грубое сексуальное переживание, а высокое десексуализированное личность Чайковского в романе приобретает отношение. В результате возвышенный, трагический и глубоко духовный характер. Композитор от природы наделен чрезвычайной потребностью и умением любить. Но неординарная направленность его эротического чувства, эта необычайно жестокая шутка природы, уже сама по себе являющаяся драмой, в данном случае наслаивающаяся на сверхранимый характер личности, становится для героя источником невероятных мучений, вечной болью раздираемой души. И здесь спасительным, освобождающим, раскрепощающим началом является музыка. Подавленные, «вытесненные», не реализованные эротические импульсы находят выход, прорываются наружу, преобразуясь в творческую энергию. Только в музыке герой может выразить всю глубину и трагизм, все мельчайшие оттенки своих чувств. Только в музыке он может быть самим собой, не стесняясь своей природы, не подавляя ее. Наряду с эросом важное место в подходе К. Манна к личности и творчеству Чайковского уделено категории смерти. Если Чайковский, по словам Б.Асафьева, боялся смерти, «но со страстным любопытством в нее всматривался всю жизнь» [1, 221], то для К. Манна с самой ранней юности смерть обладала необычайной притягательной силой. Обстоятельства смерти композитора вот уже третье столетие обрастают все новыми слухами и домыслами, однако вполне доказательное подтверждение версии самоубийства так и не найдено. Что касается К. Манна, то мысль о самоубийстве не покидала его даже в самые творчески и социально активные годы. Три раза писатель пытался уйти из жизни, и в мае 1949 года осуществил свое намерение. Слегка сдвигая акценты, К. Манн и в этом вопросе высвечивает, прежде всего, то, что составляло суть его собственных переживаний. А утверждение писателя о том, что Чайковский «ничем не был занят так много и так глубоко, как смертью» [40, 124], следует отнести, в первую очередь, к самому автору. Так, следующие слова героя романа представляют собой приведенную почти без изменений цитату писателя из отклика на смерть друга Рики Халльгартена: «Так много моих друзей собралось там. Благодаря им чужая страна становится мне знакомой и близкой. Там, где собрались друзья, и мы чувствуем себя, как дома» [40, 292]. Что касается кончины Чайковского, то писатель однозначно толкует ее как самоубийство: «Утешения нет. Безутешный знаменитый Петр Ильич умрет своей безутешной таинственной смертью; он совершит самоубийство, хитро скрыв его…» [39, 430]. Эротические мотивы и мотив влечения к смерти в романе неразрывно связаны. Страдания композитора, обусловленные особым характером его влечения, заставляют его желать смерти, видеть в ней единственную возможность избавления и успокоения. Влечение к смерти, согласно версии писателя, является одной из внутренних скрытых «пружин» творчества композитора. Чайковский понимает, что пока он не выполнил свое жизненное назначение, не создал поистине великое произведение искусства, смерть, в которой он видит награду за труды и муки, ему дарована не будет. Отсюда одержимый труд композитора, приближающий его к «темной и прекрасной цели». Влечение к смерти сублимируется в творческую энергию. Категории эроса и смерти, в свою очередь, теснейшим образом связаны у К. Манна с религиозными мотивами. И опять мы наблюдаем уже знакомую переакцентировку. Отвергая христианскую догму, Чайковский испытывал глубокую любовь к образу самого Христа. Так, рассуждая о Бетховене и Моцарте, он сравнивал свое отношение к ним с отношением к Богу Саваофу и Христу: «…Я питал… к нему (Богу Саваофу — Е. Ш.) чувство удивления, но вместе и страха. Он создал небо и землю. Он и меня создал, — и все-таки я хоть и пресмыкаюсь перед ним, — но любви нет. Х р и с т о с , напротив, возбуждает именно и исключительно чувство л ю б в и . Хоть он был Б о г, но в то же время и человек. Он страдал, как и мы. Мы ж а л е е м его, мы любим в нем идеальные ч е л о в е ч е с к и е стороны» [28, 3, 132]. Чайковскому, таким образом, чужд образ Бога-судьи, Бога карающего. «В такого бога я не верю» [там же], — признавался он. Религиозное чувство Клауса Манна также характеризуется, с одной стороны, свободой от суеверия и обскурантизма (ему, как и Чайковскому, глубоко чужда церковная догма), с другой, — «трепетом перед тайной жизни и смерти». Но восприятие Бога у писателя иное. Бог, в представлении К. Манна, есть Высшая Инстанция, распоряжающаяся жизнью и смертью человека, посылающая ему невероятные страдания и унижения, с тем, чтобы тот, пройдя через них, осуществил предначертанную ему «правду жизни». Своеобразие религиозного сознания писателя во многом определило роль божественного начала в романе «Патетическая симфония». К. Манн раскрывает ее в самом начале, облекая в форму внутреннего монолога Чайковского. Герой чувствует себя одиноким, ибо «Таинственный», «Великий», «Далекий» и «Строгий» не внемлет его мольбам, сохраняя ледяное спокойствие и равнодушие. Композитор приемлет это со смирением: «Я верю в то, что Он преследует определенную цель во всем, что причиняет нам, что возлагает на наши плечи. Да, я верю в Него, в Его ужасную справедливость. Я знаю, Он — возвышенный и непоколебимый свидетель моих маленьких битв и поражений. Он не смеется над нами, но и не плачет о нас. Он справедлив и ждет. Он хочет добиться от нас правды нашей жизни путем ужасных наказаний…» [40, 113]. Такое отношение к Богу характерно скорее для самого К. Манна. Его рассуждения о Боге в книге «На повороте» и по сути, и по стилистике, а в некоторых местах и просто буквально совпадают с приведенным выше монологом композитора в романе: «Он терпелив. Он ждет. Он ждет и слушает, неподвижный, непоколебимый… У него есть время… Он велик… Знаешь, что ждет тебя? Ты будешь валяться в пыли у ног его Величия… Раны, слезы, обманчивые взлеты, несбывшиеся надежды, все это ты переживешь, выстрадаешь, ты будешь трепетать и ломаться под его мощной рукой… Он требует правды, квинтэссенции, сердца и сущности нашего существования. Ничем меньшим он не удовольствуется…» [39, 153]. Что же представляет собой «правда жизни», которой Бог добивается от человека ценой его жестоких страданий? Для художника «правду, квинтэссенцию, сердце и сущность жизни», по мысли автора, составляет творчество. Бог посылает герою тяжкие муки и испытания («смертельную рану» эроса, уход из жизни близких, разрыв с самым дорогим другом — Н. Ф. фон Мекк, боль одиночества), с тем, чтобы, преодолев их, тот создал поистине великое произведение искусства, и лишь по завершении его дарует ему покой смерть. Таким произведением в романе становится Патетическая симфония. «Преображенный в звуки смысл жизни», «великая исповедь», воплотившая все ее мимолетные радости и бесконечные страдания, большую трагическую любовь, борьбу и смерть, последняя, итоговая симфония композитора — так определяет писатель место этого произведения в жизни и творчестве Чайковского. Такова и его роль в романе. Но интересно то, что К.Манн не ограничивается этим: он пытается пойти дальше и сам роман уподобить Шестой симфонии, связать его с содержанием последней. Отсюда и название книги, и явная «перекличка» тематических пластов обоих произведений, и даже попытка писателя при подготовке американского издания романа перераспределить художественный материал соответственно четырем частям Шестой симфонии. Исходя из глубоко личного, исповедального характера «Патетической симфонии», К. Манн попытался в эпической форме воссоздать жизнь Петра Ильича, а факт отсутствия программы симфонии предоставил писателю неограниченную свободу толкования биографического и музыкального материала, позволив ему создать самостоятельную версию этой программы, посвоему «разгадать» загадку Шестой симфонии Чайковского. Литературное и музыкальное произведение — это развивающиеся во времени, процессуальные произведения искусства. С этой точки зрения «Патетическая симфония» К. Манна — удивительный роман: в нем очень мало внешнего действия, оно почти сведено к нулю. Хорошо известные события жизни Чайковского (концертная деятельность, работа над сочинениями, встречи с друзьями и знакомыми, гастрольные поездки) происходят как бы на периферии романа. Они носят «ритуальный» характер и связаны исключительно с обыденной стороной жизни композитора и его окружения. Рутинные обстоятельства начинают интересовать автора только тогда, когда наружу прорывается действие внутреннее, связанное с движением мира эмоций героя. Момент соотношения внешнего и внутреннего действия исключительно важен. На поверхности — жизнь преуспевающего композитора, внутри — насмешка над ней. Таково скрытое трагическое противоречие между двумя полюсами, которые почти не соприкасаются. Для них характерна контрапунктическая связь, являющаяся проявлением принципа полифонии, реализованного в романе. У героя Клауса Манна в организации внутренней трагедии участвуют не люди, а различные силы. Это, как мы помним, прежде всего, Эрос, Бог и Смерть. На протяжении действия романа они вступают в сложные взаимодействия, то устремляясь в одно русло, то выступая как антиподы. Схватка внеличностных сил, их крайняя персонификация — вот еще один момент, особенно сближающий Клауса Манна с симфонизмом Чайковского. Внешне автор старается подвести эти трагические столкновения под эротическую концепцию, близкую к фрейдизму. Но влияние жизни и творчества Чайковского на писателя, очевидно, столь велико, что образ композитора приобретает в романе более широкое, общефилософское звучание. Хотя К. Манн и характеризовал Чайковского как «спорного гения», «звезду второй величины», подсознательно, в силу своей глубокой музыкальной культуры, чуткости и тонкости восприятия он, по – видимому, осознал, что Чайковский — глобальная личность, которой дан космический слух. Роман К.Манна показывает, что писатель глубоко проник в сложный и неординарный духовный мир «Патетической русского симфонии». композитора, При всех столь ярко отразившийся субъективных натяжках в и «автоориентации», Клаусу Манну удалось создать прекрасный и трогательный образ художника, его трагической жизни, борьбы и гибели. ОБРАЗ РОССИИ В ТРАВЕЛОГЕ ЭЛМАРА ШЕНКЕЛЯ «СИБИРСКИЙ МАЯТНИК» Элмар Шенкель (1953), современный немецкий писатель, переводчик, специалист по английской литературе, живёт в Лейпциге, где возглавляет Институт англистики Лейпцигского университета. Э. Шенкель - автор сборников рассказов "Трещины в стене" („Mauerrisse“, 1985), "Блайнау ффестиньёг" („Blaenau Ffestiniog“, 1987), "Лейпцигские пассажи" („Leipziger Passagen“, 1996), поэтического сборника "Трансформация синевы" („Blauverschiebung“, 1992), романов "Вестфальский стрелок" („Der westfälische Bogenschütze“, 1999), «Медленное вращение» („Leise Drehung“, 2009), многочисленных эссе - "Смысл и чувства" („Sinn und Sinne“, 1991), "Г. Уэллс пророк в лабиринте" (H.Wells - Prophet im Labyrinth“, 2001), „Эликсиры письма – алхимия и литература» („Die Elixiere der Schrift - Alchemie und Literatur“, 2003), „Электрическая лестница в небо, или Эксцентрики в науке» („Die elektrische Himmelsleiter. Exzentriker in den Wissenschaften“, 2005) и др. В 2002 г. вышла первая публикация писателя на русском языке - рассказы разных лет, объединённые в сборник "Школа забвения" („Schule des Vergessens“), в 2004 году была издана книга "Языковой цирк. Тексты развлекательные и не совсем" („Sprachzirkus – Texte für und gegen den Spaβ“), а в 2006г. – книга записок и афоризмов «Когда Я опаздывает» („Ichverspätungen“). Особое место в творчестве Э.Шенкеля занимают путевые заметки или травелоги: "В Японии. Путевой дневник" („In Japan. Reisetagebuch“, 1986), „Массачусетс" («Massachusetts», 1990), «Улыбка и два вопросительных знака. Индийский путевой дневник» („Ein Lächeln und zwei Fragezeichen. Indisches Reisetagebuch“, 2001) и «Сибирский маятник» („Das sibirische Pendel“, 2005). Последняя книга посвящена путешествиям автора по России в период с 1997 по 2004 гг., то есть в постперестроечный период. Шенкель описывает свои поездки в Москву, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Калугу, Белоруссию, путешествия по Сибири, Уралу и Волге. Каков же образ России, складывающийся на страницах травелога Шенкеля? Известно, что в литературе путешествия ведущая роль принадлежит самому путешественнику, автору и повествователю. Образ увиденного будет напрямую зависеть от его позиции, от того, насколько он непредвзят или, напротив, является заложником стереотипов, от того, стремится ли он к созданию объективной картины и делает ставку на непосредственные впечатления, корректирует сложившиеся стереотипы или ищет подтверждения собственным предрассудкам и предубеждениям. Элмар Шенкель – интеллектуал, человек мира, космополит, большую часть своей жизни проводящий в путешествиях, открытый новому и толерантный. Приезжая в ту или иную страну, он избегает «туристических аттракционов», много общается с людьми, стремится погрузиться в гущу жизни и в результате создать достоверный образ страны и её народа. Но понятно, что и у такого, казалось бы, претендующего на объективность автора существует определенный горизонт ожидания, определенное представление, сформированное СМИ, литературой и прочими факторами. Что касается России, то знакомство с ней Шенкеля началось задолго до его приезда в страну. По собственному признанию писателя, его первые впечатления связаны с литературой 15-16 веков. Они-то ещё в юности подвигли его на изучение русского языка. Подчеркивая, что русская литература всегда имела для него огромное значение, среди своих литературных пристрастий Шенкель, в первую очередь, называет Гоголя, Булгакова, Мандельштама. Именно литература во многом сформировала представления писателя о стране и, в частности, дала толчок к его путешествию по Сибири. Но одновременно он хочет освободиться от навязанных ему литературных клише: «Мне хотелось в безлюдные края, в тундру и тайгу Конзалика или Живаго, на край цивилизации, я хотел оказаться вдали от всех книг, от печатного слова…Оно постоянно вводит нас в заблуждение и морочит переживаниями, которых мы лишены. Я хотел в чащу, в Сибирь, чтобы обрести свободу»2 [42, 61-62]. Сам автор признает, что и западные СМИ настойчиво формируют вполне определенный образ России, вызывающий страх и жалость: «Русские, как мы узнаем из телевидения, в основном, живут плохо. Кроме того, они жестоки, посмотри на Чечню или на то, как они забивают друг друга в армии. У них все замерзает, водопровод плохой, и им нечего есть. Если бы у них только были такие же дороги, больницы и обеспечение, как у нас, они были бы так же счастливы, как и мы» [42, 42]. Но самая сильная связь Шенкеля с Россией осуществлялась через отца, который во время второй мировой войны воевал на русском фронте, попал в плен и впоследствии много рассказывал сыну о России и русских. Отец передал сыну по наследству следующее представление о русском человеке: «Русский достоин восхищения, опасен, дик, непредсказуем, страстен, ловкий импровизатор, он ближе к земле» [42, 10]. Образ врага, однако, был осенен ореолом не ненависти, а любви. Поэтому, когда на конференции в Глазго профессор Шенкель познакомился с четырьмя образованными и совершенно европейскими дамами, казанскими литературоведами, он с радостью принял приглашение приехать в Казань. Так началась российская Одиссея нашего автора. Важной фигурой в освоении путешественником незнакомой страны, как известно, является посредник. Поскольку знания русского языка Шенкеля ограничивались немногими обиходными выражениями, именно посредники, в роли которых выступали в основном интеллигенты, представители академической среды, в первую очередь, и формировали его представление об образе жизни русских, их национальном характере, взглядах, привычках и пр. Их роль автор сам подчеркивает на страницах книги: «Местные – это входной билет для чужака, правда, действует он в обе стороны. Без чужака местные многое забыли бы или просто не увидели» [42, 82]. 2 Здесь и далее перевод мой – Е.Ш. Интересно, что самоидентификация интеллигенции, как правило, несет на себе отпечаток литературности и мифологизации, и особенно это ощутимо, когда приходится «разъяснять» себя иностранцу. В результате миф, бытующий в западном сознании, причудливым образом переплетается с собственным национальным мифом, создавая двойное напряжение. Шенкель зорко фиксирует картины русской жизни, а его друзья и знакомые растолковывают ему ее устройство. Так, Марина, англист из Нижнего Новгорода, через Толстого и Достоевского разъясняет ему полюса русского бытия: «Он (Толстой) искал гармонии, чтобы вырваться из русского хаоса» [42, 22]. Достоевский в ее глазах воплощает противоположное начало: «Он воспевает хаос, русскую душу и ее слабости» [там же]. Мать Марины, сибирячка Рита, некогда инженер-машиностроитель, ныне – астролог и экстрасенс, продолжает мысль дочери: «В разнице между Достоевским и Толстым проявляется полярность русской души, разрываемой между хаосом и порядком, между диссонансом и гармонией. Достоевский олицетворяет вечное искушение. Кто читал Толстого и Достоевского и сделал выбор в пользу Достоевского, должен знать, на что идет» [там же, 74]. Марина объясняет отсутствие традиции театра абсурда в русской литературе следующим образом: «Это потому, что здесь изначально все абсурдно» [42, 41]. Возвращаясь с прогулки по Раифскому монастырю, Элмар Шенкель и казанский литературовед Вера узнают от местных старушек, что автобусы по субботам не ходят, и когда через несколько минут из ниоткуда внезапно появляется автобус, Вера произносит: «Такие чудеса случаются только в России» [42, 34]. Историк Сергей, муж Марины, знакомит Э.Шенкеля с неким Геннадием, мужчиной с золотыми зубами, начальником железнодорожной станции Линда, представляя его как «настоящего русского»: Геннадий когда-то был чемпионом московской области по метанию веса, завоевал кубок, который давно пропил, сейчас он на глазах немецкого гостя купается в ледяной воде, а потом с ветерком мчит его на дачу на своем тракторе, причем выясняется, что он при этом сильно пьян. «Настоящий русский, - одобрительно говорит Сергей, -… Он такой, в дерево врежется, только если трезвый [42, 44], ….Геннадий такой, ему нужен толчок, настоящий русский. Если его не подтолкнуть, упьется до смерти» [там же, 46]. А бабушка Сергея утверждает: «Восемьдесят процентов русских блаженные, святые идиоты, без царя в голове» [там же]. Маринин сосед по даче, пожилой человек, похожий на Ельцина, когда-то туристом посетил Потсдам, Дрезден и Магдебург и в каждом городе уничтожил по бутылке водки: «Мы русские оставляем следы: «Здесь я был, здесь я пил» [42, 44]. Особый пласт составляют пословицы и поговорки, с которыми знакомят писателя его русские друзья: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», «Русский долго запрягает, да быстро едет» и т.д. Так, благодаря посредникам подтверждается устойчивое представление о хаосе и абсурдности российского бытия, о чуде как важной его категории, о «достойном восхищения, опасном, диком, непредсказуемом, страстном», изобретательном русском, при этом святом, взыскующем гармонии и истины, ленивом и по большей части пьяном. Сцены российской действительности, которые наблюдает сам автор, во многом работают на этот образ. Соответственно в книге описано немало абсурдных ситуаций. Аспирант Виталий показывает Элмару Шенкелю Казань, сегодня в 14 часов у него помолвка, в ответ на тревожное напоминание гостя, молодой человек вальяжно отвечает: «Можем не спешить. Без меня все равно не начнут» [42, 12]. Когда автор с друзьями, возвращаясь в город с дачи, идет лесом по направлению к вокзалу, из-за огромной кучи мусора, наваленной под деревьями, появляется пьяный с розой в руках, декламирующий стихи. На алтайской бензоколонке нет бензина. Последний отрезок пути перед Барнаулом представляет собой раздолбанную дорогу, на которой машины теряют детали; на «Мерседесе», на котором едет Шенкель, болтается и вот-вот отвалится выхлопная труба; в довершение они сворачивают на дорогу, по которой проезд запрещен, навстречу им попадается милицейский автомобиль, но милиции «лень связываться с сумасшедшими» [там же, 73]. Сибирячка Алла Михайловна печет пироги для похудания и т.д. В российском бюрократическом хаосе, сопровождающем регистрацию иностранного гостя, оформление на таможне купленной картины и прочие процедуры, автор уже и не пытается разобраться. Зато чудеса происходят с ним в России с завидной регулярностью. Когда после лекции в нижегородском университете у Шенкеля внезапно разболелась спина, астролог Рита заставляет его вспомнить, что он такого произнес во время лекции, что не соответствует истине или является пустой профанацией. Когда профессор с трудом вспоминает случайно обронённую фразу, которую можно было бы не и произносить, Рита заставляет его погрузиться в ситуацию и раскаяться. К вечеру спина проходит. Кошка казанской коллеги Маши понимает по-английски. Машина может несколько километров ехать со спущенной шиной. Смысл книги Горького неожиданно открывается путешественнику после бурной вечеринки, в состоянии сильного опьянения. В Казани открывается новый роскошный концертный зал, но единственное, о чем забыли при строительстве, так это об акустике и т.д. Находчивость русских обусловлена, в первую очередь, бытовыми трудностями, привычкой к выживанию и отсутствием больших запросов. Автор восхищается тем, что можно, оказывается, обойтись без тостера, просто обжаривая хлеб на сковородке без масла на маленьком огне, можно вручную выжимать белье, в минуту соорудить в лесу умывальник из пластиковой бутылки, быстро собрать хворост, развести огонь и приготовить на костре отличный ужин, можно разукрасить потолок, постоянно заливаемый соседями, акварельными красками и из безобразных разводов сделать предмет искусства и т.д. Рита по этому поводу заявляет: «Русские переживут атомный удар, потому что, если надо, они могут жить примитивно. Чаще всего, они так и живут. Из России придет духовное обновление, потому что русские очень приспособляемы и осилят прыжок в следующую эру» [там же, 64]. Русские в книге Шенкеля предстают гораздо более эмоциональными, раскованными и свободными, чем связанные многочисленными ограничениями представители западной цивилизации. В этой связи автор пишет: «Можно играть словами, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу, петь и танцевать, если тебе этого хочется» [42, 32]. Позже он описывает эпизод, когда путешественники, восхищенные богатыми плодами короткого северного лета, самозабвенно исполняют танец в честь моркови и подсолнухов. И в ответ на замечание Нади, одной из участниц экспедиции, «в Германии, должно быть, хорошо, лучше, чем здесь», Шенкель отвечает: «Но мы не умеем вот так, как безумные, танцевать, и подсолнухи у нас гораздо меньше» [там же, 89]. Тема пьянства, являющегося одним из самых стойких стереотипных маркеров русской жизни в западной литературе путешествия, красной нитью проходит и по книге Шенкеля. Причем пьют в России все – от рафинированной интеллигенции до жителей глухой сибирской деревни. Поэт, юрист, дизайнер и физик Стас, провожая гостя на утренний казанский поезд, протягивает ему банку пива со словами: «Если выпьешь с утра, весь день чувствуешь себя счастливым» [42, 19-20]. Не успев прибыть в Казань, писатель оказывается посвященным филологическими дамами в науку выбора «правильной» водки: поскольку на спиртзаводе фильтр меняют по понедельникам, водку надо покупать, произведенную в начале недели. Книга пестрит следующими фразами: «Последняя ночь в Нижнем была опять очень тяжелой: водка, водка, музыка, танцы» [там же, 37]; «Водка течет из множества рук» [там же, 14]; «Вечерами пирожки, чеснок, водка, пение «По Дону гуляет казак молодой» [там же, 26]; стоянка в сибирской тайге: не успев проснуться, гость слышит голос из соседней палатки «Good morning, Germany! Drink now?»; «Проснулся с шумом в голове, слишком много водки пролилось прошлой ночью» [там же, 66] и т. д. Создается впечатление, что первое желание, возникающее у русских при виде иностранца, немедленно его напоить. При этом Шенкель цитирует озвученные польской славистской русские национальные концепты «судьба, душа и меланхолия» и выражает с ней свою солидарность. Особое место в книге уделяется религиозности и суевериям русских, что выводит на центральный миф западной культуры, связанный с Россией, - о загадочной и иррациональной русской душе. Посредниками неоднократно озвучивается значимость для русских категории веры, рука об руку с которой идут суеверия. Путешественник вынужден осваивать мудрёную науку: если тебе наступили на ногу, наступи и ты, чтобы не поссориться; если упала вилка, жди женщину, нож – мужчину; пустые бутылки не должны стоять на столе; дождь перед дорогой – добрый знак; нужно присесть на дорожку и пр. От своих русских знакомых он узнает, что в смутное время перестройки интерес к оккультизму, экстрасенсорике, изотерике особенно возрос. В доме у Веры гость наблюдает вполне обыденную здесь сцену – целитель машет руками над головой ее двадцатилетнего сына. Верина коллега филолог Елена объясняет: «В тяжелой экономической ситуации активизируются негативные энергии, например, зависть. Даже если люди того не хотят, они могут нанести друг другу тяжелый душевный урон. Потому нам нужны целители» [42, 11]. Впрочем, директор музея М.Горького, оказавшаяся попутчицей Шенкеля в поезде Казань-Москва, целителей и в грош не ставит, считая ажиотаж вокруг них типичным порождением перестройки: «Смута, декаданс, метафизика» [там же, 15]. Но и сам автор, не разделяя суеверий, тем не менее, очень увлекается изотерикой, алхимией, йогой, буддистскими практиками и пр. То есть он открыт для альтернативного знания и опыта. Именно поэтому он решается отправиться в путешествие по Сибири с группой астрологов и экстрасенсов, слушателей изотерической школы, которой руководит небезызвестная Рита. Это путешествие становится композиционным и идейным центром книги. Не случайно она названа «Сибирский маятник». Это название имеет и буквальное, и метафорическое значение. С помощью маленького «маятника» сибирячка Рита постоянно проверяет энергетику мест, вещей, продуктов питания. Траекторию маятника напоминает и полет на канате через алтайский водопад, ставший для автора главным испытанием, своего рода обрядом инициации, перехода в иное качество и кульминацией путешествия. Это и отсылка к «Сибирскому цирюльнику» - фильму, который показали ему перед отъездом нижегородские друзья, и – на более глубоком уровне - символ русского бытия, всегда отмеченного мощной амплитудой движения между противоположными полюсами. Путешествие в Сибирь становится для Шенкеля поиском себя, испытанием, обретением свободы и открытием не книжной, а настоящей России. В своей монографии «Миф России в современной английской литературе» Л.Ф.Хабибуллина отмечает, что «Сибирь остается наиболее мифологизированным и наименее освоенным пространством в английской литературе о России» [27, 132]. литературе. Пожалуй, это можно сказать и о немецкой У Шенкеля присутствуют и традиционные маркеры, такие как сибирские просторы, суровый климат, дикие народы (спивающиеся якуты), рассказы о медведях, отсылки к текстам предыдущих путешественников. Но есть и живые следы большой и малой истории, деревни, в которых жили Титов и Шукшин, музеи и покосившиеся деревянные избы, сектанты и меннониты, сельские библиотекари и бывшие офицеры, удивительные взаимоотношения человека с природой и бесчисленное количество человеческих историй, расширяющих жестких рамки стереотипа до живых, полнокровных фрагментов реальности. В своей книге Шенкель рассматривает географические, климатические, бытовые, социальные, политические, культурные, ментальные и исторические реалии русской жизни. Причем последние связаны как с далеким, так и с недавним советским прошлым. Таким образом, путешественник осуществляет перемещения не только в пространстве, но и во времени. Образ созданной писателем постперестроечной России характеризуется следующими реалиями: атмосфера смутного времени, повсеместная торговля, передел собственности, приватизация государственных предприятий, криминальная обстановка, война в Чечне, материальные трудности, жертвы режима, после перестройки объявленные святыми, и т.д. От соткан из рассказов посредников, анекдотов про новых русских и личных наблюдений автора. При этом Шенкель корректирует сложившиеся стереотипы, заданные западными СМИ. Отмечая, что официальные новости о России вызывают почти исключительно жалость и отвращение, писатель критически замечает: «Сосредоточенность СМИ на двух аспектах российской жизни раздувает их до такой степени, что не остается места для того, как русские переживают свои будни, свои радости и горести, как они относятся к трудностям. А они черпают силу из вещей, о которых мы уже забыли, например, из отношений с природой. Они еще непосредственно наслаждаются плодами земли…» [42, 42]. По поводу жалости Шенкель приводит слова астролога Риты: «Ах, пожалейте лучше самих себя! Мы во многих отношениях счастливее вас. Кроме того, вера – огромное пространство, которого запад лишен. У нас есть мужество, потому что мы доверяем Создателю» [там же, 76]. В этих словах в очередной раз звучит важная тема книги: оппозиция западного и восточного (российского) мира. Свою книгу Шенкель завершает художественным образом Казани: «Ты спрашиваешь себя: что есть Казань? И отвечаешь: фата моргана, кузница, инкубатор, плавильный котел в провинции. Это место, находящееся в непрестанном движении, невероятно динамичное, точка, в которой сходятся различные части света, религии, культурные традиций, - по сути, это планета» [42, 231]. Во многом это определение применимо и в целом к образу России, представленному автором. В результате мы приходим к следующему выводу: образ России в травелоге Элмара Шенкеля складывается, с одной стороны, из традиционных, в том числе литературных, мифов, во многом транслируемых самими русскими посредниками и являющимися компонентой их самоидентификации, с другой стороны – из развенчанных и скорректированных стереотипов, и с третьей – из непредвзятых наблюдений автора. В любом случае, это удачная попытка освободиться от устойчивых стереотипов и создать сложный и многогранный индивидуализированный образ России. СТИХИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА В РАССКАЗЕ ЭЛМАРА ШЕНКЕЛЯ "ШВАРЦВАЛЬДСКИЙ ПАССАЖ" Русская литература всегда имела для писателя Элмара Шенкеля огромное значение. Как уже отмечалось в предыдущей статье, знакомство с Россией для него началось с литературы 15-16 веков и ещё в юности стало стимулом для изучения русского языка. Говоря о своих литературных предпочтениях, Шенкель, в первую очередь, называет Гоголя, Булгакова, Мандельштама [14, 3]. Влияние русской литературы на прозу Шенкеля ощутимо на разных уровнях - от открытого цитирования до аллюзий, подхваченных мотивов, тем, образов, давших толчок для работы собственной творческой фантазии. Стихи Мандельштама, с которыми писатель познакомился в переводах Ральфа Дутли, произвели на него неизгладимое впечатление. Шенкель снова и снова возвращался к ним - перечитывал, цитировал в лекциях и статьях, писал рецензии как на книги поэта, так и на отдельные стихи. Фрагменты его рецензий впоследствии цитировались при переиздании стихотворений Мандельштама в Германии. Рассказ "Шварцвальдский пассаж" („Schwarzwald Passage“) написан в 1991 году и впервые опубликован в 1993 году под названием "Египетское облако" („Ägyptische Wolke“). Затем рассказ под новым названием вошёл в сборник "Лейпцигские пассажи" („Leipziger Passagen“) вышедший в 1996 году. По словам автора, в этой книге он попытался создать образ Лейпцига и страны в целом в новых условиях - после объединения Германии [14, 3]. Рассказ представляет собой воспоминание о прогулке по овеянному легендами Шварцвальду, колыбели немецких сказок, средоточию немецкой истории, Шварцвальду, несущему в себе все приметы прошлого и настоящего. Рассказ написан в характерной для Шенкеля манере, представляя собой своего рода поток сознания, включающий в себя исторические реминисценции, реалии современной действительности, литературные аллюзии, субъективные впечатления и ощущения в предельно метафоричной форме. Как врач, пальцы которого пробегают по рефлекторным точкам, писатель, не сбавляя сбивчивого ритма восхождения, на ходу касается болевых точек прошлой и современной жизни. Образы прошлого - древний рисунок озёр, мир, который "теплится на древненемецкий манер"3, жизнь до 1914 года, освящение памятника Битве народов, "Французский редут", напоминающий о былых сражениях, "Замок иезуитов", тёмный лес, в котором «прекрасно, как во рту у сказки», перебиваются голосами сегодняшнего мира. Как из трескучего радиоприёмника, мечущегося по коротким и длинным волнам, врываются реплики туристов ("Что касается процентов при лизинге фольксвагена…,"…Если бы со мной что-нибудь случилось, ты бы никогда меня не нашёл…", "…дайте мне за это масло на хлеб…", "… Мы бы могли поговорить здесь о ценных бумагах…Речь идёт о том, чтобы правильно вложить деньги…"), местных жителей ("Вчера я нашёл дыру в изгороди!…"), сообщения прессы ("Маргот Хонеккер подала в отставку…"). Образ "самой густой изгороди христианского мира", в которой внезапно обнаружилась дыра, вызывает ассоциацию с недавним эпохальным событием - крушением берлинской стены. Автор не только обращается к прошлому и настоящему, но и предчувствует будущее. Будущее входит в рассказ через мрачные символы и метафоры - "медленное скольжение в бездну", "бегство красок в белую неизвестность", материя, "исчезнувшая в бормочущих губах старого рассказчика", ржавчина, что "ляжет на наше время, исказит движения нашего языка". Это будущее, "которое платит по счетам", это сохранённое в компьютерах будущее, готовое рухнуть в бездну. Таким образом, автор создаёт объёмную картину времени, единое временное пространство немецкой истории и современности ("…может ли дело обернуться ещё более по-немецки"), и тональность этой картины явно тревожная. Писатель с грустью размышляет: "Подарить бы всем святым рисунок одного из тех тусклых вокзалов цвета 3 Здесь и далее перевод мой – Е.Ш. блевотины, где каждая платформа болит, и что с того, что Шварцвальд голубоват, ночь фиолетова, воздух прозрачен." Кризисность и нездоровье нынешнего мира - мрачный, растворённый в десятках деталей фон рассказа. Ключевой метафорой в этом плане является больной позвоночник планеты. Боль лирического героя перекликается и сливается с мировой болью: "Спинной хребет, гвоздь планеты гнётся…". Приступы боли Шенкель сравнивает с ежеминутным мощным и точным ударом молота - образ, лейтмотивом пронизывающий рассказ. Мир в "Шварцвальдском пассаже" - это лежачий больной, которому с трудом даётся каждое движение: "Нужна целая философия, чтобы поднять руку…", "Боль криво спелёнывает тебя, а глаза уже принадлежат кому-то другому. Вес воздуха, вес колёс, вес всего, что можно услышать. Все уши, руки, ноги спасаются бегством…", "Отступление контуров, отступление анатомии…", "…я давно стал беспозвоночным животным, телом из мягкой ткани…", "Скоро прыжкам конец, всякая попытка так же неописуема, как боль, кости горят огнём, здесь готовится великий поворот. Лежачий больной знает эти выверты геометрии…". Лирический герой от боли ложится на пол в передней ("Сон о вертикальной походке…досмотрен до конца"), превращается в башмак и смотрит на мир "из-под стопы", заглядывает ему под подошвы, видя мозоли, пыль, острые шпоры. Эта необычная перспектива позволяет ему увидеть мир в другом ракурсе, свободно двигаясь по воображаемой оси вверх-вниз. Горы и пропасти, небеса и недра земли, где покоятся мертвецы, прыжки через расщелины и распластывание по поверхности земли создают объёмное повествовательное пространство. Шенкель вводит в структуру повествования цитаты из двух стихотворений Мандельштама из книги "Камень" - "Скудный луч, холодной мерою…" и "Отчего душа - так певуча…". Оба стихотворения написаны поэтом в 1911 году, то есть до перехода на позиции акмеизма. Это стихи ученика символистов, и хотя они лишены символистской "потусторонности", они обращены к миру туманному и ненастоящему: Я блуждал в игрушечной чаще И открыл лазоревый грот… Неужели я настоящий, И действительно смерть придёт? Но начинающий поэт, "отягощённый, - по словам Г. Маргвелашвили, наследственной мудростью и скорбью, воспринятыми и от библейских праотцев и от великой прародительницы своей - русской поэзии" [18, 5], как будто предчувствовал собственную судьбу и судьбу ХХ века. Неудивительно, что позже эти строки подверглись трагическому переосмыслению: их видели, по сообщению Н. Я. Мандельштам, записанными на стене камеры смертников в Лефортовской тюрьме. Болея экзистенциальной печалью, молодой Мандельштам мог только смутно предчувствовать грядущий "огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля", в то время как наш современник Элмар Шенкель, знакомый со всеми катаклизмами ХХ века и недавно переживший очередной "поворот руля", круто развернувший его страну, очевидно, почувствовал пророческую печаль русского поэта. Впрочем, приведённая выше строфа, подчёркивая настроение всего пассажа, наиболее тесно связана с образом мира до 1914 года, с открытием памятника Битве народов ("…Чёрное солнце из гипса, чёрный фонтан, дочиста намоленые скамьи перед мерцающими свечами…"), то есть максимально приближена Э. Шенкелем к реальному времени своего написания. "Наследственная скорбь", "глубокая печаль" и "напряжённая серьёзность" раннего Мандельштама явно показались Шенкелю созвучными тональности "Шварцвальдского пассажа". Автор цитирует: … Я печаль, как птицу серую, В сердцу медленно несу. Мандельштамовская "серая птица - печаль" появляется на фоне голых стволов, облысевших вершин и сводов Шварцвальда, в дебрях которого автору слышатся клацающие челюсти мастодонтов; Шварцвальда, который Шенкель сравнивает с опрокинутым кораблём. Чёрный ветер, который "вяло барабанит палками и костями по жестяным облакам", усиливает ощущение бесприютности и тревоги. Интересно, что писатель, излюбленным приёмом которого всегда была и остаётся ирония, на протяжении практически всего пассажа сохраняет "холодное напряжение" и серьёзность, за которые в своё время Г. Чулков упрекал молодого Мандельштама [см. 16, 291]. Но если печаль Мандельштама, с одной стороны, беспредметна, с другой - всеохватна, то переживания Шенкеля вызваны вполне конкретными причинами: безнадёжное ветшание планеты и человеческого тела, беспомощность человека перед болью, угроза экологической катастрофы ("На плоскогорьях - то, что давно ушло, вырвано, срублено. От лесов остались одни указатели, дощечки с названиями, наклейки на протезах…"), будущее, принадлежащее статистике и цифрам ("…будущее, которое платит по счетам, почему это они думают только о структуре населения…", "Речь идёт о числах будущего" …), уязвимость современного мира, его кризисное лихорадочное состояние, когда малейший толчок грозит гибелью ("…любое пошатывание каркаса может остановить движение, а путь лежит вниз в будущее…"), то есть тревога автора обусловлена и экзистенциально и социально. Ощущению неизвестности, сквозящему в "отступлении контуров, отступлении анатомии, бегстве красок в белую неизвестность…", созвучна следующая цитата из стихотворения "Скудный луч, холодной мерою…", приведённая Шенкелем: … Как пустая башня белая, Где туман и тишина. Начинающий Мандельштам, по всей видимости, более всего ориентирующийся на Сологуба с его концепцией призрачного мира, воспевает туман и тишину, "дум туманный перезвон". Это некий мир, лишённый реальных черт. Мир Шенкеля конкретен - это горы Шварцвальд, вызывающие в сознании автора вполне объяснимые ассоциации. Вместе с тем тишина и заключённая в самом его названии темнота Шварцвальда сглаживает чёткие контуры реальной действительности и наделяет её метафизической тайной и призрачностью, пронизывающей и стихотворение юного Мандельштама. Неслучайно, образом "тайного пути" заканчивается "Шварцвальдский пассаж". При этом диалог текстов происходит не только на тематическом уровне, на уровне схожих настроений и мотивов, но и в поэтико-художественной сфере. В стихотворении "Отчего душа - так певуча…" у Мандельштама строки "…И мгновенный ритм - только случай, Неожиданный Аквилон…" содержат не только сравнение, но и иллюстрацию "мгновенного ритма", вернее, его неожиданного сбоя - приём, близкий к "метапоэтическому комментарию" или "автометаописанию". В "Шварцвальдском пассаже" обнаруживаются схожие приёмы. "Шаг становится всё тише, башмаки проходят мимо кладбища",пишет Шенкель, и мы чувствуем как лихорадочный, спешащий и спотыкающийся ритм текста с невероятным количеством метафор и сравнений, нанизанных на длинные нити предложений, замедляется и выравнивается. Элмар Шенкель, заставляя работать своё сознание и подсознание по сновиденческим законам, создавая бесконечные цепочки смысловых, зрительных, акустических ассоциаций, включает в своё ассоциативное поле и стихи Мандельштама. Так, возможно именно строчка "Я забыл ненужное "я." из стихотворения "Отчего душа - так певуча…", хотя и не цитируемая Шенкелем, послужила импульсом для освобождения и обособления "я" лирического героя, которое, живя самостоятельной жизнью, "здоровается, выглядывая из стволов деревьев…". Не исключено, что знаменитым стихотворением Мандельштама навеян и многозначный образ готовящегося великого поворота. Таким образом, анализ рассказа и характера цитирования позволяет говорить о том, что перекличка текстов лежит как в проблемно-тематической, так и в поэтико-художественной плоскости, что придало рассказу Шенкеля совершенно иной масштаб и особую художественную ценность. ЭЛМАР ШЕНКЕЛЬ: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК Элмар Шенкель - писатель, наделённый парадоксальным мышлением и безудержной фантазией. Он отличается способностью вырывать привычные вещи и понятия из традиционного контекста, помещать их в новое неожиданное окружение и заставлять жить необычной жизнью, где главный принцип - свобода, а единственный закон - любовь к игре и готовность в ней поучаствовать. Наверное, поэтому жанр афоризма, в основе которого лежит парадокс, игра слов, меткость наблюдений и острота мысли, так полюбился писателю. Более двадцати лет он записывает любопытные мысли, остроумные высказывания, забавные изречения, которые сложились в книгу "Когда "Я" опаздывает" („Ichverspätungen“), вышедшую в Казани в 2006 году. По жанру она напоминает «Записи и выписки» известного филолога М.Л. Гаспарова. Книга содержит заметки и афоризмы Э.Шенкеля с параллельным переводом на русский язык4. Перевод афоризмов - задача сложная, ведь зачастую они основаны на игре слов, построенной на сходстве звучания и на коннотационных значениях, отсутствующих в языке-реципиенте. Поэтому путь буквального перевода тупиковый. Он не позволяет передать ни смысла высказывания, ни особенностей игры. Единственно возможным решением является принцип "подобных треугольников", сформулированный выдающимся российским филологом и переводчиком С. С. Аверинцевым. Только передача авторского замысла средствами своего языка обеспечивает адекватность ассоциаций. Исходя из этого, мы видели свою задачу не в точном переводе афоризмов, а в использовании механизма, к которому прибегает автор. Проиллюстрируем это на нескольких примерах из книги. Одно из высказываний Э.Шенкеля звучит так: "Die Post schreibt: Für die Versandung Ihres Briefes berechnen wir…". Комический эффект основывается на 4 Перевод мой – Е.Ш. схожести звучания слова "Versendung" ("отправка", "отправление") и существительного "Versandung", образованного от глагола "versanden" (1. Заноситься песком; 2. окончиться ничем, заглохнуть, иссякнуть). При буквальном переводе фраза теряет смысл, так как в русском языке отсутствует основание для данной игры слов. Воспользовавшись принципом, на который в данном случае опирается Шенкель, мы предложили не тождественный ему, но, с нашей точки зрения, аналогичный вариант: "На почте пишут: «Ваше почтовое отравление стоит…» В другом случае фраза звучит в оригинале следующим образом: "Wenn ich einen Satz ausspreche oder niederschreibe, ergeben sich gleichermaβen mögliche Abzweigungen - Relativsätze, Nebensätze, Gegensätze oder Untersätze. Aber die Abzweigungen beginnen schon mit den einzelnen Wörtern, unter denen andere mögliche Ausdrücke lauern und winken, ja schon unter den Buchstaben einzelner Wörter. Rutscht der eine oder andere Buchstabe, schaut gleich ein Gnom hervor." Начиная с перечисления различных видов предложений - Nebensätze (придаточных), Relativsätze (придаточных относительных), автор продолжает эту цепочку словами с корнем "Satz", - с одной стороны, обыгрывая локальное значение приставок neben (Nebensatz), gegen (Gegensatz) и unter (Untersatz), с другой стороны, добиваясь эффекта двусмысленности за счёт основного значения слова Gegensatz (противоположность, контраст) и многозначности существительного Untersatz (1. подставка, подлокотник; 2. подчинённое предложение). При переводе мы воспользовались многозначностью русского слова "предложение", создав по ассоциации свою цепочку понятий: "Когда я произношу или записываю предложение, неизменно появляются всевозможные ответвления: относительные и другие придаточные предложения, двусмысленные или непристойные предложения. Но ответвления зарождаются уже в отдельных словах, за которыми притаились, подмигивая, другие смыслы, и даже в самих буквах отдельных слов. Стоит съехать какой-нибудь букве, сразу выглядывает гном". Комический эффект следующего парадокса связан с синонимичностью компонентов «Poly» и «Viel»: «Da ihm die Polygamie verboten war, verlegte er sich auf die Vielschreiberei». Мы постарались передать его таким образом: «Так как многожёнство было для него запретно, он переключился на многожанровость». Хотя компонент «Viel» встречается только один раз, а именно во второй части немецкой фразы, он подразумевается и в первой: Polygamie als viele Frauen. «Vielschreiberei», по-русски «графомания», не дает основания для передачи авторской игры слов. Поэтому мы сделали выбор в пользу «многожанровости» - слова, не только содержащего тот же компонент, что и «многоженство», но и имеющего похожее звучание. Еще один пример подражания авторской технике языковой игры представляет собой перевод следующего афористического высказывания: Eine Gratwanderung zwischen Selbstverwirklichung und Selbstverwirkung. Балансировать между самореализицией и самоликвидацией. В этом случае игра слов основана на сходстве звучания двух лексических единиц, вторая из которых представляет собой окказионализм. Значение базовых элементов: Verwirklichung - осуществление, воплощение, претворение в жизнь, Verwirkung - лишение, потеря. Схожие по смыслу понятия "реализация" und "ликвидация" имеют отсылающее к оригиналу морфологическое и фонетическое сходство. Однако можно привести немало примеров, когда в русском языке оказывается возможным найти достаточно точное соответствие высказыванию на языке оригинала. Вот некоторые из них: 1. Woher weiβ ich, dass wenn einer alles im Griff hat, es nicht der Würgegriff ist. У него всё схвачено, но как знать, не мёртвая ли это хватка? Идиома "etwas im Griff haben" содержит в себе положительную оценочную коннотацию. У неё есть русское соответствие - «набить себе руку на чём-то, обладать сноровкой в чём-то». Выражение "alles im Griff haben" означает «держать все под контролем». Форма риторического вопроса афористического высказывания Э.Шенкеля, а также существительного «Griff» c однокоренным „Würgegriff“ (от сопряжение "würgen" - "душить", "сжимать", "сдавливать" и "der Griff" - схватывание, хватание, хватка, ухватка, приём) коренным образом меняет изначально положительный оценочный характер идиомы. В русском языке есть аналогичные средства выражения. Так, говоря «у него все схвачено», мы имеем в виду, что у кого-то все под контролем. Однако, в отличие от немецкой идиомы, здесь имеется негативная коннотация, поскольку так говорят, как правило, о тех, у кого повсюду блат и кто контролирует ситуацию путем подкупа, давления и других незаконных или небезупречных с точки зрения морали средств. Это выражение тем лучше позволяет передать смысл оригинального высказывания, что оно комбинируется со словом «мертвая хватка», идентичным немецкому "Würgegriff". 2. Es gibt nichts Bestes, auβer man lässt es. Хорошо за это взяться, ещё лучше - отказаться. Изречение основано на внутреннем противоречии между превосходной степенью, выражающей необходимость действия, в первой его части и отказом от него - во второй. Рифма «Bestes» и «lässt es», а также регулярный ритм придают ему акустическое завершение. В переводе высказывание также зарифмовано, а присущее ему противоречие передано с помощью степеней сравнения – положительной в первой его части и сравнительной – во второй. 3. Dem Wind sind alle Gesetze Luft. Ветру все законы - пустое место. Здесь одновременно актуализируются два значения слова "Luft" - "воздух" и "пустое место" – прямое и переносное, сходящиеся в идиоме "Luft für jemanden sein" - он для меня не существует, он для меня пустое место. В русском языке слово «воздух» лишено второго, переносного значения. Зато «ветер» содержит скрытые ассоциации со словами «воздух» и «пустой», «полый». На русский язык „hohl“ и „leer“ переводятся одним словом – «пустой». Таким образом, русское выражением «пустое место» оказывается созвучным немецким словам „Luft“ и "Wind“, что позволило соответствующим образом передать оригинальную игру слов. 4. Schlagwörter müssen eigentlich die Schlaglöcher der Sprache genannt werden. Меткие слова надо бы, на самом деле, назвать пробоинами (или: отметинами – Е.Ш.) языка. Das Schlagwort означает: 1. Меткое слово, соль (остроты) 2. Заглавное слово в словаре 3. Лозунг, девиз, модное слово. Основание для игры слов дает общая составляющая "Schlag" в сложных словах "Schlagwort" и "Schlagloch". Здесь возможно предложить аналогичную игру с прилагательным "меткий", образованным от глагола "метить" в значении "целиться". Целясь, вы наносите удар, в результате чего образуется пробоина («Schlagloch»). Но при этом утрачивается общая для обоих сложных слов составляющая. Можно в этом случае заменить слово "пробоина" на "отметина". Тогда, благодаря однокоренным словам, мы точнее воспроизведем технику авторской игры правда, в ущерб содержательному аспекту высказывания. 5. Es soll einst eine Welt gegeben haben. Heute müssen wir uns mit der Umwelt begnügen. Когда-то, должно быть, существовала среда. Сегодня мы вынуждены довольствоваться окружающей средой. В основу этого афоризма положена игра слов, базирующаяся на противопоставлении двух понятий - "Welt" и "Umwelt" - и ремотивации слова "Umwelt" "Um-Welt" (как Welt "um uns"). Русское слово «мир» не дает возможности для подобных семантических трансформаций, зато эту функцию вполне может выполнить слово «среда». 6. Wissen ist Macht? Aber Macht isst Wissen. Знание есть сила? Но сила ест знание. Этот афоризм представляет собой парафраз знаменитого изречения английского философа Ф.Бекона «Знание есть сила». Первая его часть свидетельствует в пользу силы знания и его власти над людьми и предметами, вторая говорит об опасности власти для знания. Своим остроумным характером высказывание обязано омонимам "ist" (3-е лицо глагола "sein") und "isst" (3-е лицо глагола "essen"). Русский язык предоставляет возможность для идентичной игры в виде частичных омонимов "есть" (в значении «являться чем-то») и "ест" («поглощает пищу»). 7. Unwissen ist Macht. Wissen ist Ohnmacht. Незнание есть сила. Знание – бессилие. Здесь речь снова идет о паре понятий «Знание и сила», но автор еще радикальнее, чем в первом случае, трансформирует оригинальное высказывание, создавая антитетические конструкции «Wissen» - «Unwissen», «Macht» - «Ohnmacht», перегруппировывая лексические элементы и достигая тем самым парадоксального эффекта. Ремотивационная игра со словом "Ohnmacht" в качестве оппозиции к "Macht" потребовала от нас предпочесть вариант "бессилие", перекликающийся со словом "сила". 8. Auch das Schreibwerk ist längst eine Branche der Bekleidungsindustrie geworden. Aus Texten wurden Textilien. Писательское ремесло тоже давно стало отраслью текстильной промышленности. Тексты превратились в текстиль. В данном случае в обоих языках мы имеем дело с аналогичной игрой слов: "Text" и "Stil" как части сложного слова "Textilien" в немецком, "текст" и "стиль" как компоненты слова "текстиль" в русском создают одинаковый эффект двусмысленности. 9. Wo es einen Volksmund gibt, da gibt's auch einen Volksmundgeruch. Где народные уста, там и народный запашок изо рта. Идиоматическое значение слова "Volksmund" связано с народной речью, народной мудростью, народными преданиями. Неологизм Э.Шенкеля "Volksmundgeruch" соединяет прямое и идиоматическое значение слова. Данная контаминация составляет основу для афоризма, производя эффект двусмысленности. Чтобы передать авторскую игру, из семантического ряда слова "Volksmund" (народная речь, народная мудрость, народные предания) был выбран вариант "народные уста". В противном случае использование выражения "запашок изо рта" не было бы оправдано. 10. Was dich nicht satt macht, hast du bald satt. Тем, что тебя не насыщает, ты скоро будешь сыт по горло. Настоящий афоризм основан на двузначности слова "satt", проявляющейся в выражениях "etwas macht satt" и "etwas satt haben", что находит соответствие в русском языке: "насытить" и "быть сытым чем-то (по горло)". Книга "Когда "Я" опаздывает" предназначена, в первую очередь, для студентов языковых вузов. Она содержит задания по интерпретации текста, художественному переводу и лексикологии. Так что студенты и все, кто интересуется немецким языком, литературой и проблемами перевода могут попробовать свои силы и предложить собственную версию афоризмов, которые, по мнению самого автора, уже по природе своей не являются чем-то законченным и раз навсегда данным, а приглашают к сотворчеству, языковому эксперименту, игре. Четырьмя годами раньше, в 2002 г., в Казани же вышла книга рассказов Э.Шенкеля "Школа забвения" („Schule des Vergessens“). Рассказы писателя это причудливые зарисовки, оригинальные стихотворения в прозе, в основе которых лежит, однако, не лирическое переживание, а игра ума, наблюдения человека с богатой фантазией, склонного к парадоксу, к сопряжению разнородных понятий и явлений, обретающих в непривычном контексте новые смыслы. Короткие рассказы Шенкеля напоминают потоки прихотливых ассоциаций, готовых вырваться из рук автора, но волею его всё же сохраняющих зыбкую, изменчивую живую форму. Писатель явно работает в традиции абсурда, однако не разрушает полностью связь между распредмеченным миром своей художественной фантазии и миром реальным. Проза Шенкеля сложна для перевода. При кажущейся простоте (несложный синтаксис с преобладанием простых предложений, традиционная лексика, условность сюжета или его отсутствие) она требует особого подхода, позволяющего передать все повороты и нюансы авторской игры, не создавая у читателя ощущения фантазийного хаоса и абсурда. Основное правило, которое, как известно, следует соблюдать в процессе перевода, - это отход от буквы. Сверхзадача переводчика - "перевыразить" по-русски художественный текст, написанный на иностранном языке, с тем чтобы он стал полноценным явлением языка родного. При всём стремлении к точности передачи здесь требуется немалая свобода: свобода поиска адекватного образа, способного вызвать у русского читателя те же чувства, мысли и ассоциации, что и у иностранного; свобода в рамках фразы, когда приходится разрывать или сливать воедино отдельные её части, менять порядок слов; свобода выбора лексики, когда в ущерб точности подстрочника используются лексические единицы, вызывающие у русского читателя реакцию, на которую рассчитывает автор, и т.д. Кроме того, необходимо учитывать общие принципы художественного перевода и конкретные различия между языками. Нет необходимости напоминать о том, насколько отличаются друг от друга русский и немецкий языки. Отличия лежат в синтаксической, лексико-семантической, словообразовательной плоскости и т.д. Рассмотрим на конкретных примерах некоторые приёмы, использованные нами при переводе рассказов Элмара Шенкеля из сборника "Школа забвения". Одним из важнейших стилистических требований, предъявляемых к переводу, является замена иностранных слов на русские. Например, в рамках художественного текста гораздо естественнее звучит слово «сведения», нежели «информация»; «миг», «мгновение» - вместо «момент» и т.д. Так, в рассказе "Пророк" ("Der Prophet") речь идет о маленьком человеке, простом торговце овощами, наделенном пугающим его пророческим даром. Пытаясь скрыться в трамвае от одолевающих его видений, он рассказывает о них случайному попутчику: "… Aber sobald ich hinter meinem Kohlrabi5 und den Erdbeeren stehe, überkommen sie mich." ("…Но когда я стою за прилавком с кольраби и клубникой, они одолевают меня".) Слово "кольраби" до последнего времени было не совсем привычно для русского слуха и явно выбивается из интонации разговора, происходящего в трамвае. Э. Шенкель, тяготеющий к абстракции, сводит к минимуму пространственно-временные реалии. Действие его рассказов могло бы разворачиваться практически в любое время в любой 5 Здесь и далее курсив мой – Е.Ш. точке вселенной. Поэтому русский читатель, как и любой другой, воспринимает происходящее без привязки к конкретному месту. Из этих соображений слово "Kohlrabi" было заменено на привычное слово "капуста", разновидностью которой она является. В результате фраза звучит так: "…Но когда я стою за прилавком с капустой и клубникой, они одолевают меня". Следующим важным приемом является активное использование фразеологических оборотов и разговорных выражений при передаче интонации живой разговорной речи. Иногда удается подобрать фразеологизм, адекватный авторскому. Проиллюстрируем это на следующих примерах: 1. Ein Studium dieser oder anderer Wissenschaften erschien ihm als unnütze Wiederholung einiger Fakten und Theorien, die ihm mit sechs durch und durch vertraut gewesen waren ("Der Atomphysiker"). → Освоение той или иной науки казалось ему ненужным повторением фактов и теорий, уже в шесть лет знакомых ему вдоль и поперёк ("Физик-атомщик"). 2. Bin zwar ein Habenichts, aber lade sie alle ein ("Die schwierige Zeit"). → И хоть нет у меня и гроша за душой, я приглашаю их всех ("Тяжёлые времена"). 3. Ich konnte die Dinge nur noch über den Daumen anpeilen, von heute auf morgen blicken und kaum weiter ("Die Ausgrabung"). → Мне оставалось прикидывать на глазок, загадывать на день вперёд, но не дальше ("Раскопки"). Но случается, что не удается подобрать соответствующий фразеологический оборот из арсеналов русского языка. Тогда можно попробовать перевести фразеологизмами другие – стилистически нейтральные лексические единицы с тем, чтобы их общее количество в оригинальном и переводном тексте примерно совпадало, что позволит сохранить стилистическую целостность первоисточника. Так, при переводе рассказов Э.Шенкеля были использованы следующие фразеологические обороты и разговорные выражения, отсутствующие в оригинале, но точно передающие смысл высказывания: 1. Die letzte bewohnbare Ecke in den Trümmern meines Hauses haben sie in Brand gesetzt, man sucht mich auch gefangenzunehmen…("Die Ausgrabung"). → Они подожгли последние обжитые уголки в развалинах моего дома и теперь ищут меня, чтобы схватить и упечь за решётку ("Раскопки"). 2. Die Geschlechtsteile - so ungern der Pfarrer das hören wird, aber er hört mich ja ohnehin nicht mehr an - ziemlich genau unter der Kirchе ("Die Ausgrabung"). → И как ни неприятно это было бы слышать священнику - а впрочем, он давно перестал меня слушать - гениталии скорее всего покоились точнёхонько под церковью ("Раскопки"). 3. Die Presse berichtet" ("Die Blasmusik in Kolumbien"). → Пресса строчит сообщения ("Духовая музыка в Колумбии"). 4. Schon lange waren sie ungeduldig ("Die Hände"). → Они так давно изнывали от нетерпения ("Руки"). 5. Von morgens früh bis mittags, dann ab drei wieder bis in den Abend üben wir dieses größte und schwierigste aller Fächer ("Schule des Vergessens"). → С раннего утра до полудня, а потом с трёх и до самого вечера мы долбим этот величайший и сложнейший из всех предметов ("Школа забвения"). 6. In dieser Hinsicht ist er schneller als der gefürchtete Meister von London…("Schule des Vergessens"). → В этом смысле он обставил маэстро из Лондона…("Школа забвения"). Одной из самых обширных и сложных тем является перевод глаголов и глагольных форм. Глагол является носителем живого активного действия. Поэтому всегда предпочтительнее при переводе заменять глаголом причастия, деепричастия и другие глагольные формы: Der Himmel…tränkt sich mit Wasser, vollgesaugtes Feuer…("Vier Elemente"). → Небо…насыщается водой, напивается огнём…("Четыре стихии"). Рекомендуется заменять глаголами и глагольные существительные, которые, как правило, носят характер сухих «канцеляризмов»: Nur das Studium des Nutzlosen bringt einen darauf ("In der Windmühle"). → Всё это начинаешь понимать, только изучая бесполезное ("На ветряной мельнице"). В немецком языке модальные глаголы употребляются гораздо чаще, чем в русском. Поэтому, когда модальность задана контекстом, лучше при переводе отказаться от использования модальных глаголов, как это было сделано в следующих случаях: 1. Soll ich euch zeigen, wie man schlachtet? ("Der Schlächter") → Показать, как я забиваю скот? ("Мясник") 2. Der Blick konnte nur nach vorne gehen, die Forschungen mussten ausgedehnt werden ("Die Ausgrabung"). → Я уверенно смотрел вперёд и не думал сворачивать раскопки ("Раскопки"). То же самое касается пассивного залога, гораздо более характерного для немецкого языка, чем для русского. Пассивный залог в русском языке как правило используется в научной и технической литературе. Поэтому при переводе художественного текста рекомендуется по возможности заменять пассивный залог активным, например: … die Forschungen mussten ausgedehnt werden ("Die Ausgrabung"). → Я… и не думал сворачивать раскопки ("Раскопки"). У немецкого коньюнктива гораздо больше оттенков значения и намного шире диапазон использования, чем у сослагательного наклонения в русском языке. Буквальный перевод коньюнктива и родственных ему форм на русский язык, как правило, утяжеляет фразу и лишает ее естественности. Поэтому зачастую вполне оправдана замена сослагательного изъявительное, например: Dann würde ein neues Zeitalter anfangen („Die Parade“). наклонения на → Тогда-то и начнётся новая эра («Парад»). В определенных случаях удачным и оправданным приемом является замена прошедшего времени в оригинальном тексте настоящим временем с целью приближения происходящего. Примером может служить следующая цитата: Dann würde ein neues Zeitalter anfangen. Eine Truppe von Engeln kam jetzt trommelnd und Trompeten blasend die Einkaufsstraße hinunter ("Die Parade"). → Тогда-то и начнётся новая эра. И вот, гремя в барабаны и трубя в трубы, отряд ангелов шествует вниз по торговой улице ("Парад"). При переводе существительных следует учитывать возможное несовпадение грамматического рода в немецком и русском языках. Так, в рассказе "Осенью после полудня" ("Herbstnachmittag"), прибегая к излюбленному приёму – персонификации, автор пишет: "Der Herbst wühlte mit beiden Händen in den Blättern. Auch die Sonne wollte dabei gewesen sein, sie hatte ja keine andere Wahl" ("Осень обеими руками рылась в листьях. Солнце тоже помогало, да у него и не было другого выбора"). В немецком языке существительное "осень", как известно, мужского рода (der Herbst), а "солнце", напротив, женского (die Sonne). Проблемы бы не было, если бы автор не пошёл дальше и не превратил осень и солнце в супружескую пару, где осень в соответствии с немецким грамматическим родом - муж, а солнце - жена. В результате при переводе их пришлось поменять местами: "Осень сияла, будто налитая гневом. О, род людской! - крикнула она своему мужу" (" Der Herbst strahlte wie wütend, o das Menschengeschlecht! rief er seiner Frau zu."). Следующая важная проблема – это перевод синтаксических структур. Известно, что для немецкого языка характерны длинные сложные предложения с обилием придаточных, причастных и деепричастных оборотов и т.д. Поэтому иногда, при особо сложном синтаксисе, для придания фразе большей внятности либо правильного тона уместно повторение ключевых слов. Так, в следующем пассаже из зарисовки «Четыре стихии», отличающемся сложной синтаксической структурой и многозначной образностью, в переводе было дважды упомянуто ключевое слово «зеркало», а при переводе приведенной ниже фразы из рассказа «Духовая музыка в Колумбии» мы сочли уместным дважды повторить слово «письма», чтобы точнее передать интонацию удивления и тревоги, вызванных ими. Чтобы подчеркнуть состояние напряженного ожидания, дважды повторен глагол «ждали» при переводе рассказа «Руки»: 1. …ein zerbrochener Spiegel, und ob er Glück bringen wird: der ruhenden, gequälten Erde; vibriert, zerfällt zu Sand Lehm Moos, tränkt sich mit Wasser, vollgesaugtes Feuer, das aus den Büchern wieder ausbricht, funkenschlagenden Buchstaben, auch diese nun Spiegel, den feurigen, tränenden Sternen, auf ihrer Flucht in die Zeit vor der Zeit, die Nacht hinter der Nacht, den Menschen ("Vier Elemente"). → … разбитое зеркало в царстве минералов, - удачу ли принесёт оно отдыхающей измученной земле? оно вибрирует, распадается, обращаясь в песок глину мох, насыщается водой, напивается огнём, снова и снова вырывающимся из книг, из мечущих искры букв, но и они - только зеркало, отражение огненных плачущих звёзд в их бегстве в те времена, когда не было времени, ночь за ночью; это зеркало человека ("Четыре стихии"). 2. Nur zögernd kommen Briefe. Sie sind merkwürdig ("Die Blasmusik in Kolumbien"). → Письма приходят редко. Это странные письма ("Духовая музыка в Колумбии"). 3. Alle warteten auf den großen Gongschlag, den Anfang ("Die Hände"). → Все ждали великого удара гонга - все ждали начала ("Руки"). 1) Перестройка фразы по законам русского языка: Иногда необходимость перестроить фразу по законам русского языка требует разбивки тяжёлого строя синтаксиса с обилием простых предложений: 1. Der Besucher ruft in das Haus, es kommt keine Antwort, durchsucht die verstaubten Räume, sie sind unbewohnt; schaut in den Keller und arbeitet sich durch eine hoffnungslose Küche, die ein einziger Abfallhaufen ist ("Der Auftrag"). → Гость окликает хозяина. Нет ответа. Он проходит через запылённые комнаты в них никто не живёт; он заглядывает в подвал и пробирается в заброшенную кухню, превращённую в мусорную свалку ("Заказ"). 2. Noch einmal waren wir dabei, sage ich mir, doch das größte Stück Holz wurde erst am Abend von einem verspäteten Jungen gefunden, es schaukelte auf den Wellen der Nacht in seine Hand, er hatte es nie gesucht, aber so war es natürlich nicht ("Das Schützenfest"). → Ну вот, мы и побывали здесь ещё раз, - сказал я себе. А самый большой кусок дерева был найден только вечером каким-то припозднившимся мальчишкой. Качаясь на волнах ночи, он плыл в руки тому, кто никогда его не искал. А впрочем, так ли это? ("Праздник стрелков") В других случаях, наоборот, приходится объединять отдельные части фразы: All das musste mir gleichgültig sein, denn ich hatte nur eine Aufgabe. Sie war mir in Form dieses Körpers in mein Grundstück geschrieben ("Die Ausgrabung"). → До всего этого мне не было дела, потому что передо мной стояла единственная цель, в виде туловища впечатанная в мой участок ("Раскопки"). А нередко правила русского синтаксиса и особенности художественного образа требуют перекомпоновки составных частей фразы: Jeden Morgen muss ich aus meinem Tempelchen raus, das Holz des Fußbodens ist schon ganz durchgewetzt, das Knarren macht mich noch wahnwitzig, vorbei das Nachtigallengezwitscher der Planken, es knarrt und knackt wie in den Stimmbändern eines alten Kamels ("Die Ausgrabung"). → Каждое утро я должен выходить из своего маленького храма под соловьиное чириканье балок, скрип и скрежет - точно в голосовых связках старого верблюда. Деревянные полы совсем протёрлись, скрип сводит меня с ума ("Раскопки"). Изменение порядка слов нередко продиктовано различным логическим ударением в русском и немецком языках. В немецком языке слово, которое несет на себе смысловое ударение, как правило, стоит в конце предложения, в то время как в русском – в начале. Рассмотрим это на следующих примерах: 1. Mein Studium ließ ich fallen, es gab genug auf dem Fahrrad zu verdienen ("Elsässer Passage"). → Учёбу я забросил, прилично заработать я мог и на велосипеде ("Эльзасский пассаж"). Для студента, который после войны берется за выживание, главное – заработать на жизнь. Поэтому в оригинальном тексте глагол «verdienen» стоит на последнем месте, а в русском варианте глагол «заработать» стоит в начале простого предложения. 2. Einer, der größte, wurde zum Hahn ernannt ("Das Schützenfest"). → Петухом был избран самый высокий ("Праздник стрелков"). Поскольку апогеем праздника стрелков является церемония выбора «петуха» в немецком варианте «Hahn» стоит в конце предложения, а в русском «петух» - в начале. Среди множества практикуемых приемов художественного перевода хотелось бы упомянуть еще один: прием риторического вопроса. В некоторых случаях риторический вопрос, отлично передавая долю сомнения, заложенную в высказывании рассказчика, придает ему более живую, разговорную интонацию. Например, короткий рассказ "Праздник стрелков" ("Schützenfest") заканчивается фразой: " …aber so war es natürlich nicht." ("Но, конечно, это было не так"). Этому предшествует метафоричный пассаж, описывающий не столько реальный праздник стрелков, сколько его образ, возникший в сознании рассказчика, отсюда и его сомнение в реальности происходящего. Поэтому риторический вопрос "А впрочем, так ли это?" представляется в данном случае более удачным, чем буквальный перевод. В вопросах пунктуации пришлось искать компромиссный вариант: там, где речь шла только о различии в правилах пунктуации немецкого и русского языка, в переводе знаки препинания расставлялись согласно принятым у нас нормам. Например: 1. Wenn Sie ein Fahrrad haben, sagte er, können Sie das Zimmer bekommen ("Elsässer Passage"). → Если у Вас есть велосипед, - сказал он, - я могу сдать Вам комнату ("Эльзасский пассаж"). 2. Der Philosoph hatte keine Wohnung mehr, Zwangsvollstreckung. ("Der Philosoph") → У философа больше не было квартиры: принудительное выселение. ("Философ") 3. Was gehen mich meine Dummheiten an. ("In der Windmühle") → Какое мне дело до собственных глупостей! ("На ветряной мельнице") Когда же речь заходила об авторской пунктуации, например, при передаче потока сознания и т.д., она была сохранена и в переводе. Например: 1.…ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass ich noch keine achtzehn bin, und wer lebt denn schon genau in seinem Alter drin, das wäre ja wie der Wurm im Apfel, die meisten schwirren zwischen eins und sieben herum, der Rest wiederholt sich und keiner weiß es, und nur deswegen schaffen sie den Führerschein und ich weiß es halt und es ist schon kostspielig dieses enorme Wissen, wenn mich meine Brüder nicht durchfütterten, aber dafür kommen von mir die geistigen Aufträge, wahrscheinlich bin ich erst vier, ich muss mir dringend ein Buch von diesem Doktor Freud aus Wien kaufen…("Frühlingsträume"). → …я пришёл к убеждению, что мне ещё нет восемнадцати, ну кто так уж педантично живёт в своём возрасте, мы же не черви в яблоке, большинство слоняется между цифрами один и семь, всё остальное повторяется, и никто об этом не догадывается, поэтому-то они и получают права, теперь-то я знаю, хотя цена этих глубоких познаний весьма высока, и если бы меня не кормили братья…, зато это я даю им интеллектуальные задания, может, мне всего четыре года, я должен срочно приобрести книгу этого самого доктора Фрейда из Вены… ("Весенние мечты"). 2. … vibriert, zerfällt zu Sand Lehm Moos… ("Vier Elemente"). → …оно вибрирует, распадается, обращаясь в песок глину мох… ("Четыре стихии"). Мы затронули ряд приемов художественного перевода, которые представляются нам наиболее важными как в целом, так и в применении к конкретному материалу. Приведенные примеры из конкретной переводческой практики могут быть использованы как при переводе на русский язык других художественных текстов, так и на семинарах по теории и практике перевода. БРЕХТ НА СЦЕНАХ КАЗАНСКИХ ТЕАТРОВ Бертольт Брехт, совершивший подлинную революцию в драматургии и театре 20-го века, по-прежнему принадлежит к числу авторов, пьесы которых не сходят с афиш театров мира. Теоретическое и драматургическое наследие Брехта со временем не утратило своей значимости и не перестаёт быть предметом научного осмысления и сценического воплощения. В Германии, на родине драматурга, диалог с Брехтом ведётся особенно интенсивно. Имеет место не только следование принципам эпического театра, но и полемика с ними, и даже их откровенное пародирование. В России вспышка интереса к эстетике Брехта связана, прежде всего, с Театром на Таганке, которому оказался как нельзя более близок остро социальный, агитационный характер и активная, открытая форма брехтовского театра. С тех пор вряд ли найдётся серьёзный российский театр, который рано или поздно не обратился бы к наследию великого драматурга в стремлении открыть своего Брехта. Освоение брехтовской эстетики в Казани связано, в первую очередь, с именем Марселя Салимжанова, более тридцати лет возглавлявшего Татарский Академический театр имени Г. Камала. Придя в 1966 году из ГИТИСА, молодой режиссер взялся за перестройку сложившейся за десятилетия культуры актёрского театра. Найдя единомышленников в лице выпускников Щепкинского училища, Салимжанов строил театр режиссёрский, где постановщик определяет концепцию, главную идею спектакля, где есть ансамбль и лидер ансамбля, а не премьер и статисты, где есть сквозное действие и решается сверхзадача. Серьёзный успех пришёл к Салимжанову, когда он обратился к национальной классике, прежде всего, к пьесам выдающегося татарского артиста, режиссёра и драматурга Карима Тинчурина «Американец» (1969), «Угасшие звёзды» (1971), «Капризный жених» (1975), «Казанское полотенце» (1981) и «Голубая шаль» (1970, 1987, 2000). Ряд критиков считает, что именно через Тинчурина Салимжанов шёл к эпическому театру Брехта. Обращение к тинчуринскому наследию на рубеже 1960-1970-х было симптоматично типологически (и – агитационно-поэтический хронологически) близок театр эпическому драматурга театра Брехта, новаторское искусство которого в эти годы пришло к советскому зрителю (прежде всего, как уже отмечалось, в постановках Таганки). В постперестроечный период казанские театры трижды включали пьесы Брехта в свою афишу: Казанский молодёжный театр "Добрый человек из Сычуани" (реж. Б. Цейтлин, 1992) Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина "Мамаша Кураж и её дети" (реж. Р. Загидуллин, 2001) Казанский Академический русский большой драматический театр им. Качалова "Трёхгрошовая опера" (реж. А. Славутский, 2000-2001). Последний до сих пор не сходит с афиши театра. Казанский молодёжный театр сформулировал своё кредо следующим образом: во-первых, Бертольт Брехт для нас не драматург «социальных проблем», не автор, «бичующий капиталистическое общество», не убеждённый коммунист, лауреат Ленинской премии; во-вторых, эстетика «очуждения» и другие теории Брехта театр мало интересуют; в-третьих, даже глобальный вопрос о том, можно ли выжить в этом мире, оставаясь добрым, не преступая при этом ни одну из десяти заповедей, не представляет для театра интереса. Театр и так знает, что нельзя! Для театра Брехт, прежде всего, великий поэт и тонкий лирик. Это кредо Казанского молодёжного театра определило концепцию спектакля. "Добрый человек из Сычуани" в постановке Бориса Цейтлина (к тому времени заслуженного деятеля искусств Татарстана, в будущем обладателя «Золотой маски» за спектакль «Буря» по пьесе Шекспира, поставленный в Казанском молодёжном театре), стал сказкой о любви, рассказанной великим поэтом и тонким лириком, прятавшим свои чувства за социальной маской. Театр срывает эту маску, и зритель погружается в поток нежности и грусти. Превращения доброй ШЕН ДЕ в жестокого ШОЙ ДА (Елена Крайняя) – лишь часть высокой и трагической истории любви в мире, где ей нет места, любви вне закона и вне рассудка. Нищета и богатство, красота и убожество сосуществуют на сцене в нерасторжимом единстве. Кружатся в затейливом танце китайские драконы и веера, японские кимоно и маски, представляя Восток нашего воображения (декорации и костюмы Марии Рыбасовой). Рядом с ними отвратительные бесстыжие нищие, точно сошедшие с брейгелевских картин. Они жмутся друг к другу, пытаясь укрыться от дождя, жемчужинами льющегося из рук маленьких смеющихся китайчат (Л. Замятина, Е. Крутовских). Безобразные, беззубые маски, они вызывают смешанное чувство омерзения и жалости. Куда катится мир, где любовь так одинока? Этого не знают даже боги (В.Бобров, В.Глушков, В.Фейгин) – такова главная мысль спектакля, с пронзительным лиризмом воплощённая на сцене. Пьеса, написанная европейцем, немцем, действие которой происходит в условном Китае, разыгранная русскими артистами – вот три эстетических нити, из которых сплетается полотно спектакля. Брейгель причудливо сочетается с масками восточного театра и восточной архитектурой. Лёгкая, будто танцующая речь актёров накладывается на изящную стилизацию китайской музыки (Станислав Важов), перебиваемой современными ритмами или неожиданно взрываемой русской песней - не то стоном, не то плачем (обработка Евгении Смольяниновой). В пьесе Брехта авторы спектакля увидели прежде всего великую магию театра и мастерски воплотили её на сцене. Судьба спектакля "Добрый человек из Сычуани" в Казани была одновременно и счастливой и трагической. Молодёжного театра, сильнейшим Он стал лучшей постановкой театральным переживанием для многочисленных зрителей и в ночь на 31 января 1995 года исчез в огне пожара, уничтожившего здание театра и на шесть лет оставившего его труппу без собственной сцены. Так и остался он в памяти зрителей ароматом воспоминания о щемяще грустной, красивой любви, зыбким видением танцующих масок и застывших кукольных улыбок маленьких китайчат. Принципиально иным получился спектакль Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина по пьесе Брехта "Мамаша Кураж и её дети", поставленный главным режиссёром театра, заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан, Рашидом Загидуллиным. В отличие от Бориса Цейтлина, он явно не игнорирует принципы эпического театра Брехта и его главный инструмент – «эффект очуждения». Как известно, история маркетантки Анны Фирлинг, живущей в эпоху Тридцатилетней войны в Германии, стала одной из самых впечатляющих и значительных притч о войне как таковой. Режиссёр подчёркивает заложенный в пьесе универсализм, вводя в спектакль документальные кадры времён Второй мировой войны, проецируемые на задник сцены, а также символическую фигуру Смерти. Солдаты Тридцатилетней войны оказываются оснащёнными автоматами и выступают в камуфляже, напоминая не то современных террористов, не то чеченских боевиков, не то бойцов спецназа. Приём этот далеко не нов. Тем не менее, сопряжение различных временных пластов, соединение картин трёх кровопролитных войн в единый смертоносный образ войны выполнено совершенно в духе параболы Брехта. История словно «рассказана» не героями из далёкого прошлого, а нашими современниками, знакомыми с кровавым опытом человечества последних столетий, то есть содержит изрядную долю «очуждения». В остальном же спектакль выдержан в лучших традициях национальной татарской бытовой драмы. По признанию Рашида Загидуллина, он хотел объединить в своей постановке «немецкую страсть к порядку и татарскую эмоциональность». Если о первом ещё можно поспорить, то второе режиссёру удалось блестяще. Татарский национальный театр существенно отличается от европейского, он в гораздо большей мере опирается на традицию народного театра с присущей тому повышенной экспрессивностью, открытой эмоциональностью и тесным контактом со зрителем. Рашид Загидуллин своего зрителя знает прекрасно и умеет пробудить в нём сочувствие или негодование, рассмешить или заставить бурно сопереживать героям. Благодаря замечательной игре актёров, в первую очередь, исполнительницы главной роли, заслуженной артистки Республики Татарстан Исламии Махмутовой, порой исчезала историческая и ментальная дистанция, и казалось, что действие происходит не в далёкой Германии 17-го века, а в какой-нибудь татарской деревне близь Казани. Журналист Раиль Гатауллин в своей статье, посвящённой 60-летию актрисы, сказал об этом так: «По Брехту, Кураж – женщина холодная, сухая, не высказывающая своих эмоций, меркантильная. Конечно, Махмутова – татарская актриса с иным национальным менталитетом – не похожа, скажем, на известную немецкую актрису Е. Вайгель, игравшую эту роль в театре «Берлинер ансамбль». Мамаша Кураж у Махмутовой – женщина живая, привлекательная, неравнодушно реагирующая на происходящие события. Её сердце обливается кровью при известии о потере детей. Она горячо проклинает войну и, тем не менее, постаревшая, измождённая, продолжает ей служить. В этом противоречии человеческого характера кроется трагедия Кураж» [6, 2]. Мы видим иное, чем у Брехта, прочтение образа, которое имеет больше общего с национальной татарской традицией, чем с эпической отстранённостью, декларируемой Брехтом. Однако это никоим образом не сказалось на качестве спектакля, который стал поистине удачным примером рецепции зарубежной драматургии национальным театром, когда при стремлении сохранить верность оригиналу учитывается и специфика национальной эстетики, и особенности зрительского восприятия. Мнения по поводу постановки, были, правда, не однозначны. Некоторые продвинутые зрители выражали сомнение в правомерности вольного обращения с принципами брехтовского эпического театра. Кому-то слишком откровенными и прямолинейными показались аналогии с современностью. Но, как справедливо отметил преподаватель филфака КГУ Марсель Ибрагимов, «почти все сошлись в одном: постановка тинчуринцев затрагивает проблему привыкания человека к нивелированию общечеловеческих ценностей: мира, материнства, любви. Это делает понятными и аналогии с современной российской историей (большинство из нас уже давно не удивляется трагедиями людей на чеченской войне), и кадры кинохроники <…>, которыми периодически сопровождается действие на сцене. «Мамаша Кураж» в трактовке Рашида Загидуллина апеллирует прежде всего к сознанию зрителя, заставляет задуматься о современности, соотнося её с историческим прошлым (не в этом ли важнейшая цель Брехта?! – Е.Ш.). При этом режиссёр достаточно бережно обращается с самой пьесой, и после спектакля не возникает сомнения: «А был ли Брехт?» [12, 2]. У театра им. К.Тинчурина помимо обращения к Брехту накоплен большой и интересный опыт работы с зарубежной драматургией. На его сцене с успехом шла комедия по пьесе Ж.Б.Мольера «Господин де Пурсоньяк», постановка «После чуда» Уильяма Гибсона, «Кровавая свадьба» по пьесе Ф.Г.Лорки, «Безумный день или женитьба Фигаро» Бомарше и др. В октябре 2000 года на сцене Казанского Академического русского большого драматического театра имени В.И. Качалова состоялась премьера ещё одной пьесы Брехта – «Трёхгрошовой оперы», написанной в содружестве с композитором Куртом Вайлем. Спектакль, поставленный народным артистом России, лауреатом Государственной премии им. Г. Тукая Александром Славутским, до сих пор с успехом идёт на казанской сцене, кроме того, он принимал участие в Международном фестивале во Франции (г. Марсель, 2001), гастролировал в Болгарии (г. Пазарджик, 2004), Македонии (г. Битола, 2004), Санкт-Петербурге (2002), Нижнем Новгороде (2003), Москве (2005) и т.д. Будучи одним из самых «обаятельных» творений Брехта, «Трёхгрошовая опера» почти обречена на успех. Яркий гротеск характеров, блистательный юмор, комизм ситуаций в сочетании с острохарактерным мелодизмом музыки К. Вайля вот уже восемьдесят лет обеспечивают пьесе популярность и любовь зрителей. Красочность, эффектные музыкальные номера, оригинальные костюмы, выразительная сценография – вот что в первую очередь привлекает казанского зрителя в постановке Качаловского театра. Газета «Прованс» (Марсель) также отметила великолепные костюмы, стройную хореографию, действенные мизансцены и замечательных исполнителей: «Без единой фальшивой ноты они с блеском ведут эту популярную пьесу, соединяющую текст Б.Брехта и музыку К. Вайля, в которой органично сочетаются джаз, кабаре, народные песни»[24, 1]. Ещё более восторженные отзывы публикует газета «Либерасьон» (Марсель, 2001): «Актёры и певцы укрощают огонь, в котором анархическая непринуждённость текста и ядовитое очарование музыки создают взрывную смесь из нитроглицерина и драгоценного металла. Ничто не стоит на месте, всё в движении, от нежной гримасы до дьявольского восхищения!» [там же]. Выбор пьесы, наконец, «легитимировал» ставшую притчей во языцех страсть качаловцев к танцам и пению, идёт ли речь о постановках Гоголя, Булгакова, Дюрренматта или Пушкина. Сам по себе этот приём возражений не вызывает, настораживает, правда, тот факт, что русские аристократы («Пиковая дама»), продавшие свои души жители города Гюллена («Визит старой дамы») и обитатели лондонского дна («Трёхгрошовая опера») выделывают одни и те же па, ставшие, по всей видимости, визитной карточкой балетмейстера Сергея Сентябова. Сценография Александра Патракова полностью соответствует требованиям Брехта, предъявляемым к эпическому театру: никакой иллюзии, никакого погружения в «атмосферу». На сцене только конструкции из металла и развешанные плакаты из арсенала мистера Пичема: «Дающему воздастся!», «Не будь глух к чужой беде!» и т.д. Первые музыкальные такты задают тональность спектакля. Правда, сразу же вызывает сожаление тот факт, что режиссёр отказался от сцены «Ярмарка в Сохо» и знаменитой баллады о Мэкки-ноже. Вместо этого на просцениум выходят Дженни-Малина (Ольга Арисова) и Мэкки-нож (Илья Славутский) и с разоблачительным пафосом юных пионеров поют о аморфна и сцена в жестокости и несправедливости мира. Несколько заведении Джонатана Джеремии Пичема, где «несчастнейшие из несчастных могли бы приобрести внешность, способную тронуть всё более и более ожесточающиеся сердца» [4, 9]. Попрошайки всех видов и мастей, с блестящей иронией и изобретательностью выписанные Брехтом, здесь приобретают характер довольно бесцветной, бесхарактерной массы. Только мистер Пичем (Михаил Галицкий) выгодно выделяется на этом фоне своим инфернальным шармом, вызывая в памяти зловещих диккенсовских стариков. Госпожа Пичем (Светлана Романова) при этом напоминает застывшую, хотя и, безусловно, яркую маску. Наиболее удачные фрагменты - ряд сцен с Мэкки-ножом, столкновение Пичема и Брауна, шефа лондонской полиции (Кирилл Ярмолинец) – вытягивают провисающий порой темп спектакля. Финальная же сцена становится подлинным апофеозом, погружая зрителя в динамичную игровую стихию брехтовской пьесы. При всей заложенной в ней социальной критике, спектакль, однако, остаётся скорее в рамках развлекательного театра. Три казанских спектакля по пьесам Брехта представляют собой три разных возможности его прочтения. Можно долго говорить о том, какой опыт оказался наиболее успешен. Но сам по себе факт непреходящего интереса к драматургии великого реформатора сцены и множественность подходов к его художественному наследию говорит о том, что Брехт, к счастью, не стал музейным экспонатом истории мирового театра, а продолжает провоцировать художников и зрителей на столь любимый им полемический диалог. О НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВКАХ НЕМЕЦКОЙ «НОВОЙ ДРАМЫ» В РОССИИ (К проблеме сценичности современной драматургии) Под сценичностью пьесы и литературного материала в целом традиционно понимается его пригодность для сценического воплощения. Так, Патрис Павис в своем «Словаре театра» трактует это понятие следующим образом: «сценический / сценичный (нем. szenisch, bühnenwirksam, theatralisch; англ. scenic, wellstaged, stagy») выразительности», далее – благоприятствующий театральной уточняя: «Пьеса или пассаж иногда чрезвычайно сценичны, то сеть зрелищны, легко поддаются игровому и сценическому воплощению» [19, 375]. Элли Перель, автор новейшего англо-русского и русско-английского театрального словаря, дает аналогичное определение термина «сценичный» и «сценичность»: сценичный (о пьесе, литературном материале и.т.п.) – actable, playable, stageable, scenic, stageworthy (пригодный для сцены); сценичность (лит.) (условная театральность) – theatricalness [20, 392]. Однако, как мы видим из последнего определения, понятие «сценичность» здесь приравнивается к родственному, но не тождественному понятию «театральность». Знак равенства, по сути, ставит между ними и Павис, определяя театральность как специфически театральное (или сценическое) в представлении или драматургическом тексте [19, 406]. Т.Шахматова в своей статье «Некоторые размышления о сценичности современной драмы (на примере пьес братьев Дурненковых)» утверждает, что «такие понятия как сценичность и театральность бытуют в современном научном обиходе как своеобразные терминологические химеры: ими активно пользуются, измеряют качество пьесы и спектакля, но не только четких критериев, а даже полноценного определения ни сценичности, ни театральности до сих пор не существует» [32, 65]. Однако характер функционирования этих понятий позволяет наметить между ними, пусть и условный, водораздел. Театральность шире сценичности, так как включает в себя и сценическую условность и театральное в жизни – все то зрелищное, броское, эффектное, что переводит план обыденного в план искусственного и искусного. Сценичность же, по мнению Т.Шахматовой, - «это характеристика драматического текста, заключенная в наборе особых средств и приемов, которые позволяют создать из пьесы спектакль», «некая система эффектов, сознательно заложенная драматургом в свою пьесу для вовлечения зрителя в действие, чтобы вызвать у него эмоциональный отклик» [там же]. Но в вопросе о наполняемости этого понятия, о том, какие конкретно средства, приемы и эффекты можно считать показателями сценичности, царит еще большая неопределенность и разноголосица мнений, чем при размежевании терминов «сценичность» и «театральность». Связано это во многом с историческим характером самого понятия. Каждая эпоха и эстетическая система выдвигала свои требования к драматургии. Соответственно Так, В.Сахновский-Панкеев эволюционировало и понятие сценичности. в известной книге «ДРАМА. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь» говорит об «исторически изменчивом критерии сценичности», о неких «рудиментах», которые обнаруживаются в пьесах, написанных в иную эпоху: «Это могут быть реплики, эпизоды, иногда целые сцены, потерявшие свое значение, ненужные, а то и непонятные для зрителя нового времени… Это могут быть рассуждения о лицах или событиях, некогда злободневных, а ныне – канувших в лету, метафорические отсылки, смысл которых сегодня ведом лишь историкам, и т.д.» [21, 200]. «Рудиментами» автор считает также прологи, которыми открываются, к примеру, многие шекспировские трагедии и комедии, с целью оповещения о ходе действия, «настройки» зрителя на грустный или веселый лад, равно как и монологи служебного персонажа, именовавшегося хором. Мерилом сценичности во второй половине XIX века становится так называемая «хорошо сделанная пьеса», то есть пьеса с логически выстроенной интригой и единством действия. «Новая драма» рубежа XIX- XX веков выдвигает новые требования к драматургической технике и меняет бытующие представления о сценичности. Внимание переносится с сюжетных перипетий, с внешнего конфликта на конфликт внутренний, на душевное состояние героев, на атмосферу, настроение, деталь. И все же, при всех исторических трансформациях, понятие сценичности традиционно связано с неким гармоническим соответствием между словом и действием. В.Волькенштейн утверждает: «Сценичны пьесы с крепко завязанным «драматическим узлом», с рельефным и энергичным нарастание действия, с живой целеустремленностью реплик, с эффектными концовками актов и картин» [5, 326]. В.Сахновский-Панкеев считает, что добиться большей сценичности можно, усилив актуальность звучания, углубив психологическую разработку характеров героев и взаимоотношений между ними [21, 202]. Если руководствоваться этими определениями, выясняется, что новейшая немецкая драматургия не просто несценична, а антисценична. Тотальная эпизация драматического текста, подмена действия рефлексией персонажей, распадение конфликта на ряд локальных антиномических ситуаций, маски и типажи вместо полноценных характеров, обособление языка, аморфная, фрагментарная структура – таковы приметы драматургии последнего порубежья. Они свидетельствуют о поистине радикальных изменениях, которым в последнее время подверглась драма как род литературы. Для обозначения характера происшедших перемен крупнейший немецкий театровед Г.-Т. Леманн ввел термин «постдраматический театр». «Пионерами» в области деконструкции традиционной драматической формы явились драматургипостмодернисты Х.Мюллер, Э.Елинек и др. Исследователь драмы и театра Ю.Шрёдер в этой связи отмечает: "Постдраматический театр" стал спорным паролем десятилетия, это театр, практически распрощавшийся с основами основ драматического искусства со времён Аристотеля - мимесисом, действием, характерами, конфликтом, ситуацией, диалогом…»6 [46, 1080]. Шрёдер говорит об «обесценивании символического языка в пользу театра, который путём саморефлексии и автореференций реализует всего лишь 6 Здесь и далее перевод мой – Е.Ш. собственную "театральность" или в значительной мере отказывается от языка ради перформативного "театра телесности"» [там же]. Противоположным паролем, сформировавшимся уже во второй половине 90-х годов, становится "новый реализм». В 90-е годы в драматургию приходит целая плеяда молодых талантливых авторов: Д.Лоэр, М.фон Майенбург, Т.Йонигк, О.Буковски, Ф.Рихтер, Г.Данкварт, Т.Вальзер, Р.Шиммельпфенниг, Р.Поллеш и др. По мнению режиссера и интенданта Берлинер Шаубюне Томаса Остермайера, все они "пытаются восстановить перерезанную пуповину", которая снова свяжет их с действительностью, обращаясь к чрезвычайно актуальным социально-политическим темам, таким как безработица и крушение семьи. При этом новые драмы пишутся не в традиционном жанре критической народной пьесы (Volksstück), а разворачивают богатую палитру инновативных (пост) драматических форм, смешивая различные жанры и тональности" [цит. по 45, 2]. Инновативные (пост)драматические формы диктуют новые критерии сценичности и выдвигают перед режиссером новые требования. Т.Шахматова отмечает: «Обычно осознание новой сценичности осуществляется как союз драматурга и режиссера, причем характер поисков и того и другого часто воспринимается как вызов существующей театральной эстетике» [32, 66]. Однако сразу следует оговориться, что здесь продуктивный союз драматурга и режиссера - скорее исключение, чем правило, особенно в российском культурном пространстве. Существуют немалые проблемы на пути сценической реализации новой драмы, как отечественной, так и зарубежной. Сказывается, по-видимому, отсутствие в России традиции экспериментального театра, консерватизм репертуарных театров и попытки режиссеров решать новые задачи старыми способами. Рассмотрим несколько пьес молодых немецких драматургов и их постановки российскими театрами с целью выявления сценических возможностей, заложенных в самих текстах («текст пьесы»), и изучения примеров их реализации на сцене («текст театра»). В пьесе Ингрид Лаузунд «Бесхребетность. Вечер для людей с нарушенной осанкой» („Bandscheibenvorfall. Haltungsschäden”) предметом Ein Abend für Leute mit изображения становится жизнь «белых воротничков», так называемого «офисного планктона». Место действия – некий обобщенный офис, обитатели которого заняты не работой, а психологической войной за место ближе к телу начальства. Тип взаимоотношений – «человек человеку волк» - заявлен уже на уровне списка действующей лиц, где в качестве основной характеристики персонажей названы их любимые виды борьбы: айки-до, кен-до, кикбоксинг и др. В пьесе есть точная, острая, гротескная картина служебного бытия при полном отсутствии сюжета. Нет и характеров – они оказываются вытесненными типажами: Лидер, Стерва, Весельчак, Добрая Мышка, Козел Отпущения. Если говорить о сценичности пьесы Лаузунд, то она связана, в первую очередь, с концентрированной образностью и с чередованием текста и подтекста. Так, автор материализует распространенные метафоры «оторвать голову», «воткнуть нож в спину» – персонажи выходят из кабинета начальства кто с восковой копией своей головы в руках, кто с торчащим из спины ножом. Метафоричны и их словесные оценки собственной персоны или положения вещей: «операционная система – обыватель, ключ потерян», - говорит о себе «козел отпущения» Краузе, «Я хочу новый позвоночник, чтобы он не изгибался самопроизвольно у дверей начальства» - восклицает местный «шут» Крёцке, «Я сломана. Я не хочу больше функционировать», - резюмирует «Бесхребетность» или «нарушенная осанка» - внешне успешная Шмитт. это метафора отсутствия личностного начала. Неуверенные в себе, страдающие комплексами персонажи пытаются искусственно «создать себя» с помощью новомодных методик самосовершенствования. В результате мы имеем дело не с полнокровными характерами, а с «моделями успешного поведения», некими конструктами, в итоге не выдерживающими ни внешнего, ни внутреннего напряжения и «ломающимся» на глазах у зрителя. Чередование текста и подтекста реализуется в быстрой смене двух планов: на поверхности доброжелательность, корпоративная этика, политкорректность, за ней – интриги, соперничество, подсиживание, зависть, жестокость, материализующиеся то в террариум (мило беседующие менеджеры превращаются в шипящих, изготовившихся к нападению кобр), то в стаю ощерившихся, похотливых псов. По пьесе И.Лаузунд был поставлен спектакль «Оffиc“ в Театре им. А.С.Пушкина в Москве (март 2008 г.), ставший самым ярким событием сезона. Спектакль получил новое русско-английское название, вероятно, в знак того, что обитатели офисов во всем мире одинаковы. Режиссеру Роману Козаку, известному своей бережной работой с самыми сложными текстами, удалось преодолеть некоторую монотонность бессюжетной пьесы, отсутствие в ней динамики и создать энергичный, зрелищный, современный по ритму и настроению спектакль. Этому в большой степени способствовало творческое сотрудничество с Аллой Сигаловой. Драматическая энергия рождается из духа танца, образы и ситуации решаются через пластику: «прирожденный вожак» Хуфшмидт, пытаясь побороть в себе маленького мальчика, травмированного авторитарными родителями, ходит твердо и неестественно прямо, «точно аршин проглотил»; «весельчак» Крёцке подвижен и расхлябан; успешная «стерва» двигается с механистичностью автомата; робкая «добрая мышь» Кристенсен, репетирующая перед зеркалом позу уверенности и позитивный настрой, на деле «по-собачьи» вскидывает голову и совершает массу мелких суетливых движений; у «козла отпущения» Краузе голова втянута в плечи, он точно стремится стать ниже ростом. Все потаенные мысли, движения души, состояния находят на сцене свой пластический эквивалент. В этой связи критики нередко вспоминают прямо Станиславского «метод физических действий», противоположный системе придуманный в свое время Кириллом Серебренниковым для постановки пьес Марка Равенхилла и братьев Пресняковых. Рисунок каждой роли завершается финальным монологом, произносимым актерами убедительно, но без пафоса и мелодраматизма. В результате им удается найти баланс между типажной маской и психологическим портретом. Благодаря такому сценическому решению Козака и Сигаловой спектакль превращается в поистине захватывающее театральное действие, адекватно передающее и весь проблемно-тематический комплекс пьесы И.Лаузунд, и специфику ее художественного языка. Самым известным и востребованным из немецких драматургов новой волны является Мариус фон Майенбурга. В его пьесе «Урод» („Der Hässliche“) центральный персонаж Летте, успешный инженер-изобретатель, счастливый муж, неожиданно делает ужасающее открытие – он уродлив. По этой причине шеф отправляет на международный конгресс его коллегу, который, пожиная плоды чужого труда, будет представлять там изобретение Летте. Доведенный до отчаяния, тот обращается к пластическому хирургу, который превращает его в писаного красавца. Отныне хирург продвигает своего пациента на рынке как образец идеального лица, а шеф использует его привлекательную внешность для приманки клиентов, прежде всего, престарелых богатых дам. Так скромный изобретатель становится баловнем судьбы, предметом женского вожделения и самодовольным нарциссом. Но «рыночная стоимость» Летте резко падает, после того как хирург начитает тиражировать его образцовое лицо. Самораздвоение Летте ведет к необратимым изменениям, и он окончательно утрачивает себя. «Уродство» Летте - метафора инакости, несоответствия требуемым «товарным качествам». Об этом свидетельствует примечание автора в списке действующих лиц: «Летте должен выглядеть нормально, не надо гримировать его под урода» [30, 165]. Помимо Летте, в пьесе четыре мужских персонажа (Шефлер, начальник Лете, и Шефлер, хирург; Карлманн, ассистент, и Карлманн, сын богатой старой дамы Фанни) и три женских (Фанни, жена Летте; Фанни, богатая старая дама, и Фанни, ассистентка хирурга Шефлера). Как мы видим, имена действующих лиц не только не служат средством индивидуализации, но и не выполняют даже традиционной различительной функции. А указание драматурга на то, что трех Фанни играет одна актриса, равно как один актер играет двух Шефлеров и один – двух Карлманнов, направлено на визуализацию взаимозаменяемости и обезличивания человека в современном мире – главную проблему пьесы. Критики с удовлетворением отмечали в качестве несомненного плюса пьесы наличие сюжета, его простоту и внятность на фоне концептуальной сумятицы современного искусства. Однако сюжетная развязка не становится развязкой смысловой: пьеса завершается диалогом двух совершенно не отличимых друг от друга красавцев – Летте и Карлманна: «Я так люблю меня», «Я не могу без меня жить», «У меня божественно прекрасный рот» и т.д. [там же, 201]- с такими нарциссическими признаниями, заканчивающимися поцелуем, каждый из них обращается к своему визави. Пьеса, в которой, по мнению критики, речь идет о таких важных проблемах, как «жизнь людей в эпоху пластической хирургии и заката гуманистических ценностей», «о мире, всё превращающем в товар и выпускающим в тираж», «о потере лица и поиске собственной идентичности», «о призрачности красоты в современном мире», оборачивается фарсом, бурлеском. Что касается персонажей, то, как в большинстве современных пьес, они не лишаются своего «я» по ходу сюжета, а лишены его изначально. Их личностный потенциал сводится к элементарным социальным маскам – работник КБ, шеф, ассистент, жена и т.д. Поэтому попытки режиссера решить их характеры средствами психологического театра – путем построения психологических мизансцен, или, напротив, создания образно-символического ряда, вряд ли оказались бы успешными. Обратимся к спектаклю по пьесе «Урод» московского театра «Практика» в постановке Рамина Грея (премьера – 28 февраля 2010 г.). Грей - бывший художественный руководитель лондонского театра «Роял Корт», открывший некогда для английского зрителя новое поколение российских драматургов – братьев Пресняковых, Василия Сигарева, братьев Дурненковых и других. Апологет документального театра, возведший технику verbatim в ранг самостоятельной эстетической системы, Р.Грей и пьесу «Урод» поставил в своей традиционной манере: минимум декораций, никакого грима, четверо актеров сидят на грубо сколоченном помосте в обычной «не сценической» одежде и виртуозно, в головокружительном темпе, произносят живой и пластичный текст фон Майенбурга. Это напоминает то вербальный пинг-понг, то словесный каскад. Сценическое движение сведено к минимуму, «перевоплощение» из одного персонажа в другой происходит в основном за счет изменения интонационного рисунка. Актеры не вживаются в свои персонажи, не сопереживают им, а представляют их подчеркнуто отстраненно и иронично. В результате режиссеру, выдвигающему во главу угла текст, удается передать водевильную интонацию оригинала, остроумный характер пародии Майенбурга на стадную безликость и на саму новую драму с ее героями «без лица». глубокомысленностью, Грей не нагружает патетическими спектакль стенаниями по чуждой поводу пьесе утраты идентичности, не превращает его в социальную сатиру на общество потребления, а сохраняет за ним статус занимательно и живо рассказанного анекдота на злобу дня. Таким образом, новая сценичность современной драматургии очевидно требует от режиссера переосмысления традиционных подходов к сценическому воплощению литературного материала, а приведенные примеры свидетельствуют в пользу различных возможностей решения этой творческой задачи. ОБРАЗ ГОРОДА В ДРАМАТУРГИИ ЕВГЕНИЯ ГРИШКОВЦА И АЛЬБЕРТА ОСТРЕМАЙЕРА В целом ряде российских городов, в которых существует современная драма, драматический текст стал важной составляющей городского текста, поскольку именно жизнь провинции, российской глубинки является главным предметом изображения и осмысления молодых драматургов. Здесь, прежде всего, следует назвать екатеринбургский и тольяттинский городской текст, каждый из которых наделён своими уникальными семиотическими кодами. При этом Екатеринбург, основанный в 18-м веке, - это город, за свою достаточно долгую историю накопивший немало знаковых значений разных планов и тем самым занявший место в семиотике культуры. Тольятти же город молодой, и процесс "переосуществления материальной реальности в духовные ценности", процесс мифологизации здесь происходит особенно бурно. "Город Тольятти -…это бурлящий котёл с похлёбкой, которая ещё кипит, ещё варится…, - говорил лидер школы тольяттинской драматургии Вадим Леванов. - Иными словами, в Тольятти ещё не устоявшаяся культурная ситуация - всё находится в процессе и движении, всё только обретает форму" [26]. А драматург Михаил Дурненков по этому поводу высказался так: "Этот город стоит на пустом месте, там нет никакой подложки, ты живёшь в том вакууме и в той мифологии, которую видишь вокруг. Ведь если город появился с нуля, на пустом месте, то культурное пространство вокруг тут же обживается мифами. Даже человек становится притчей" [там же]. Таким образом, город одновременно является и объектом и субъектом текстов. В роли объекта он входит в драматические тексты со своими узнаваемыми реалиями, в роли субъекта, накопив за свою историю целый ряд знаковых, символических и мифологических значений, он сам влияет на новый текст, выступая в качестве "соавтора". Город как среда обитания современного человека, как малая родина, как персонифицированный, зачастую враждебный человеку фантом прочно вошёл в пьесы российских драматургов и занимает там место, которое трудно переоценить. Прежде всего, это город провинциальный, ведь именно жизнь провинции, российской глубинки является главным предметом изображения и осмысления современных драматургов. Современную немецкую драматургию также занимает феномен города. При этом в подходе к решению темы у отечественных и немецких драматургов присутствуют черты как сходства, так и различия. Последние связаны с особенностями философско- психологического, социокультурного и ментального плана, а также с опорой на разные традиции. Так, одним из основных нервов драматургии Е.Гришковца можно считать его противостояние Городу, не прекращающуюся с ним полемику. Показательна уже сама по себе необычайно высокая частотность употребления в текстах его пьес слова "город" и его производного "городок". Город несколько раз выводится в название - пьеса "Город", миниатюры "Этот город" и "Гвардейск-Ибица" из альбома "Сейчас" (подобно тому, как он присутствует в названии пьесы И.Вырыпаева "Город, где я", В.Леванова и М.Дурненкова "Сны Тольятти", В. и М.Дурненковых "В чёрном-чёрном городе" и др.). С одной стороны, у Гришковца это вполне конкретный родной город автора - Кемерево, холодный сибирский город, появляющийся уже в монодраме "Как я съел собаку". Вспомним ощущения маленького мальчика, которого каждое утро выдирают из тёплой постели и отправляют в темень и холод начинающегося дня: "…Идёшь в школу, темно, потому что зима. Всё очень знакомо, все звуки мешают жить. Ну, вот такая тропиночка по снегу, деревья, снег. Впереди маячат другие бедолаги, какие-то мамы дёргают вялых первоклассников. Снег, ветки, холодно" [7, 12]. Автобиографический характер носят и метания лирического героя в пьесе "Город", написанной в то время, когда автор решился уехать из родного Кемерова. Но за конкретным городом и конкретной ситуацией стоит более общая и важная тема - тема человека в современном городе. У Гришковца она связана с проблемой рутины и бессмысленности человеческого существования, с поисками своего Я, темой одиночества. В пьесе "Город" герой едет не "куда", а "откуда". Так возникает оппозиция "этот город" и "другой город", которая становится сквозным мотивом драматургии Гришковца. В "этом городе" всё предопределено, расписано от рождения до смерти. Больше всего героя пугают слова "всегда" и "никогда": "…я принимаю, понимаю очень остро, что я буду тем, кто я есть всегда. Понимаешь, всегда! То есть, не буду знать итальянский язык никогда, никогда не буду богатым, никогда не побываю в Аргентине, и так далее, и так далее…" [там же, 79]. Город здесь выступает в роли внесценического персонажа, он персонифицирован. Это родное существо, которое, подобно семье, сковывает героя путами своей любви и не даёт открыть в себе "другого", попробовать иную жизнь, обрести утраченный смысл бытия. Не случайно Максим, обращаясь к жене, ставит их в один ряд: "…ты, Сашка, работа, город… " [там же, 85]. В этом же ключе решается тема города в другой пьесе Гришковца - "Записки русского путешественника". Герой "Второй" одержим желанием уехать: "Я всё время уехать хочу! Просто уехать! …Даже если в Челябинск или Пермь, или Абакан…Он, этот город, тебя не давит, понимаешь? Дышится легко! Только родной город давит… Всем! Местами детства, обязанностями, домом, знакомыми, записной книжкой, всем, а там - хорошо" [там же, 219]. Так "другой город" становится символом иной, осмысленной жизни, полной человеческого тепла: это и некий грузинский город, где "так поют…где рады гостю. То есть любому гостю…Тебе, то есть. Просто так рады… Без причины…не за заслуги, не за достоинства….("Одновременно") [там же, 237], это и город из французских и итальянских чёрно-белых фильмов, каждый кадр которых полон любви - "Интересно, где тот город? … есть ли такие места, а главное время, где и когда этот чёрно-белый город совпадёт с тем городом, по которому хожу я, где мерцает моё окно или где в потоке машин горят фары моего автомобиля" ("Сейчас" Чёрно-белое кино) [там же, 335]. Город как живое существо присутствует и в пьесе "Планета": "Мне нужен сигнал, что я нужен городу. И вдруг я получаю этот сигнал. Город высылает мне навстречу делегата…" [там же, 143]. Здесь тема города поворачивается иной гранью - одиночество и затерянность человека в мегаполисе. Современные немецкие драматурги также нередко обращаются к теме города и места в нём человека, но отличие российской драматургии состоит наряду с прочим в том, что город здесь как правило не просто локус, место рождения и среда обитания современного человека. Тема города связана с поиском утраченной родины и с темой родины как таковой. У Гришковца она прочерчена пунктиром: "Всё было давно: и город этот был давно, и страна…Мне так жаль того мальчика, то есть, меня мальчика, который думал про себя давным-давно: "Господи, какое счастье, что я родился именно здесь! Вот родился бы где-нибудь в Аргентине, и что бы я тогда делал?" А сейчас я не понимаю, что это. В смысле, не что это за страна, а почему я её то так любил, то не любил, почему я здесь живу, почему живу именно так…" ("Город") [7, 86]; "…а потом и понял, что Родина и страна, в которой ты родился - не одно и то же." ("Как я съел собаку") [там же, 26]. В пьесах В. Сигарева тема российской глубинки и тема родины связаны напрямую. Об этом свидетельствуют, в частности, развёрнутые ремарки к пьесе "Чёрное молоко": "С чего начать-то? Не знаю даже. С названия города, может? Так это вроде и не город вовсе. И даже не городского типа посёлок. И не деревня. И вообще не населённый пункт это никакой. Станция это. Просто станция. Станция где-то посередине Необъятной Родины Моей. Только посередине не значит, что в сердце. Ведь необъятная Родина моя странное существо, и сердце у неё, как известно, в голове. Ну, да бог с ней. С головой, в смысле. Нам бы, где мы находимся, определиться. По моим расчётам, это область поясницы, крестца, или даже… Нет, даже не в самом центре этого. В эпицентре. Уж больно здесь всё какое-то не такое… Даже очень не такое. Такое не такое, что кричать хочется, вопить, орать, чтобы только услышала…"Ну и засра… Ну и нечистоплотная ты барышня, Родина Моя Необъятная!" А услышит ли? Поймёт? Задумается? Не знаю…" [22, 177]. В этой Богом забытой глухомани люди пьют, бомжуют, промышляют обманом, сами позволяют обдурить себя циничным "челночникам". Но пространство русской провинции традиционно содержит два полюса бытия. С одной стороны, провинциальность ассоциируется с "идиотизмом" русской жизни - невежеством, самодурством, ограниченностью обывателей, бессмысленностью их существования. С другой стороны - с неспешностью и нравственной целомудренностью жизни. Не случайно именно здесь живёт добрая и человечная тётя Паша, принявшая как дочь пришлую мошенницу Шуру, сердцем прикипевшая к её ребёнку. После рождения ребёнка и под влиянием тёти Паши Шура по-новому смотрит на свою жизнь: "Сукой быть устала…Я хочу, чтобы как человек… Как тётя Паша. Как все они…" [там же, 222]. И хотя недолговременным оказывается катарсис героини, хотя разливается и смешивается с вокзальной грязью заботливо приготовленное тётей Пашей молоко, финальные авторские ремарки исполнены надежды: "Остаётся только чёрная лужа на полу. Но в ней почемуто отражается не потолок, а небо. Ночное небо. Луна отражается. Планеты. И звёзды. Много звёзд. Миллионы. Миллиарды. Вся Вселенная в этой луже отражается. И звёзды мерцают в ней. Горят. Светятся. И вот она уже не чёрная, а снова белая. Белая, как молоко. Белая, как снег… [там же, 223]. Это ощущение себя частью вселенной, соотнесение собственного мирка с планетой, отчаянный взгляд в небо - ещё одно свойство новой российской драматургии. "Маленький человек" Гришковца проживает в конкретном городе, но живёт на планете людей. Переклички "большого" и "малого", микро - и макрокосма лейтмотивом пронизывают и монодраму "Одновременно", и практически все остальные пьесы: "Я хожу по городу…Я его вижу. И вижу я строения, между ними дороги…в землю зарыты трубы, провода, люки кругом, чуть поглубже метро… Но на самом деле, относительно размеров планеты, не так уж глубоко, так…чуть-чуть" ("Город") [7, 86]; "Бог мой, ужас! Это ужас!…Это природа, космос…космос! И я в этом участвую…" [там же, 87]; "А во сне может показаться, что ты летишь…И Земля летит. С одной стороны она освещена солнышком, а с другой - Луна и звёзды….Но всё это летит, и солнце летит, и звёзды, и Луна. И летят самолёты и космические корабли. И светятся окна в городах, и маленьких деревнях. И все друг другу посылают сигналы. И в хорошем сне кажется, что все эти сигналы долетают до адресата, и в ответ тоже летят сигналы" ("Планета") [там же, 151]. Современный город находится и в центре внимания молодого немецкого драматурга Альберта Остермайера. Любопытный факт: Остермайер и Гришковец - одногодки (оба родились в 1967 году). Но помимо этого их роднит и определённое сходство творческой манеры: главенствующая роль слова как драматургического элемента, тяготение к монодраме и монологу. Характерным свойством драматургии Остермайера является, по словам Г.Крауссэра, "страстный поток речи в духе странствующего проповедника" [цит. по 41, 9]. Строй его драм является музыкой нашего времени, смесью того, что мы регулярно слышим через динамики наших радиоприемников и телевизоров. Драматург не столько разъясняет, сколько внушает, суггестивность - одна из важнейших характеристик его творческой манеры. Как и у Гришковца, его театр – это не театр жестов или подчёркнутой "телесности". Практически всегда в нем преобладает форма внутреннего монолога. Его персонажи не участвуют в показной борьбе друг с другом, не вступают в открытый поединок. Собственно диалог в его пьесах сохраняет черты беседы с самим собой и неохотно прерывается, тем самым делая образы более глубокими и аутентичными. Его театр многие называют несовременным явлением, при этом произведения молодого драматурга пользуются неизменным успехом. Это связано с тем, что актуальность пьес Остермайера - это актуальность особого рода. Он говорит о трагизме нашего времени, но не пускаясь при этом в смелые эксперименты с художественной формой, а относясь со старомодной почтительностью к слову. «Радио Ночь" ("Radio Noir", 1992) является одной из наиболее характерных пьес А.Остермайера. Она представляет собой монолог ночного ди-джея по имени Парфенопа. Как известно, Парфенопа в древнегреческой мифологии – одна из сирен, полуженщин-полуптиц, своим голосом зазывавших моряков в опасные, гибельные места. Так и ночная сирена, очаровывая слушателей ночного эфира красивым глубоким голосом, проникает в их дома, в их одиночество и постепенно подводит их к идее самоубийства, соблазняет смертью. Сквозь полифонический поток сознания, льющийся из микрофона, встаёт образ современного большого города. Это враждебная человеку бетонная клетка с огромными жилыми блоками, неоновой рекламой, светящимися вывесками баров, многополосными автобанами, не затихающими даже ночью. Схожая картина возникает и в пьесе Гришковца "Планета": "И ты выскакиваешь в вечерний город. Выскакиваешь с надеждой…а что ты видишь? Ты видишь светящийся вечерний проспект, и по обеим сторонам его большие рекламные плакаты, а на этих плакатах большие красивые люди…Я с такими людьми не знаком…. И мчатся машины. А вечером в машинах не видно людей… И всё это мчится мимо, мимо…И мелькают холодные витрины дорогих магазинов. Там стоят пластмассовые мужчины и женщины в дорогой одежде… И мелькают бары с забавными и лихими названиями…" [7, 137-142], … и сразу убеждаешься, что ты не только ему (городу - Е.Ш.) не нужен, но и твоё присутствие здесь не обязательно" [там же, 137]. И в том и в другом случае красной нитью проходит мотив одиночества, затерянности современного человека в пресловутых каменных джунглях. Но если у Гришковца всё-таки присутствует надежда "найти человека", встретить любовь, то у Остермайера ночной город - жуткий фантом, безраздельное царство смерти. Здесь явно прослеживается сходство с немецкими экспрессионистами, для которых город – это ужасный монстр, пускающий снопы огня и фабричного дыма в небо (Ср. Г. Гейм «Бог города» и др.). У каждого из слушателей ночного эфира в пьесе немецкого драматурга своя драма. Парфенопа говорит от лица многих ("мы"), объединенных одиночеством. Смерть для них – это шанс быть услышанными, стать частью некой общности, освободиться от ужаса анонимности. Как заклинание, как зловещий рефрен звучат слова «позвони мне» ("ruf mich an"), "поговори со мной" ("talk to me"), с регулярной периодичностью повторяющийся в тексте, позвони мне, и я скажу тебе, как нужно умереть. Это гимн смерти, в котором она представлена прекрасным, освобождающим началом. Эстетизация смерти заставляет вспомнить картины, созданные в стихах Шарля Бодлера («Мученица» и др.), отсылает к немецким символистам круга Стефана Георге, вызывает в сознании мироощущение эпохи fin de siecle. Таким образом, мастерски передавая атмосферу современной жизни, ощущение времени, - прежде всего, за счёт языка и ритмического рисунка своих пьес, Остермайер опирается преимущественно на литературную традицию, в русле которой решена и тема города. Но традиция эта иная - если ощущение города у Гришковца и других современных отечественных драматургов уходит корнями в реалистическую русскую литературу, а его обитатели в большей или меньшей степени "вышли из гоголевской шинели", в монодраме Отстермайера звучат, экспрессионистского бунта, с другой "симпатия к бездне" прошлого порубежья. с одной стороны, отголоски ницшеанско - шопергауэровская ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ СХОДСТВО НЕМЕЦКОЙ И РОССИЙСКОЙ «НОВОЙ ДРАМЫ» В последние десятилетия драма как род литературы подверглась таким радикальным изменениям, что это позволило немецкому театроведу Кароле Дюрр утверждать: "Больше нет никаких правил, каноны исчезли" [11, 8]. Современная драма, в том числе драматургия постмодернизма мало исследована в сравнении с прозой и поэзией. Всякая попытка описать такое явление как новая немецкая и новая российская драматургия, прежде всего, наталкивается на проблему категоризации. Первый и до сих пор самый серьёзный опыт осмысления ситуации, сложившейся драматургии и современного немецком театроведа "Постдраматический театре, связан Ганса-Тиза театр" (1999). с именем Леманна Леманн и в немецкой крупнейшего его проводит книгой глубокое исследование театральной практики Германии последнего 30-летия ХХ века с целью выявления эстетической логики развития нового театра. Именно он вводит в обиход термин "постдраматический театр", включающий театрального в себя текста. противопоставления разнообразные Изначально аттической изменения этот драматического термин трагедии как возник и из образца "предраматического" театра, то есть театра "до драмы", и современного театра, основу которого уже не составляет собственно драматический текст. В последние годы вокруг этого определения ведутся ожесточённые дебаты. Одни понимают под ним хэппенинг, другие - проекты, в реализации которых помимо актёров участвуют художники, поэты, танцовщики, третьи приравнивают его к театру текста и т. д. Но всё это лишь частные его проявления. "Постдраматический театр" - широкое понятие, включающее в себя самые разнообразные преобразования театральной эстетики, в том числе изменение драматической формы. В современном "уже не драматическом театральном тексте" (Пошманн) отсутствуют цельные характеры, последовательно развивающийся сюжет, (традиционный) конфликт, линейный принцип нарратации, возникает диссонанс между сюжетом и формой, происходит обособление языка, отказ от "гомогенных изобразительных средств" и т.д. Деконструкция, которая вначале "обосновалась в классических текстах и проникла на сцену, теперь…достаточно часто является неотъемлемой составляющей новой драматургии" [11, 8]. Термин "постдраматический" во многом перекликается с термином "постмодернистский", что признавал и сам Леманн. Он провёл между ними весьма условный водораздел, ссылаясь на то, что понятие "постмодернизм" носит более глобальный характер, обозначая целую эпоху в искусстве, а "постдраматический" связан с конкретными вопросами театральной эстетики. специфические особенности "постдраматического совпадают с характеристиками Н..Л..Лейдерман и М.Н. При драматургии Липовецкий, этом выделяемые по сути постмодернизма. Так, говоря театра" им об обновлении драматургического языка постмодернистами, также отмечают отсутствие в их пьесах характеров и конфликта, объясняя это следующим образом: "… постмодернизм … последовательно разрушает представление о целостном характере и об объективной реальности, представляя и то, и другое хаотичной совокупностью культурных симулякров. В соответствии с постмодернистской логикой, между "характером" и "обстоятельствами" не может быть конфликта, так как они состоят из одного и того же материала…. Бездействие и отсутствие единства характера, рассыпающегося на множество бессмысленных слов и жестов, воплотило восприятие мира как энтропийного хаоса - состояние, в котором драматургический конфликт невозможен" [15, 67-68]. Не случайно, пионеры "постдраматического тетра" Хайнер Мюллер, Эльфрида Елинек, Райнальд Гётц и Гизела фон Высоцки считаются также виднейшими представителями немецкого драматургического постмодерна. Роль постмодернизма в деконструкции традиционной драматической формы, ставшей в новой драматургии общим местом, бессмысленно оспаривать. Однако далеко не вся драматургия 90-х и начала ХХI века в Германии вписывается в парадигму "постдраматического театра". Ю.Шрёдер в этой связи отмечает: "Постдраматический театр" стал спорным паролем десятилетия, это театр, практически распрощавшийся с основами основ драматического искусства со времён Аристотеля - мимесисом, действием, характерами, конфликтом, ситуацией, диалогом, а противоположным паролем, сформировавшимся уже во второй половине девяностых годов, становится "новый реализм". Этот новый реализм пытается ответить на программное уничтожение всех традиционных драматических форм и отказ от драматической "репрезентации" оригинальной регенерацией нарративных образов и театра диалога. Обесцениванию символического языка в пользу театра, который путём саморефлексии и автореференций реализует всего лишь собственную "театральность" или в значительной мере отказывается от языка ради "перформативного" противопоставляет "театра реабилитацию телесности", новый драматического текста, реализм героя и действия"7 [46, 1080]. Таким образом, вся современная немецкая драматургия существует в пространстве между этими двумя полюсами, и гиря маятника склоняется то в одну, то в другую сторону. Изменение театрального языка Леманн считает результатом не только эстетической эволюции самого театра, но и итогом глубоких преобразований, которым подвергается современное общество и человеческая личность. Речь идёт, в первую очередь, о кризисе "эпохи Гутенберга", о котором в последнее время много говорится. В наш век изменяется сам мультиперспективное 7 Здесь и далее перевод мой - Е.Ш. характер восприятие восприятия: приходит симультанное на смену и линейно- последовательному. Оно является более поверхностным, но одновременно и более широким, и вытесняет прежнее - сконцентрированное, глубокое восприятие, прообразом которого является литературный текст. Письменному тексту, книге нанесён серьёзный удар. Медленное чтение, равно как обстоятельный, тяжеловесный театр рискуют утратить свой статус на фоне гораздо более доступного и с коммерческой точки зрения несравнимо более доходного кинематографа. Литература и театр приобретают, таким образом, статус миноритарной художественной практики. Театр больше не является средством массовой коммуникации. В условиях стремительного технократического развития цивилизации "скорость" и "поверхностность" становятся факторами, препятствующими высвобождению активной энергии человеческой фантазии, что ведёт к пассивному потреблению информации и художественных образов. А театр и литература, имеющие преимущественно знаковый, а не иллюстративный характер, требуют сосредоточенного и углублённого восприятия. Кроме того, сфера культуры всё больше подпадает под действие закона рентабельности, и здесь становится очевидной ещё одна проблема: театр не производит никаких материальных, а значит, годных для оборота и сбыта на рынке продуктов, каковыми являются видео, фильм, диск или та же книга. С другой стороны, новые технологии и средства коммуникации с поразительной скоростью движутся в сторону "нематериального". Театру же, напротив, в большой степени присуща "материальность коммуникации". В отличие от других форм художественной практики, удельный вес его материалов и средств особенно велик. По сравнению с карандашом, бумагой или даже компьютером поэта или писателя, красками и холстом художника для жизнедеятельности театра требуется очень многое: это продолжительная по времени активность людей актёров, режиссёров и других работников театра, содержание сцены, административное управление, работа мастерских и т.д. Но при очевидном консерватизме, обусловленном самой его природой, театр находится в состоянии постоянного поиска и развития. Это - необходимое условие для того, чтобы сохранять своё место в обществе и выдержать конкуренцию технически более совершенных средств коммуникации. В этой связи Ю.Шрёдер, говоря о немецком театре 90-х, отмечает: "…Театры, также конкурирующие с новыми средствами массовой информации, ещё радикальнее освободились от традиционного господства драматического текста и в ходе "ре-театрализации" и "де-литературизации" открылись для перформативных форм танцевального, музыкального и мимического театра" [46, 1081]. Таким образом, изменение театрального языка является результатом как эстетической эволюции этого вида искусства, так и итогом развития человеческого общества в целом. При всей специфике каждого национального пути, есть некие общие законы - эстетические, исторические, социокультурные, которые и составляют основу для типологически родственных явлений в литературе и искусстве разных стран. Попробуем выявить параллели между новой немецкой и российской драмой. До середины 90-х годов театры Германии практически не проявляли интереса к молодой драматургии - ни к немецкой, ни к зарубежной. Вместо этого "режиссёры пускались во все тяжкие, придумывая всё более изощрённые интерпретации классических пьес" [11, 9]. В середине 90-х о себе ярко заявляет новое поколение драматургов. Театральные критики заговорили о "прорыве". Первыми возмутителями спокойствия стали лондонский Royal Court Theatre и берлинская команда под руководством интенданта театра "Berliner Schaubühne" Томаса Остермайера. Тогда взгляды молодых обратились в сторону Великобритании и Ирландии, на слуху появились имена таких авторов, как Марк Равенхилл, Сара Кейн и Энда Уолш. Одновременно обнаружилось много энтузиастов, готовых заняться поисками новых имён и в своей стране. Авторы объединялись и создавали театры для того, чтобы дать своим произведениям новую жизнь на сцене. Так, вокруг Оливера Буковски сформировался театр YAT ("Премьер-театр"), а внутри Драматургического Общества по инициативе молодых театральных авторов, заинтересованных в продвижении новой драматургии, сформировался форум Молодая драма. В предисловии к антологии новой немецкоязычной драматургии, выпущенной Немецким культурным центром им. Гёте, К. Дюрр говорит о настоящем буме, который сейчас царит на рынке современной драматургии: практически все театры заказывают для себя новые пьесы, проводят дни авторской драматургии, организуют конкурсы, берут в штат модных молодых авторов, и "если сразу после своего рождения новая драма была полигоном для всякого рода экспериментов и типичным феноменом, рождающимся, как правило, на студийных и экспериментальных площадках, то сейчас молодые, а порой и совсем юные авторы завоёвывают и "большую" сцену [11, 8]. Ещё никогда немецкие театры не нуждались в легитимации настолько сильно, как сегодня, считает театровед, никогда прежде они не испытывали такой настоятельной потребности в модернизации, не подвергались столь жёстким требованиями адаптации к условиям современного общественного развития. Так что новая драма появилась как нельзя более вовремя и стала неким связующим звеном между театром и молодым поколением. Аналогичная ситуация сложилась в России. В 90-е годы в репертуаре наших театров также преобладала отечественная и зарубежная классика. М.И. Громова подчёркивает тот факт, что в этот период "театры и современные драматурги никак не могут найти друг друга, что образовалась роковая пауза в традиционном для русского театра единении современной драматургии и сцены" [8, 226]. При этом уже в конце 80-х начале 90-х годов появляется целая плеяда новых драматургов со своим особым мировосприятием, новыми темами, формами, новым языком, но до поры до времени они игнорировались репертуарными театрами. Драматурги сплачивались, отстаивая своё место в искусстве. В Санкт- Петербурге, например, был создан "Домик драматургов" (1995) и начал издаваться альманах "Ландскрона". В настоящее время пьес пишется как никогда много. получившее Молодые название драматурги "новая драма". объединились В Москве в движение, появились свои "новодрамовские" театры - "Практика", "Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина" и "Театр.doc". Интересно, что последний был создан в 1999г. также под влиянием лондонского Royal Court Theatre. В разных регионах России работают творческие лаборатории, проводятся многочисленные конкурсы и фестивали, выявляющие молодые таланты. Это "Любимовка", "Новая драма" в Москве, "Евразия" в Екатеринбурге, "Майские чтения" и "Новая драма Поволжья" в Тольятти и многие другие. Движение объединило очень разные индивидуальности. Можно говорить о "метафизической зашифрованности" интеллектуализме и насыщенной пьес братьев Дурненковых, интертекстуальности драматургии В.Леванова, "романтическом каннибализме" жёстких пьес Ю.Клавдиева, "захлёбывающемся рэпе" сценической прозы И.Вырыпаева, абсурдизме актуальных коллизий в пьесах братьев Пресняковых и т. д. Возникшая как оппозиция традиционному репертуарному театру, прошедшая стадию молодёжной субкультуры, "новая драма" при всей своей неоднородности, идейном и эстетическом плюрализме обладает, однако, целым рядом признаков, позволяющих рассматривать её как единое художественное явление. "Новую драму" отличает жёсткий взгляд на социум, острое чувство реальности, так называемый "чёрный реализм", интерес к маргинальным сторонам жизни, натуралистичность, брутальность. При этом, как правило, нарушаются законы классической драматургии. Авторы отказываются от традиционного действия, конфликта, характера, композиции. Пьесы зачастую представляют собой череду механически сочленённых картин, порой тяготеют к прозаическому тексту, в них расширяется "авторское присутствие". Поэтому, как и в современной немецкой драматургии, происходит размежевание понятий "драма", "пьеса", "текст классификацию, для театра". современные Отвергая традиционную драматурги порой жанровую настаивают на индивидуализации жанра отдельной пьесы. В результате наряду с традиционным определением "пьеса" всё чаще можно встретить "текст", "проект", "композиция" и т.д. Вообще, в связи с современной, а не только "новой драмой", приходится говорить о размытости жанровых границ, о жанровым синкретизме, в немецком литературоведении называемом также "гибридизацией жанров". При этом "новая драма" несёт в себе поразительный заряд витальности. Это та самая "свежая кровь", которая, видимо, была необходима современному театру. И если до недавнего времени "новая драма" была представлена в основном только на собственных сценических площадках, то теперь и серьёзные репертуарные театры всё чаще обращаются к текстам "новодрамовцев". Как мы видим, судьбы новой российской и немецкой драмы достаточно схожи. Но, пожалуй, гораздо важнее то, что при анализе текстов выявляется их типологическое родство. Требование правды жизни и достоверности на сцене, характерное для российской новой драмы, отличает и молодую немецкую драматургию. Размышляя о том, что эти пьесы могут дать русскому театру, критик Елена Ковальская, в первую очередь, отмечает "ощущение реальности, неприкрашенной и честно зафиксированной" [13, 13]. Современные авторы - Д.Лоэр, М. фон Майенбург, Р.Шиммельпфенниг, Т.Йонигк, О.Буковски, Р.Поллеш, Х.Крауссэр, М.Ринке, К.Шпехт, Г.Данкварт, И.Бауэршима, И.Лаузунд, К.Герике, Л.Бэрфус, К.Шлендер, К.Денниг, А.Хиллинг, У.Сиха, Ф.Рихтер, А.Заутер, Б.Штудлар, Д.Калль и др. - пишут о том, что волнует современного человека: о семейных и социальных проблемах, о новых источниках информации и их влиянии на нашу жизнь, о глобализации и давлении конкуренции, об утрате чувства реальности, о межличностных отношениях, об отчуждении и одиночестве, о садизме и агрессии, о страхах и комплексах, о норме и безумии, о победителях и проигравших. Часто отправной точкой для написания пьесы становятся газетные заметки из раздела криминальной хроники. В этом молодая немецкая драматургия перекликается с документализмом новой российской драмы. К ней, без сомнения, применимы слова драматурга М.Дурненкова: "Новая драма - это абсолютно аутентичная реакция на то состояние или время, в котором мы живём, и именно так, а никак иначе необходимо рассматривать это явление" [10, 4] Девиз традиционного фестиваля "Новая драма" в России "Ищу героя!" однозначно говорит об отсутствии оного. Героя нет и в современной немецкой драме. Есть персонажи, притом не слишком обаятельные, о которых Е.Ковальская отзывается так: "Подростками они ездят толпой на футбол. Когда приходит время любить, жуют чипсы. Валяясь с подружками на лужайке, целуются, принимают наркотики и смотрят на луну. Повзрослев, они остепеняются. Спят со своими прагматичными жёнами, и луну им заменяет электрическая лампочка…но жизни - той авантюрной, полной открытий, крушений, вдохновения, жизни, которая наполняла существование героев классической драматургии, в них нет и в помине. Последний, самый яростный бунт, на который способны наши герои, - это драка в вагоне после футбольного матча" [13, 12]. Е. Ковальская считает, что дело тут не в том, что немцы со времён штюрмеров сильно измельчали, дело в эпохе, на которую пришлась жизнь этих персонажей и их авторов: "Европа собирает в кулак свои истончающиеся жизненные силы, она объединяется - против угрозы терроризма, американского доллара и расправляющего плечи Востока, и это союз слабых, анемичных эгоцентриков, живущих на обломках Ренессанса с его культом личного успеха. Но времена не выбирают, и большее, чего можно ждать от человека, который решается сегодня писать для театра, - это честность" [там же, 13]. Честность - это то качество, которое, при всех различиях социального, психологического и ментального свойства, бесспорно присуще "новым" авторам - как немецким, так и российским. Говоря о путях обновления драматургического языка постмодернистами, Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий в своё время отмечали внедрение в драму элементов, характерных для поэтики постмодернистской прозы и поэзии, особую роль отводя авторским ремаркам, не столько описывающим развёрнутым сцену, сколько определяющим философскую и эмоциональную тональность. Этот постмодернистский приём становится достоянием практически всей современной драмы. Он в равной мере присутствует как в пьесах Н.Коляды, В.Сигарева, И.Вырыпаева, так и в текстах Р.Шиммельпфеннига, И. Бауэршимы, Ф. Катера и многих других. Н..Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий подчёркивали и "постоянное нарушение сценической условности: в постмодернистских пьесах часто показывается не само действие (его может и не быть), а внутренняя рефлексия персонажей по поводу жизни вообще" [15, 67]. В этом новая драма также наследует постмодернизму. Отсюда и преобладание на сцене монологов (к примеру, блестящие коммуникативной монологи функции братьев диалогов. Дурненковых), К.Дюрр делает и утрата радикальное заявление: "Постулат о том, что драматургические тексты должны быть структурированы в форме диалога - это, конечно же, прошлогодний снег" [11, 11]. В качестве примера она приводит городскую сказку Р.Шиммельпфеннига "Арабская ночь", где герои больше говорят о самих себе, рассказывают о своих поступках и наблюдениях. При этом делают это чаще в третьем лице, чем в прямой речи. Коммуникация между героями происходит не напрямую, а носит опосредованный характер. Э.Елинек утверждает, что на смену диалогу в современной драме приходит некое "пересечение семантических полей". Язык в этой связи приобретает в современном тексте особый статус. Характеризуя постмодернистскую драму, Е.Л.Лейдерман и М.Н.Липовецкий особенно показательным считали перенос внимания с действия на языковую игру: "персонажи в пьесах постмодернизма осуществляют себя не столько в поступках, сколько в словах…" [15, 67]. Елинек идёт ещё дальше - она "обособляет язык", отделяет его от носителя. В новой немецкой и российской драме именно в пространстве языка разыгрываются подлинные баталии. Это язык городских улиц, сельской глубинки, язык рекламы, телевидения, бизнеса, компьютера. Дюрр считает, что современные немецкие драматурги приняли эстафету у "разрушителей драматической формы" Х.Мюллера, Э.Елинек, Б.Штрауса и двигаются дальше. Но Ю.Шрёдер оспаривает этот факт, полагая, что самые серьёзные Майенбург, А.Остермайер, молодые авторы, такие как М. фон М.Ринке, Д.Лоэр, Р.Шиммельпфенниг, О.Буковски и Т.Вальзер больше не следуют за этими первопроходцами "постдраматического театра", "а возвращаются на рельсы неистощимого на выдумку драматического театра" [46, 1081]. Очевидно одно: в новой немецкой драматургии инновативные драматические формы соседствуют с принципами "нового реализма" - утверждение, которое в равной степени может быть применимо и к новой российской драме. В ходе рассуждений о новой немецкой драматургии Ю.Шрёдер приходит к следующему выводу: "Молодая немецкоязычная драма в последнее десятилетие проявила стойкий иммунитет по отношению ко всем деструктивным тенденциям и прошла процесс мощной регенерации. Пройдя рубеж веков, мы наблюдаем многие признаки, говорящие в пользу того, что продолжается сознательное возвращение к традиционным драматическим игровым формам, без отказа от современных театральных сценических форм нашего склонного к саморефлексии века средств массовой информации" [46, 1120]. Выдаёт ли автор желаемое за действительное, и можно ли всерьёз говорить о возврате к традиционным формам как основном векторе развития современной драматургии Германии, покажет время. Но и в российской "новой драме" на смену эпохе стихийного "креативного взрыва" (Заславский) постепенно приходит время осмысления и ученичества. Тольяттинский автор В.Дурненков сформулировал это так: "Задача драматурга сейчас - написать пьесу не хуже Островского. Пьесы должны быть мастеровитыми…Голая правда уже не работает, надо учиться у мастеров. Мы пока думали о честности и искренности, а надо ещё о фабуле" [Цит. по 9, 48]. С ним соглашается другой тольяттинский драматург, Ю. Клавдиев: "Сейчас уже важнее не правда жизни, а её, жизни, осмысление" [там же]. Время покажет, какая из перечисленных тенденций окажется наиболее жизнеспособной. Пока же ясно одно: "Новая драма стала неотъемлемой частью современной театральной жизни, она выполняет роль своего рода сейсмографа, регистрируя все общественные процессы и помогая театру не утратить своей актуальности" [11, 11]. Библиография 1. Асафьев Б. О музыке Чайковского. – Л.: Музыка, 1972.- 376 с. 2. Бентли Э. Жизнь драмы. – Жизнь драмы. – М.: Искусство, 1978. – 367 с. 3. Блок В. Диалектика театра: очерки по теории драмы и ее сценического воплощения. – М.: Искусство, 1983. – 294 с. 4. Брехт Б. Трёхгрошовая опера / Б. Брехт. – Москва: Олма-Пресс, 2000. – 318 с. 5. Волькенштейн В. Драматургия. – М.: Советский писатель, 1960. – 338 с. 6. Гатауллин Р. Исламие Махмутовой – 60 лет / Р. Гатауллин, 11.12.2003, Казань. – www.mir-kazan.ru/tatnews/2006032015.php 7. Гришковец Е. Как я съел собаку и др. - М.: ZебраЕ/Эскмо/Деконт+, 2003. - 345 с. 8. Громова М.И. Русская драматургия конца ХХ - начала XXI века. - М.: Флинта / Наука, 2006. - 363 с. 9. Денисова С. Шекспир отдыхает // Огонёк, №39 24-30 сентября 2007. – с. 46-49 10. Дурненковы В.и М. Культурный слой. - М.: Эскмо, 2005. - 352 с. 11. Дюрр К. Новые театральные тексты // ШАГ 2. Новая немецкоязычная драматургия. - М.: Немецкий культурный центр им. Гёте, 2005. - с. 8-11 12. Ибрагимов М. Мы перетащили культпоход в театр из старых времён / М. Ибрагимов. – www.gazeta.ksu.ru/archiv1/0301/10.htm 13. Ковальская Е. Ощущение реальности // ШАГ 2. Новая немецкоязычная драматургия. - М.: Немецкий культурный центр им. Гёте, 2005. - с. 12-13 14. Короткий взгляд на Россию. - Казань, Казанский университет, апрель 1997, №7-8, с. 3 15. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература. – Книга 3: В конце века (1986-1990-е годы). - М.: УРСС, 2001. - 159 с. 16. Мандельштам О. Камень. - Л., Наука, 1990. - 398 с. 17.Мандельштам О. Стихи. Очерки. Переводы. - Тбилиси, Мерани, 1990. 415 с. 18.Маргвелашвили Г. «Не разнять меня с жизнью…» // Мандельштам Осип. Стихи. Очерки. Переводы. - Тбилиси, Мерани, 1990. – с. 5-34 19.Павис П. Словарь театра. – М.: ГИТИС, 2003. – 515 с. 20.Перель Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь. – М: Филоматис, 2005. – 439 с. 21.Сахновский-Панкеев В. ДРАМА. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. – Л.: Искусство, 1969. – 231 с. 22.Сигарев В. Агасфер и др. пьесы. - М.: КОРОВАКНИГИ, 2006. - 226 с. 23. Сизова М. Перформативность новодрамовского текста и проблема ее сценической реализации // Современная российская и немецкая драма и театр. – Казань: РИЦ, 2011. – с. 82-87 24. Спектакль «Трёхгрошовая опера». – www.forum.nagl.ru/main1.php 25. Сутягина Н. Малая проза Клауса Манна. Проблематика и поэтика. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Воронеж, 2009. – 21 с. 26.Фестиваль современной пьесы "Новая драма" Тольятти (буклет). 27. Хабибуллина Л. Миф России в современной английской литературе. – Казань: Казанский университет, 2010. – 205 с. 28.Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского. – М.-Лейпциг: Юргенсон, 1900, т.1 - 537с., т.2 - 695с., т.3 - 689с. 29. ШАГ 2. Новая немецкоязычная драматургия. – М.: Немецкий культурный центр им Гёте, 2005. – 480 с. 30.ШАГ 3. Новая немецкоязычная драматургия. – М.: Немецкий культурный центр им. Гёте, 2008. – 447 с. 31.ШАГ 4. Новая немецкоязычная драматургия. – М.: Немецкий культурный центр им. Гёте, 2011. – 482 с. 32. Шахматова Т. Некоторые размышления о сценичности современной драмы (на примере пьес братьев Дурненковых) // Современная российская драма. – Казань: Школа, 2008. – с. 65-70 33. Шенкель Э. Когда «Я» опаздывает / Ichverspätungen. – Казань: Школа, 2006. – 115 с. 34. Шенкель Э. Школа забвения / Schule des Vergessens. - Казань, ДАС, 2002. - 100 с. 35. Fischer-Lichte E. Geschichte des Dramas. - Tübingen u. Basel: A. Francke Verlag, 1999. - Bd. 2: Von der Romantik bis zur Gegenwart. Epochen der Identität auf dem Theater von der Antike bis zur Gegenwart. - 306 S. 36. Lehmann H.-Th. Postdramatisches Theater. - Frankfurt a. Main: Verlag der Autoren, 2001. - 510 S. 37.Mann K. Briefe und Antworten. 1922-1949. – München: Edition Spangenberg, im Ellermann Verlag, 1987. – 823 S. 38. Mann K. Tagebücher (1934-1935). – München: Edition Spangenberg, 1989. – 240S. 39. Mann K. Der Wendepunkt. - Berlin u. Weimar: Aufbau-Verlag, 1979. – 658 S. 40. Mann K. Symphonie Pathétique. – Berlin u. Weimar: Aufbau-Verlag, 1989.317S. 41. Ostermaier A. The Making Of. Radio Noir. Stücke. - Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1999. - 181 S. 42. Schenkel E. Das sibirische Pendel. – Eggingen: Literaturverlag Isele, 2005. – 231 S. 43. Schenkel E. Leipziger Passagen. - Stuttgart, Verlag Reiner Brouwer, 1996, S. 25-29 44. Schimmelpfennig R. Die Frau von früher. Stücke 1994-2005. – Frankfurt a. Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2004. - 688 S. 45. Schössler F. Die Verfremdung der Verfremdung oder postdramatische Transformationen? Bertolt Brecht und Dea Loher. – http: iasl.unimuenchen.de/rezensio/liste/Schoess 46.Schröder J. „Postdramatisches Theater“ oder „Neuer Realismus“? Drama und Theater der neunziger Jahre // Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. – München: Verlag C.H.Beck, 2006. - S. 1080-1120. 47.Tournier M. Mephisto de Klaus Mann ou la difficulte d΄etre fils // Le vol du vampire. – Merevre de France, 1981. – p. 295-298 48.Transformationen - Theater der neunziger Jahre: Recherchen zum Theater der Zeit / Hrsg. E. Fischer-Lichte, D. Kolesch, Ch. Weiler. - Berlin, 1999. - 196 S.