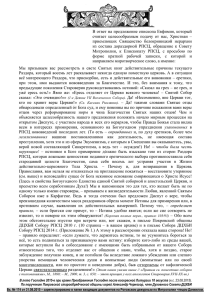УТВЕРЖДАЮ Директор ФГБНИУ «Государственный институт
реклама

УТВЕРЖДАЮ Директор ФГБНИУ «Государственный институт искусствознания» _____________Д.В. Трубочкин «___»____________2012 года ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ на проведение НИР «Византийский мир: региональные традиции в художественной культуре и проблемы их изучения» ГК №1066-01-41/06-12 от 01.06.2012 г. 1. Организационно-управленческая работа После заключения г государственного контракта временным трудовым коллективом под научным руководством доктора искусствоведения Л.И.Лифшица была разработана концепция и исследовательский план исследовательского проекта. Проведены устные консультации и согласования разработанной концепции с Государственным заказчиком. 2. Подготовительный этап На подготовительном этапе работы был осуществлен подбор источников и составление библиографии по проблеме исследования. Был проведен анализ научной литературы по исходной проблематике, разработан категориальный аппарат исследования. Разработана программа и методика исследования, определены основные направления и темы в общем контексте программы исследования. 3. Организация сбора исходных данных На данном этапе исследования был осуществлен сбор материалов в российских и зарубежных библиотеках, музеях, профильных научных организациях. Был организован сбор обзоров и рефератов по темам проекта и проведены обсуждения тем со специалистами и экспертами в данной области. 4. Проведение аналитической работы На данном этапе работы был проведен анализ и обобщение результатов проведенных исследований, в том числе новых концепций и методологических подходов, впервые изучаемых памятников и исторических источников в соответствии с целями и задачами проекта. (Приложение 1). Было организовано и проведено обсуждение результатов исследования и собраны материалы аналитических исследований по тематике проекта. (Приложение 2). Приложение 1. к научно-исследовательскому проекту «Византийский мир: региональные традиции в художественной культуре и проблемы их изучения» ГК №1066-01-41/06-12 от 01.06.2012 г. Задачи и концепция проекта Задача научно-исследовательской работы «Византийский мир: региональные традиции в художественной культуре и проблемы их изучения» заключалась в том, чтобы системно рассмотреть и проанализировать один из важнейших феноменов средневековой культуры православного мира - проблему возникновения, функционирования и взаимосвязей больших и малых локальных художественных центров, которые существовали на территории Древней Руси, Византийской империи и сопредельных государств. Эта тема традиционно находится в сфере внимания исследователей, но приобретает особую актуальность в связи с работой по созданию Истории русского искусства, ведущейся в Государственном Институте искусствознания Министерства культуры РФ. Начальный этап работы над проектом включал в себя анализ отечественной и зарубежной специальной литературы с целью определения состояния научных исследований в данном секторе знаний об искусстве стран византийского мира. С этой целью сотрудники отдела изучали индивидуальные монографии и сборники научных статей, опубликованные как в России, так и за ее пределами, в том числе публикации в таких периодических изданиях как Dumbarton Oaks Papers, Cahiers Archeologique, Зограф, Gesta и др., материалы международных конгрессов по византиноведению, труды Византийского института в Белграде, Института искусствознания в Софии, статьи и монографии, посвященные проблематике данного исследования, недавно отреставрированным и вновь открытым памятникам архитектуры, монументальной живописи, иконописи, книжной миниатюры прикладного искусства (Десятинная церковь в Киеве, Спасский собор в Чернигове, фрески Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, фресок в Бетани, Георгиевского собора в Старой Ладоге, Церкви Николы на Липне, Васильевским вратам). На основе проделанного анализа, материалы которого последовательно рассматривались разработаны на заседаниях Отдела древнерусского искусства, были программа и концепция научно-исследовательской проекта, сформулированы основные проблемы, определены направления дальнейших исследований. Среди наиболее значимых проблем были выделены три: многообразие путей развития в контексте единой стилистической парадигмы; отражение этого стилеобразующего фактора в разных видах и жанрах искусства; максимальный охват разнообразных художественных традиций в границах восточнохристианской культурной окумены. Этой формулировкой и был определен выбор тематики и основных исполнителей проекта. Государственный древнерусского Институт искусства, искусствознания имеющий многолетний в лице опыт Отдела научного партнерства с научно-исследовательскими институтами, библиотеками музеями, и как российскими, так и зарубежными, взял на себя роль координирующего центра в разработке обозначенных проблем. Особое внимание было отведено разработке новых направлений сотрудничества в данном случае с учеными научно-исследовательских институтов Румынии, Западной Украины, Болгарии, Грузии и Армении. В разработке проекта принимают участие, наряду с сотрудниками Отдела, ведущие научные сотрудники музеев Московского Кремля, ГТГ, Музея имени Андрея Рублева, ГРМ, ГЭ, Института археологии РАН, Института славяноведения и балканистики РАН, МГУ, Новгородского музея заповедника, Музея заповедника в Старой Ладоге, Межобластного научно-реставрационного художественного управления МК РФ, Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также ученые из научно-исследовательского института искусствознания Болгарской АН, из Института истории искусств в Бухаресте, научно-исследовательского института искусствознания в Львове (Украина). Собранные материалы охватывают хронологический период от V до начала XVIII в. Основным условием работы над проектом являлся комплексный характер исследований. В поле научного анализа находились произведения архитектуры (пять разработок), монументальной живописи (10 разработок), книжной иллюминации (две разработки), памятники прикладного искусства - мелкой пластики, литургической утвари (две разработки), иконописи (семь разработок). В соответствии с этими блоками строится отчетная документация. В представленных разработках рассматриваются вопросы трансляции стилистической традиции (материалы проекта охватывают памятники Византии, Палестины, Армении, Грузии, Болгарии, Киевской Руси, Полоцка, Великого Новгорода, Ладоги, Москвы, Твери, Пскова, Западной Украины, Валахии и Румынии, а также памятники, атрибуция которых является предметом научной дискуссии – икона Спаса из собора г. Лана во Франции) и трансформации стилистических и иконографических традиций (материалы Вл.В. Седова, Л.А. Беляева, О.С. Поповой, Б. Пенковой, П.А. Тычинской, Е.М. Саенковой, Н. Козака, Н.В. Пивоваровой, В.А. Гульманова, М. Сабадос); проблемы, связанные с миграцией артелей мастеров (материалы О.М. Иоаннисяна); условия сложения локальных традиций (материалы А.Ю. Казаряна, Т.Ю. Царевской, М.А. Орловой); роль заказчиков в определении облика создаваемых произведений (материалы Г. Герова, В.Д. Сарабьянова, М.С. Медведевой); влияние крупных событий жизни на развитие духовной и политической стиля искусства (материалы Э.С. Смирновой, Л.А. Беляева). Проект и материалы, представленные его участниками, обсуждались на заседаниях Отдела древнерусского искусства в июне и сентябре 2012 г. Приложение 2. к научно-исследовательскому проекту «Византийский мир: региональные традиции в художественной культуре и проблемы их изучения» ГК №1066-01-41/06-12 от 01.06.2012 г. Материалы проекта Архитектура 1. Искусство византийской Палестины V–VIII веков: с мэйнстрима на периферию (по материалам Иерихонской экспедиции ИА РАН ) Проблема определения места искусства Сиро-Палестинского региона в общей картине развития архитектуры, иконографии и пластических искусств Византийской империи на ее ранней стадии, в IV–VIII вв., слишком хорошо известна, чтобы останавливаться специально на ее историографии. Совсем не случайно маршрут первой российской экспедиции 1891 г. под руководством Н.П. Кондакова был проложен именно таким образом, чтобы в конечных точках соединить две «художественные столицы» – Константинополь с Иерусалимом, охватив при том огромную «периферию» Малой Азии, Трансиордании, Сирии и Палестины (пользуюсь культурно-географическими определениями, поскольку государственные границы XIX–XXI вв. слишком подвижны – да и в древности было так же). Однако за последние полвека благодаря резко выросшему интересу к Восточному Средиземноморью и превращению Израиля в один из ключевых пунктов на политической карте мира в нем начались натурные исследования такого размаха, в сравнении с которым прежний век раскопок и обмеров кажется детской игрой. Это не значит, конечно, что до 1948 г. ничего не делалось, ведь истоки христианского искусства так или иначе следовало изучать именно в Святой Земле. Но все же сдвиги огромны, и среди них есть один довольно неожиданный. К концу ХХ в. в археологию Палестины буквально ворвалась уже не раннехристианская, а именно византийская тема, раньше интересовавшая местные научные круги постольку, поскольку совсем уж без нее обходиться не получалось – она лежала подобно камню на дороге от античности к исламскому искусству, и с нею нужно было что-то делать. Эта неопределенность положения византийского раздела создавала даже известную неразбериху в общих курсах истории искусства, что очень точно подметил в 2000-х гг. американский византинист Роберт Нельсон. Если до второй половины столетия израильские византинисты, археологи и искусствоведы были крайне немногочисленны (следует назвать одно крупное имя – Йорам Цафрир), то в последнюю треть века в их ряды влилось много активной молодежи (C. Dauphin, S.T. Parker, J. Patrich и др.), и вскоре карта византийской Палестины пополнилась массой новых памятников, которые говорили о том, что в IV–VII вв. города этого региона были в числе «художественных столиц» Империи. Об этом теперь свидетельствовали развитое градостроительство, архитектура, мозаики, малые искусства и даже крепостное строительство. Не менее сильно, чем полевые открытия, сказались на изучении византийской Палестины тренды в научной политике конца ХХ в. (вся вообще история науки в Израиле – великолепная иллюстрация к тому, какое воздействие оказывает политика на развитие наук не только гуманитарных). Среди основных тем, прямо связанных с историей Сиро-Палестинского региона в византийскую эпоху, такие вопросы как: развитие разных религий на одной территории и взаимовлияние религиозного искусства; воздействие политической катастрофы (Иудейские войны) на формирование иконографии; метаморфозы искусства при исламизации христианской Палестины; синтез Востока и Запада в эпоху Латинских королевств. Политика и идеология здесь удивительным образом отражались в стремительных, драматических и плодотворных событиях искусства: сложении на основе синтеза восточных художественных традиций и римских технических возможностей авангардной, по сути, архитектуры эпохи Ирода; резком упадке после иудейских войн, во II–III вв.; столь же внезапном и бурном подъеме после превращения в середине IV в. провинциальной Палестины в «новую Святую Землю Империи», в поле для поиска смелых художественных решений, за чем последует уже упомянутая эпоха расцвета творчества V–VI вв. Она накопит такую мощную инерцию, что даже коренное изменение политической, торговой и конфессиональной ситуации с начала VII в. не поведет к одномоментной остановке «машины искусства»: она продолжит производить продукцию и в составе Халифата, активно участвуя в формировании его художественных традиций вплоть до VIII, а местами и до IX в. Итак, на протяжении периода в семь-восемь столетий, в котором византийская часть по времени занимает примерно половину, мы наблюдаем бурные смены состояния искусства: из центра развития оно «отодвигается» в провинцию и вновь становится законодателем «художественной моды», чтобы через два-три века впасть в совсем уже захолустное состояние и пребывать в нем более тысячи лет, вплоть до середины ХХ столетия, когда новая государственная воля вызовет к жизни новый всплеск искусств, которые удивительным образом сохранят присущее и старой Палестине сочетание, смешение признаков столичного и провинциального. Эти переходы наблюдаются как на материале исследовательских проектов, связанных с изучением всемирно известных, центральных памятников (так, сейчас готовится подобный проект по изучению храма Гроба Господня), – так и в самых скромных, можно сказать захолустных поселениях Палестины. Одна из таких точ/ек, в которой на материале археологии и искусства можно наблюдать движение художественных импульсов в провинциальной византийской среде – Иерихон, город, равно известный библейскими коннотациями, древнейшими объектами археологии и памятниками искусства важного нам периода: от эпохи Хасмонеев до начала Ислама. В этом городе у нас появилась редкая для русской науки возможность практически поучаствовать в натурных исследованиях, первые результаты которых уже позволяют наблюдать процесс трансформации от византийского к исламскому провинциальному искусству. Материал предоставлен Л.А.Беляевым 2. Архитектурная школа Ани X–XI веков: от « готики» к «античному стилю» Расцветшая в середине X в. архитектурная школа Ани оставалась ведущей в Армении вплоть до XIII в. Как об особой школе о ней заговорили полстолетия назад. Обращаясь именно к памятникам Ани и, в частности, к кафедральному собору, творению зодчего Трдата, путешественники XIX в. и ученые отмечали стилевые качества, вызывающие у них аналогию с развитием поздней романики и готики, что позволяло им рассуждать о значительном опережении армянскими мастерами европейских достижений. С другой стороны, исследователи давно отмечали склонность армянских мастеров анийской школы к широкому применению и интерпретации античных мотивов. В настоящем докладе подводится предварительный итог изучения ряда форм и приемов анийских мастеров с учетом хронологии памятников. Анализ позволяет говорить о том, что «готические» мотивы предшествовали «античным», а замена первых на вторые произошла около 1000 г. Речь идет не о кардинальной смене стиля, а о вариациях стилистики, каждая из которых, несомненно, являлась порождением определенного мировоззрения заказчиков храмов – царской династии Багратуни и дворцового окружения. Исторический момент обращения анийских зодчих к античной, преимущественно греческой классике, а также особенности некоторых ротондальных композиций, форм цоколей, порталов, импостов, не позволяет связывать это явление с Македонским ренессансом в Византии. Не прослеживается и абсолютной переклички форм с интерпретацией античных образцов в Италии конца XI–XII в. Выяснение причин культивирования классических образов в этих трех наиболее активных очагах средневекового мира в эпоху, предшествовавшую Ренессансу, лежит в области изучения общих закономерностей развития духовности и культуры. Не в сфере архитектуроведческой науки находится и решение таинственного вопроса о причинах отказа армянских мастеров от «готических» черт, т.е. перехода от обостренной спиритуализации образов архитектуры к классической уравновешенности. Однако только искусствоведческий анализ способен полноценно охарактеризовать художественное явление, установить период его рождения и затухания и выявить степень его родства или уровень сходства с аналогичными явлениями в пределах единого средневекового мира. Материал предоставлен А.Ю. Казаряном. 3. Начальный этап развития русского зодчества (конец X – первая половина XI века) в свете последних архитектурноархеологических исследований Десятинной церкви в Киеве и Спасского собора в Чернигове Еще несколько лет назад картина сложения и начального этапа эволюции древнерусского зодчества представлялась в виде прямой линии, начавшейся с прихода «мастеров от грек» в Киев в 989 году, получившей свое дальнейшее развитие в таких памятниках как церковь Богородицы в Тмутаракани (1022) и Спасский собор в Чернигове (около 1036 года), достигшей наивысшей точки в середине XI в. в таких памятниках как Софийские соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке, и, наконец, окончательно сформировавшейся как национальный русский вариант византийской архитектуры уже во второй половине XI столетия в Успенском соборе КиевоПечерского монастыря (1073). Такая схема развития русского зодчества на начальном этапе отчетливее всего сформулирована в работах П.А. Раппопорта и, особенно, А.И. Комеча. Не менее устоявшимся является мнение о том, что русское зодчество обязано своим происхождением столичной – константинопольской – школе византийской архитектуры. Первым каменным храмом и первой монументальной постройкой в истории древнерусской архитектуры стала церковь Богородицы (Десятинная) в Киеве, строительство которой началось на следующий год после крещения Руси, т.е. в 989 г., и было завершено в 996 г. Археологическое исследование остатков этого памятника, погибшего в 1240 г. во время нашествия Батыя, было начато в 1908–1911 гг. Д.В. Милеевым. В 1930-х гг. храм был полностью раскопан М.К. Каргером. Новые исследования Десятинной церкви, проводившиеся в 2005–2011 гг. совместной экспедицией Института археологии НАН Украины и Государственного Эрмитажа, а также начатые в 2012 г. совместными усилиями Черниговского государственного педагогического университета, Черниговского историко-архитектурного музея-заповедника и Государственного Эрмитажа исследования Спасского собора в Чернигове позволили существенно скорректировать устоявшиеся представления о происхождении русского зодчества и его развитии на самом начальном этапе. Главным аргументом в пользу столичного константинопольского происхождения мастеров – создателей Десятинной церкви был характер найденных в ходе ее раскопок стеновых блоков, сложенных из плинфы на цемяночном растворе в технике кладки со скрытым рядом, которая настолько характерна именно для константинопольской архитектурной школы средневизантийской эпохи, что даже рассматривается как ее своеобразная «визитная карточка». Учитывая, создавших что константинопольское Десятинную церковь было происхождение признано мастеров, безоговорочно, соответствующим образом трактовался и архитектурный тип этого здания. Несмотря на то, что весь объем этой сложной и многосоставной постройки до сих пор никому не удается реконструировать, все исследователи древнерусского зодчества единодушно сходятся на том, что основное ядро церкви представляло собой классический для архитектуры средневизантийской эпохи крестовокупольный храм. Впервые эта позиция была развернуто аргументирована М.К. Каргером, а затем безоговорочно принята практически всеми исследователями древнерусского зодчества. Эта же точка зрения была закреплена и всеми общими трудами по истории русской архитектуры. Во время исследований 2005–2011 гг. были сделаны очень важные выводы о характере фундаментного рва, идущего по линии восточных столбов основного объема церкви. Они подтвердили выявленный еще Д.В. Милеевым, но проигнорированный всеми последующими исследователями факт: строители церкви выкопали ров, но фундамент в него заложен не был. Таким образом, этот ров остался неиспользованным, что свидетельствует об изменении замысла и плана зодчих уже в ходе строительства, а также о том, что стены, отделяющей алтарь и угловые восточные компартименты (пастофории) от пространства нефов, у Десятинной церкви не было. В свою очередь, это означает, что у наоса церкви не было и сводов, которые могли бы опираться на эти стены и располагаться в направлении, перпендикулярном подкупольному пространству. При отсутствии стены, отделяющей наос от алтаря и пастофориев, своды боковых нефов могли идти только параллельно направлению свода центрального нефа. Иными словами, Десятинная церковь в том виде, в каком она была построена в 989–996 гг., представляла собой не крестовокупольный храм, а базилику, скорее всего, купольную с пересекающим центральное подкупольное пространство трансептом, который следует воспринимать как поперечный неф. По классификации купольных базилик, предложенной К. Конантом, Десятинную церковь нужно рассматривать как купольную базилику с трансептом или «крестообразную купольную базилику» (термин К. Конанта). Результаты последних раскопок свидетельствуют о том, что Десятинная церковь задумывалась как крестовокупольный храм, но уже в процессе самого строительства замысел изменили, и она превратилась в базилику с развитой инфраструктурой дополнительных объемов: нартекса, экзонартекса, атриума, галерей. Стоявшая перед строителями сложная задача создания грандиозного здания, практически невыполнимая в то время в формах крестовокупольного храма, была решена за счет использования большого количества дополнительных компартиментов, соединенных в итоге в единое сооружение. Что же заставило создателей Десятинной церкви отказаться от первоначального замысла и перейти к строительству храма базиликального? К концу X в., когда в Киеве строится первый христианский храм, который должен был стать не просто княжеской (домовой) церковью Владимира Святославича, а первой общезначимой христианской святыней на Руси, византийская, особенно столичная константинопольская, архитектура уже полностью переходит к строительству храмов крестовокупольного типа, к тому же очень небольшого размера. Навык строительства храмов большого объема в столице Византии уже утрачивается, однако он продолжает существовать на периферии империи – в Северной Греции, Македонии, Болгарии, Малой Азии, Крыму, – где такие храмы строятся не в крестовокупольной системе, а как базилики или купольные базилики. Не исключено, что строители Десятинной церкви учли особые требования к созданию этого храма и по ходу строительства изменили первоначальный замысел. Такие ситуации в практике византийского строительства были не редки. Принцип построения архитектурной формы Десятинной церкви наиболее близок памятникам Первого Болгарского царства (Плиска, Преслав, Охрид), которые возводились немногим ранее киевского храма. Буквальной аналогии здесь нет, да и быть не может – ведь в окончательном своем виде каждая из этих построек была индивидуальной. Однако важно другое: практически все болгарские храмы этого времени строились как базилики, а не как крестовокупольные храмы, и вскоре (или даже еще в процессе строительства) начинали обрастать развитой инфраструктурой нартексов, экзонартексов, атриумов, а иногда и галерей. С болгарскими памятниками X–XI вв. Десятинную церковь роднит и схожая система устройства фундаментов и, особенно, субструкций под ними (ср. с фундаментами мартирия под Большой базиликой в Плиске). О возможном «болгарском следе» в истории строительства Десятинной церкви свидетельствуют также две плинфы X в., найденные в 2007 г. в засыпке рва Старокиевского городища у северо-западного угла храма. На их постелистой стороне еще перед обжигом были нанесены славянские надписи, состоящие из двух букв «Щ» и «И». По всей видимости, они представляют собой буквенное изображение числа, возможно, номера партии кирпича. Вряд ли среди первых русских строителей церкви уже были настолько образованные гончары-плинфоделы, которые оставили бы на плинфе подобную надпись. Скорее всего, такая надпись была оставлена участвовавшим в строительстве мастером из Болгарии. Впрочем, все сказанное не означает, что создателями Десятинной церкви были только болгарские мастера. Многое указывает на то, что среди них было и немало византийцев-греков. Свидетельством этого являются и греческие клейма на плинфе, и техника кладки со скрытым рядом, которую мы видим в найденных в ходе раскопок (как предшествующих, так и нынешних) блоках наземной кладки. Инициатива возобновления строительной деятельности на Руси принадлежит черниговскому князю Мстиславу Владимировичу. Первым построенным им храмом стала недошедшая до нас небольшая церковь Богородицы, построенная им в самом юго-восточном городе Руси – Тмутаракани. Остатки этого храма были раскопаны в 1950-х гг. Б.А. Рыбаковым, но опубликованы лишь спустя много лет Т.И. Макаровой. Этот храм, вне всякого сомнения, также возводился приезжими мастерами, поскольку своих на Руси не было. Вряд ли Мстислав подобно своему отцу мог обратиться в Константинополь с просьбой о присылке ему мастеров-строителей, однако в этом у него и не было необходимости. Незадолго до того, как войти в состав Киевской Руси и стать владением старшего из сыновей Владимира – князя Мстислава, Тмутаракань сама входила в состав одной из самых дальних причерноморских провинций Византии. Расположенная в непосредственной близости от кавказских сателлитов Византии – Алании и Абхазии – Тмутаракань до вхождения в состав Руси была теснейшим образом была связана с ними. К тому моменту, когда Тмутаракань стала одним из городов Киевской Руси, в ней уже было прочно укоренено христианство. Если даже в самой Тмутаракани ко времени начала строительной деятельности Мстислава и не было мастеров-строителей, то получить их из соседних Алании или Абхазии, по всей видимости, князю было несложно. Таким образом, на Руси вновь появляются византийские мастера, но на сей раз не константинопольские и не балканские (греческие или болгарские), а мастера, скорее всего, связанные с архитектурными традициями еще одной провинциальной школы византийского зодчества – малоазийской. Как раз на рубеже X и XI вв. она переживала довольно бурный период расцвета и оказывала сильное воздействие на развитие архитектуры Абхазии и Великой Алании, на территории которой до вхождения в состав Руси и находилась Тмутаракань. Уже следующая постройка Мстислава, которую он спустя несколько лет стал возводить в своем главном стольном городе Чернигове, заставляет вновь задуматься о малоазийских корнях его строительной артели. В 30-х гг. XI столетия Мстислав закладывает в Чернигове Спасский собор. Этот храм хорошо сохранился и является древнейшим из существующих ныне памятников русской архитектуры. Однако строительная история собора не столь проста, как это кажется на первый взгляд, а его архитектурные формы весьма противоречивы. Причина этого кроется в самой истории создания собора. Мстислав не успел завершить его и возвел его стены лишь на небольшую высоту. После смерти князя строительство было прервано и возобновилось лишь через несколько лет. При этом при возобновлении строительства первоначальный замысел зодчего, по всей видимости, был изменен. Если в плане собора заложена структура купольной базилики, то в итоге был возведен все же не базиликальный, а крестовокупольный храм типа вписанного креста. Некоторые черты базиликальности ему придают широко расставленные между подкупольными пилонами крещатой формы круглые колонны опор второго яруса, образующие в интерьере тройные аркады. Кстати, именно это обстоятельство заставляло исследователей усматривать сходство между плановыми структурами основного ядра Десятинной церкви и Спасского собора, считая при этом, что и Десятинная церковь, и Спасский собор изначально задумывались и возводились как крестово-купольные храмы, ориентированные на промежуточный типологический вариант, который воплощают памятники византийских провинций в Малой Азии (Дере-Агзы) и Кавказа (храм в Мокви) (А.И. Комеч). Наличие мощных фундаментных платформ под апсидами самого Спасского собора и небольшой капеллы, пристроенной к его северовосточному углу, совершенно аналогичных фундаментной платформе под апсидой тмутараканской церкви, заставляет говорить о том, что мастера, строившие ее, оказались и в составе черниговской артели Мстислава. О малоазийских или кавказских корнях мастеров Спасского собора заставляет говорить и привычка к преимущественному использованию постелистых блоков камня в нижних частях северной капеллы и самого собора, заставляющая вспомнить кладку таких памятников как Чанлы-килисе в Анатолии, церкви в Лыхнах в Абхазии и, особенно, храмов Архызского городища в Карачаево-Черкесии. В этих памятниках плинфа используется лишь в самых ответственных частях – арках, сводах или на интерьерной плоскости стен. С подобным почерком мы сталкиваемся и в нижних частях Спасского собора. Толстый растворный шов между плинфяными рядами кладки Спасского собора до сих пор воспринимался исследователями как скрытый ряд. Как показали новые исследования, на самом деле он таковым не является, а представляет собой равный по толщине кирпичу слой цемянки, вызывающий в памяти кладку таких малоазийских памятников как Чанлыкилисе и пристройки XI в. к церкви Успения в Никее. В верхних частях Спасского собора характер кладки существенно меняется и заставляет вспомнить уже константинопольские памятники и Софийский собор в Киеве. О тяготении к этим же традициям свидетельствуют также пластика и декоративное решение плоскости стен в верхних частях собора. Несоответствие ритма ниш нижнего и верхних ярусов Спасского собора, как совершенно справедливо отмечал А.И. Комеч, само по себе не может служить доказательством изменения замысла строительства. Именно такой прием применен в одном из малоазийских прототипов и северокавказских памятников, и Спасского собора – церкви Чанлы-килисе в Анатолии. Однако изменение характера кладки и самой пластики стен на уровне выше роста всадника, стоящего на коне, т.е. выше той отметки, до которой, согласно летописному сообщению, успели достроить собор к моменту смерти Мстислава (1036), свидетельствует все же о том, что собор могли достраивать другие мастера, прошедшие школу на строительстве Софийского собора в Киеве. Таким образом, если Десятинная церковь, задуманная как крестовокупольный храм, в итоге была построена как купольная базилика, ориентированная на балканские (северногреческие, македонские или болгарские) образцы, то Спасский собор в Чернигове, изначально задуманный мастерами Мстислава как купольная базилика, в итоге был возведен уже другими мастерами как крестово-купольный храм. При этом если мастера Владимира Святославича, возводя Десятинную церковь как купольную базилику, ориентировались на балканские образцы, то мастера Мстислава, начиная строить Спасский собор в Чернигове, ориентировались на архитектуру Малой Азии или Северного Кавказа. Однако, даже если изменений в решении объемно-пространственной структуры Спасского собора после возобновления его строительства и не произошло, то храмы Алании и Абхазии, из круга которых, по видимому, вышли мастера, начинавшие строить собор при Мстиславе, являясь храмами типа вписанного креста, в своей плановой структуре содержат то же противоречие с объемно-пространственным решением. Базиликально ориентированные, они, тем не менее по своему пространственному решению все же принадлежат к типу вписанного креста (церковь Ахаш-ныха в селе Алахадзы, храм на реке Бзыбь, храм Симона Кананита в Новом Афоне церковь в Лыхнах в Абхазии и аланские храмы – Северный Зеленчукский на городище Архыз и Шоанинский храм в Карачаево-Черкесии, а также церковь в Лоо в окрестностях Сочи). Таким образом, исследования последних лет не только заставили поиному оценить устоявшиеся точки зрения на происхождение древнерусского зодчества и первые шаги его развития, но и вернуться к некоторым высказывавшимся в начале XX столетия мнениям на эту тему. Прежде всего, это заставляет нас рассматривать Десятинную церковь не как отправную точку непрерывного процесса развития древнерусского зодчества на протяжении последующих столетий, а как его своего рода предысторию, и вновь вернуться к оценке этого памятника, данной еще в самом начале XX в. Д.В. Айналовым, который писал: «Десятинный храм до настоящего времени является скорее красивой легендой нашей художественной древности, чем историческим звеном в цепи других звеньев киевского искусства». Представляется уместным вернуться и к оценке Спасского собора в Чернигове, высказанной еще Г.К. Лукомским, писавшим, что «по своему плану и замыслу Черниговский Спас никоим образом не связан с константинопольским зодчеством, но имеет ближайшие аналогии в Абхазии и на Кубани». Материал предоставлен О.М.Иоаннисяном 4. Зодчество Древней Руси XII века и византийская архитектура времени Комнинов В древнерусской архитектуре первой трети XII в. храмы внезапно меняют пропорции: вместо стройных, вытянутых вверх, хотя и очень монументальных построек рубежа XI–XII вв., какими представляются собор Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, соборы Антониева и Юрьева монастырей в Новгороде, а также Никольский собор на Дворище в том же Новгороде, появляются памятники с тяжелыми, почти приземистыми пропорциями, с подчеркнуто широкими барабанами, поставленными над кубическим пространством или даже над пространством, в котором сечение показывает лежачий прямоугольник. Таковы соборы Ивановского монастыря во Пскове, собор Елецкого монастыря и Борисоглебский собор в Чернигове, Кирилловская церковь в Киеве, собор в Каневе, храм Петра и Павла в Смоленске. К этой же линии можно отнести и ранние храмы Суздальской Руси: Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Одним из крайних, как будто утрированных представителей этой линии является Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря во Пскове. Представляется, что эта перемена пропорционального строя произошла под влиянием византийской архитектуры времени Комнинов, где видим ту же тенденцию к кубическим пропорциям интерьера. Использование подобных пропорций едва сказалось в храмах типа вписанный крест: в двух церквах монастыря Пантократор в Константинополе, в церкви в Колуше (нынешняя Болгария), в храме Календер Джами в Константинополе. Эта тенденция читается и в византийских храмах типа компактный вписанный крест, относящихся к тому же времени. Мы предполагаем, что эта система пропорций, сложившаяся в Византии к началу XII в., была перенесена на Русь; она во многом определила облик храмов XII в. и оставила столь же заметный след в стилистике древнерусской архитектуры того времени, как и влияние романской архитектуры. В 1160-е гг. появляются памятники с подчеркнуто вертикальными пропорциями: церковь Покрова на Нерли во владимиро-суздальской архитектуре и собор Спасо-Евфросиниева монастыря в Полоцке. Постепенно та линия, которую мы предлагаем называть древнерусским вариантом архитектуры Комнинов, начинает сворачиваться, дольше всего, до начала XIII в., она продержалась в Новгороде. Материал предоставлен Вл.В. Седовым. 4. Несебрская Новая митрополия и тенденции византийской архитектуры первой половины XIII века Соотношение между центром и периферией, сосуществование разных региональных традиций в рамках единого культурного пространства византийской ойкумены возможно исследовать в перспективе разных научных стратегий и методологических приемов – чисто теоретически, либо с точки зрения конкретной историко-культурной ситуации, либо изучая один или другой художественный центр, и т.д. Я решил остановиться лишь на одном памятнике – так называемой Новой митрополии в Несебре, в Болгарии. В нём, как в фокусе, собираются явления, существенные для культурной ситуации конца ХІІ – первой половины ХІІІ в. на православном Востоке. В тот период центр Империи на несколько десятилетий утратил свою доминирующую политическую и культурную позицию, тогда как периферия приобретала все более существенную роль. Вопросы о времени сооружения несебрской Новой митрополии и её первоначальном облике продолжают оставаться объектом научной дискуссии. Относительно датировки мнения варьируются в пределах широкого периода, начиная с правления князя Бориса (т.е. со второй половины ІХ в.) до конца ХІІ в. Разные мнения были высказаны и насчет первоначальной архитектурной формы памятника. Несомненно, это была относительно небольшая трехнефная базилика. Но исследователи расходятся во мнениях по поводу ее первоначального покрытия, предлагая разные варианты: стропильная кровля; полуцилиндрические своды для всех нефов; полуцилиндрический свод только для центрального нефа, а для боковых – четвертьцилиндрические. Дискуссионным остается вопрос и о первоначальном виде фасадов храма. Идея о том, что пилястры, фланкирующие входы, оканчивались фронтонами, некоторым казалась «лишенной всяких оснований». Было отброшено и предположение, что с запада к храму примыкал небольшой притвор. Несовпадение мнений можно объяснить и тем, что почти все исследователи Новой митрополии рассматривают базиликальную часть как архитектурное тело, которое является продуктом одной эпохи. Особенно ярко это мнение высказывается теми, кто говорит о «существовании композиционного единства». На самом деле существуют факты, свидетельствующие, что базилика перестраивалась несколько раз, и это существенно изменило её первоначальный вид. На основании изучения использованных материалов и способов строительства можно выделить три этапа. На последнем из них были восстановлены обрушившиеся части здания. При этом апсиды были воздвигнуты почти заново, а рухнувшие каменные своды заменены легкой стропильной кровлей. На этом же этапе появились фронтоны, на фасадах – ломбардские арки и декоративные ниши с полуколонками. Именно они, как свидетельство переплетения традиций, представляют для нас особый интерес. По сравнению с остальными церквами Несебра, сглаженные по лицевой части и пластически проработанные по боковым сторонам консоли ломбардских арок в Новой митрополии кажутся архаичными. Фронтоны являются одним из самых характерных элементов архитектуры фасадов базилики. Они венчают восточный и западный фасады центрального нефа. Их форма и высота неодинаковы: западный меньше и украшен скромнее, чем восточный. Как декорацию, апсиды, которая так и фронтоны считается имеют отличительным керамико-пластическую приемом болгарской архитектурной школы времени Второго царства (1187–1396). Сам термин болгарская архитектурная школа уже является объектом дискуссии, но нельзя отрицать тот факт, что многие храмы в Несебре имеют очень богатую керамико-пластическую декорацию. Однако в Новой митрополии она использована только в самых верхних частях, и притом – довольно скромно. Схожее скупое ее использование встречаем в памятниках первой половины ХІІІ в. в Тырново и в Боянской церкви. На южном и северном фасадах центрального нефа расположены слепые ниши с полуколонками. Для этого необычного декоративного элемента из кирпича пока не обнаружены прямые аналогии. Вопрос его происхождения волновал исследователей, и недавно была высказана гипотеза об имитации замурованных в фасаде храма триглифов. Такие античные триглифы украшают фасады церкви Св. Афанасия в Гераки, датируемой до 1204 г. Анализ показывает, что третий этап перестройки Новой митрополии, изменивший так радикально вид храма, относится по всей вероятности, к концу ХІІ или к началу ХІІІ в., когда в византийской архитектуре все сильнее чувствуется стремление к более живописной разработке фасадов, основанной на использовании самых разнообразных приемов сочетания каменной и кирпичной кладки. Вместе с тем, все чаще в архитектурное тело добавляются древние фрагменты или нововыработанные элементы, имеющие декоративное предназначение. Встречаются самые разнообразные решения, но они пока не достигли той законченности формы и того богатства, которые отличают эпоху Палеологов. При Комнинах постепенно начинается использование ломбардских арок в храмовой архитектуре. Прежде всего, это происходит там, где связи с Западной Европой были особенно интенсивны – либо благодаря территориальной близости (Сербия), либо по другим причинам (Владимирское княжество). Для больших итальянских городов, развивающих торговлю в регионе Черного моря, такой значимый порт как Несебр представлял безусловный интерес, отчего появление в архитектуре этого города ломбардской арки представляется более чем естественным. По-видимому, именно такого рода проникновение заимствованного архитектурного мотива и произошло при перестройке храма Новой митрополии. Положение о том, что верхние части храма датируются Х или ХІ в., которого отбросить еще по поддерживают причине его некоторые исследователи, несостоятельности. Оно необходимо основано преимущественно на сравнении с базиликами Х в. в Кастории и является довольно условным. При более пристальном сравнении обнаруживаются существенные различия в обьемно-пространственном решении этих храмов и церкви в Несебре. Отсутствует такой существенный для храма Новой митрополии элемент как фронтон, который, между тем, используется в эпирских храмах ХІІІ в. Уникальность архитектуры рассматриваемого памятника состоит в специфическом переплетении разных балканских и западноевропейских строительных традиций, произошедшем в результате динамики конкретных историко-культурных процессов эпохи. Материал предоставлен Г. Геровым Монументальная живопись 1.Патерик преподобной Евфросинии Полоцкой. Цикл деяний монахов в росписях Спасской церкви Евфросиньева монастыря в Полоцке В сложной и насыщенной разными темами программе росписей Спасской церкви Евфросиньева монастыря значительное место уделено изображениям монахов и их деяний. Фрески на эту тему занимают пространства северо-западного и юго-западного компартиментов под хорами храма, которые имеют П-образную форму, а также на самих хорах. Сейчас раскрыто и монашеских представление идентифицировано деяний, о что выборе даёт большинство возможность сюжетов, которым композиций составить отдавала на тему отчётливое предпочтение преподобная Евфросиния, несомненно, являвшаяся составительницей этой программы. Кроме того, анализ данных композиций раскрывает перед нами широту литературных и иконографических источников, которыми пользовалась преподобная. Своды северного и южного нефов под хорами занимают восемь сцен, составляющих несколько последовательных повествований. Три композиции северного нефа повествуют об истории встречи Антония Великого и Павла Фивейского. Эти события, отсутствующие в базовом житии Антония, написанном его учеником Афанасием Александрийским, появляются у блаженного Иеронима, а затем у Симеона Метафраста. В первой сцене изображён редкий сюжет – «Кентавр помогает Антонию искать Павла». Две другие сцены более традиционны. Это «Беседа Антония и Павла» и «Успение Павла», построенные по стандартной композиционной схеме. Деяния Антония являются наиболее распространёнными среди патериковых сюжетов и имеют ряд аналогий (Сант Анджело ин Формис близ Капуи, вторая половина XII в., кафоликон Хиландара, 1321 г., и др.). Четвертая сцена северного нефа посвящена другому персонажу. Седой монах сидит за пюпитром, тогда как за его спиной стоит вдохновляющий его персонаж – юноша с чуть всклокоченными волосами. Своей внешностью и облачением святой чрезвычайно напоминает пророка Моисея в его юношеской иконографии, каким он изображается в сюжетах, связанных с синайскими деяниями. Именно в такой иконографии Моисей ещё дважды представлен и во фресках Спасской церкви – на подпружной арке и в сцене «Видение Неопалимой купины». Из этого следует предположение, что в данной сцене представлен один из прославившихся своими сочинениями синайских преподобных, инспиратором которого является пророк Моисей. Наиболее подходящей кандидатурой представляется Иоанн Лествичник, что отчасти находит соответствие и в его житии, которое предваряет текст «Лествицы» и состоит из двух частей, написанных Даниилом Раифским и анонимным агиографом – современниками Иоанна. Оба автора неоднократно сравнивают Иоанна Синаита с этим пророком, называя его «новым Моисеем», а также повествуют о явлении самого Моисея братии монастыря и самому Лествичнику. В арках южного нефа также сохранились четыре сцены, представляющие собой два парных повествования. В центре одной из композиций западной арки изображён лежащий на земле юноша в простой короткой тунике. У него отсутствует изображение рук, что указывает на его немощь. Рядом стоит юный монах, на плечах которого сидит ещё один персонаж с нимбом (лик утрачен). Он облачен в хитон и гиматий, благословляет правой рукой и держит свиток в левой. Показательно, что его ноги закутаны тканью. На противоположном склоне арки изображены два беседующих монаха, старец и юноша, причём первый обращён взором и жестом к небесам, где угадываются остатки небесной сферы с фигурой Иисуса Христа. Обе сцены точно соответствуют истории о черноризце Мартирии, которую Григорий Двоеслов в «Сорока беседах на Евангелие» приводит в качестве примера любви к ближнему. По пути в монастырь преподобный Мартирий нашёл на дороге немощного прокажённого, который не мог дойти до своего пристанища. Сжалившись над ним, Мартирий тотчас сбросил с себя мантию, и, завернув прокажённого со всех сторон, поднял его на плечи и понёс с собой. Когда он уже приближался к воротам обители, духовный отец этого монастыря начал громко кричать: «Бегите, отворяйте скорее ворота монастырские, потому что идет брат Мартирий, неся Господа». Но тотчас, как только Мартирий пришел ко входу в монастырь, «Тот, Кто казался прокаженным …, Бог и человек, Христос Иисус, вознёсся на небо в виду Мартирия, и возносясь, сказал ему: “Мартирий, ты не постыдился меня на земле, Я не постыжусь тебя на небе”». Это повествование появляется в древнейших русских Прологах XII–XIII вв. под названием «Слово о черноризце Мартирии како Христа носил» (17 января). Вероятнее всего, именно Пролог явился источником для данной фрески. Восточная арка отведена под историю о старце Силуане и его ученике, которая иллюстрирует монашескую добродетель послушания и приведена в так называемом «Древнем патерике». Здесь приводится рассказ о старце из Фиваиды, ученик которого каждую ночь получал от него благословение. Однажды старец заснул, а ученик всю ночь простоял в ожидании этого благословения, семь раз помышляя уйти, но каждый раз возвращаясь к авве. Проснувшись под утро, старец благословил ученика. Позже старцу было явлено видение, в котором он увидел небесный престол и семь венцов, уготовленных его ученику за послушание. Две сцены восточной арки, а также сопроводительные надписи точно соответствуют этой истории, которая, вероятнее всего, также была взята преподобной Евфросинией из Пролога (16 июля). Помимо хорошо известной сцены из Патерика «Герасим Иорданский исцеляет льва», расположенной на стене южного нефа, здесь же присутствует ещё один сюжет из монашеских деяний, который помещён в аркосолий. В нем представлены сидящий за пюпитром монах-гимнограф и два предстоящих ему юных монаха, один из которых изображен с нимбом. Облик монаха и расположение сцены в аркосольной нише, которая имеет свою погребальную мини-программу («Распятие» на восточном склоне и святые воины на западном склоне), с большой долей вероятности позволяют видеть здесь сюжет из жития Иоанна Дамаскина, связанный с историей написания им погребального канона. В двух арках, соединяющих пространства под хорами с центральным нефом, в пандан расположены две сцены, заимствованные из иллюстрированных Менологиев, и одна из них относится к монашеским деяниям. В южной арке представлено «Мучение Игнатия Богоносца», а в северной – «Мучение Стефана Нового». Обе композиции находят аналогии в иллюстрациях Менологиев, в частности в Менологии Василия II (конец X в.). Декорация хор в значительной степени развивала монашеский цикл Спасской церкви. Помимо фигур преподобных, здесь сохранилось несколько сцен монашеских деяний, расположенных в южной части хор. Весьма вероятно, что эти патериковые сюжеты являлись продолжением росписей внутристенной лестницы, ведущей на хоры и открывающейся в их южном углу (фрески лестницы ещё не раскрыты). В правой части южной стены друг над другом сохранились две сцены – внизу изображена «Беседа Онуфрия и Пафнутия», выше также была представлена сцена беседы двух монахов, которые изображены в рост, но их фигуры утрачены по плечи, поэтому сюжет не поддаётся идентификации. Кроме того, продолжая данный повествовательный ряд, на восточной стене южного объёма хор, справа от двери в так называемую «келью преподобной Евфросинии», читается фрагмент композиции «Причащение Марии Египетской», что полностью соответствует традиционному расположению этого сюжета при дверях церкви или, как в данному случае, при входе в придел. Наибольший интерес для нашей темы представляет сцена, занимающая левую половину южной стены хор. В центре композиции, разворачивающейся на фоне архитектурных кулис, изображена царица, на что указывает её облачение, сидящая на троне в скорбной позе, с чуть склонённой головой, подняв правую руку к лицу. Напротив неё сидит старецмонах с длинной седой бородой. Оба персонажа имеют нимбы. За спиной царицы, также в позе скорби, с рукой, поднятой к лицу, стоит ещё один монах, но без нимба. В верхней части композиции, хотя и наиболее утраченной, читается фигура императора в нимбе, которого возносят на небеса два ангела (от одного из них сохранился лишь край нимба). Император увенчан короной, он имеет короткую темную бороду и соответствующее своему статусу облачение. Все эти детали просматриваются достаточно отчётливо, несмотря на плохую сохранность живописи и её мелкий масштаб. Сюжет этой фрески связан с константинопольскими реалиями, поскольку императрица главными и действующими возносящийся лицами император. являются Наиболее скорбящая подходящей интерпретацией этого изображения представляется история о прощении императора Феофила – последнего иконоборческого царя Византии, отмоленного после смерти его женой императрицей Феодорой, окончательно которая восстановила иконопочитание в 843 г., что отмечается Церковью как праздник Торжества Православия. «Повесть о прощении императора Феофила» сложилась вскоре после событий 843 г., а её окончательное оформление произошло не позднее конца IX в. На Руси «Повесть» встречается в различных сборниках, в частности, в составе переводных Хронографов – Хроники Георгия Амартола и Еллинского летописца, а также в Синаксарях и Синодиках. Время перевода этого текста на славянский язык точно неизвестно, и не исключено, что преподобная Евфросиния могла пользоваться греческими оригиналами. В полоцкой фреске дан обобщённый образ всего события, в котором роль молебщиков отдана монахам. Очевидно, преподобная Евфросиния хотела акцентировать именно эту сторону «Повести» и роль монашества в посмертной судьбе императора Феофила. В таком случае, этот сюжет логично вписывается в общую монашескую программу, которая в росписях Спасской церкви занимает одно из определяющих мест. Материал предоставлен В.Д.Сарабьяновым. 2. Фрески молельни на хорах Кирилловской церкви в Киеве. К вопросу о функциях пространства Росписи Кирилловской церкви в Киеве, созданные в последней четверти XII в. по заказу либо вдовы великого князя Всеволода Ольговича, либо его сына – Святослава Всеволодовича (1176–1194), являются одним из немногих дошедших до нас образцов монументальной живописи Юго-Западной Руси ХII в. Их изучение становится особенно актуальным, поскольку дает представление о художественных процессах того времени в юго-западных землях. В пространстве Кирилловской церкви выделяются два объема, служившие обособленными молельнями и имевшие свою особую программу росписи. Одна из них находится в юго-восточной части П-образных хор, т.е. над юго-западным членением наоса. Она представляет собой небольшое, квадратное в плане помещение. Расположенная на востоке полукруглая апсида погружена в толщу стены и не выражена вовне. Ее наличие указывает на то, что этот объем являлся обособленным храмом, где могла совершаться литургия. На стенах молельни сохранились значительные фрагменты фресковой росписи XII в. Эти фрески до сих пор практически не изучены, что в первую очередь связано с их плохой сохранностью. Из всех исследователей кирилловских фресок лишь О. Певны пишет об этих росписях, полагая, что Pevny O.Z. The Kyrylivs’ka Tserkva: The Appropriation of Byzantine Art and Architecture in Kiev. New York, 1995. здесь были представлены ветхозаветные сцены, но допуская, что там мог быть и цикл, посвященный св. Иоанну Предтече. Однако интерпретация еще двух сцен, не определенных О. Певны, позволяет утверждать, что в капелле располагался именно Иоанно-Предтеченский цикл. Определить количество сцен, входивших в Иоанно-Предтеченский цикл Кирилловской церкви крайне сложно, однако можно предположить, что их было не менее десяти. Сохранившиеся росписи занимают два регистра южной стены, южную часть западной, и еще один фрагмент – восточную часть северной. Видимо, цикл располагался в два регистра и на западной стене, переходя затем на северную. Таким образом, на каждой из трех стен помещается по четыре композиции. Причем остаются еще высокие плоскости люнет, где тоже могли быть изображения, посвященные Иоанну Предтече. В хорошем состоянии находится только одна композиция, которая изображает ангела, ведущего отрока Иоанна в пустыню. Подобная сцена известна по миниатюрам и нескольким монументальным ансамблям. В рассматриваемой молельне эта сцена расположена в нижнем регистре южной стены слева от центрального окна. Сцена над ней сохранилась хуже. В центре этой композиции находится изображение неестественно отогнувшегося назад человека с нимбом в первосвященнических одеждах. В руке он держит дымящееся кадило, занимающее левую часть композиции, а справа находится жертвенник с горящим на нем огнем. Позади первосвященника видны очертания еще одной фигуры. Можно с уверенностью утверждать, что здесь изображено убиение Захарии, хотя этот сюжет редко входил в житийные циклы Иоанна Предтечи. Следует отметить, что фреска Кирилловской церкви содержит уникальную иконографическую деталь: кровь Захарии, бьющая из его груди, поднимается вверх подобно пламени, что напоминает о невинно пролитой крови праведников, вопиющей к Богу. Это – иллюстрация слов Христа, обличающего иудеев: «Да придет на вас вся кровь праведная, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником» (Мф. 23, 35). Однако это изображение не только иллюстрирует евангельский текст, но и подчеркивает жертвенную символику, связанную с евхаристической темой, что в свою очередь, соотносится с функциями данной молельни – места совершения литургии. От композиции, располагавшейся в нижнем ярусе южной стены слева от окна, сохранился лишь небольшой фрагмент. На фоне столпообразной постройки, подняв голову, сидит человек с нимбом, облаченный в светлую одежду. Вероятно, это изображение Захарии, нарекающего имя Иоанну. В таком случае повествование в капелле Кирилловской церкви следовало сверху вниз и с юга на север. При этом над изображением наречения имени, видимо, располагалась одна из первых сцен Иоанно-Предтеченского цикла, скорее всего «Рождество». К сожалению, крайне плохая сохранность этого участка росписи не позволяет с уверенностью судить, о том, какой сюжет там был представлен. Фрагмент в нижнем регистре западной стены – изображение сидящей на стуле фигуры на архитектурном фоне, – по мнению О. Певны, является частью композиции «Заключение Иоанна Предтечи». В этом случае над ним была изображена проповедь Иоанна, а в северной части западной стены и западной части северной стены располагались сцены, связанные с пиром Ирода, усекновением и обретениями главы Предтечи. Таким образом, все сцены цикла располагались согласно хронологической последовательности. Возможно также, что это – сцена «Поднесение главы Иоанна Предтечи Иродиаде». Однако между данной композицией и завершающим цикл изображением в восточной части северной стены располагалось еще как минимум пять сцен. Если рассматриваемый фрагмент действительно является частью композиции «Поднесение главы», изображения располагались в неверном хронологическом порядке. Цикл завершался образом Иоанна Предтечи в восточной части северной стены. Предтеча представлен здесь в рост, со свитком в руке. У его ног находятся древо с секирой и колодец, в котором было изображение усекновенной главы. Этот образ, еще не достаточно широко распространенный в XII в., также подчеркивает жертвенную тематику. Для объяснения того факта, что молельня была посвящена Иоанну Предтече, следует понять функцию данного объема. Молельни, расположенные в верхнем ярусе западной части храма, были достаточно широко распространены в домонгольской Руси. Предназначение большинства подобных молелен точно не известно, однако исследования В.Д. Сарабьянова, опирающиеся на письменные источники и сохранившиеся росписи, позволили определить функции некоторых из них. Так, фрески лестничных башен и молелен над ними в соборах Антониева и Юрьева монастырей в Новгороде свидетельствуют о том, что эти объемы предназначались для закрытых монастырских богослужений и сугубого монашеского подвига. В соборе полоцкого Евфросиньева монастыря в восточных частях П-образных хор располагались две молельни-кельи сестер Евфросинии и Евдокии, княжон, принявших монашеский постриг. Согласно исследованиям С. Чурчича, в Сербии XIII– XV вв. башни-колокольни, пристраивавшиеся к нартексу, кроме яруса звона, включали в себя келью и индивидуальную молельню для монаха, как правило, епископа, иногда имевшего княжеское или царское происхождение. Таким образом, выделяется группа молелен, имеющих сходное расположение – в верхнем ярусе западного членения храма; сходную функцию – служить местом монашеского подвига; наконец, – сходное символическое осмысление: расположение кельи подвижника в верхнем ярусе храмового пространства напоминало о восхождении древних аскетов на столп и, одновременно, указывало на отречение от всего земного и вознесение в горний мир. Связь Кирилловской церкви с этой группой памятников подтверждается не только расположением молельни, но и программой росписи. Важной деталью росписи указанных памятников является изображение столпников либо в самой молельне, либо рядом. В Кирилловской церкви образы столпников были помещены в основном объеме между окнами в центральных тимпанах северной и южной стены. Таким образом, фигуры двух столпников находились сразу за восточной стеной молельни на хорах, а образы еще двух были видны из молельни сквозь арочный проем южной стены, соединяющей капеллу с основным пространством. Еще одним общим для всех этих памятников элементом программы росписи является присутствие в большинстве молелен второго яруса изображений патрональных заказчикам святых, которым и посвящались данные приделы. Таким образом, присутствие в верхней молельне Кирилловской церкви цикла Иоанна Предтечи могло быть связано с тем, что этот святой был небесным покровителем заказчика росписей. Итак, характерное местоположение и иконографические аналогии указывают на то, что молельня на хорах Кирилловской церкви могла быть связана с именем некоего подвизавшегося здесь монаха. Аналогии с Спасо-Евфросиньевским собором и Вознесенской церковью в Жиче указывают на возможное княжеское происхождение этого монаха. Скорее всего, неизвестным заказчиком росписей молельни второго яруса был человек, названный в честь святого Иоанна Предтечи. Молельня на хорах Кирилловской церкви типологически примыкает к широко распространенной традиции, представленной памятниками северозападной и юго-западной Руси и Балкан. Во всех случаях мы видим сходное, но не идентичное, расположение, одинаковое предназначение и общие иконографические детали. Однако среди предложенного круга аналогий один памятник особенно близок Кирилловской церкви. В соборе Евфросиньева монастыря молельня также расположена на хорах, тогда как в указанных новгородских и сербских памятниках молельни располагались в башнеобразных объемах. Образы столпников в обоих случаях представлены не в самой молельне, а в основном объеме храма, причем они видны из молельни через проем, соединяющий ее с наосом. И место молельни в пространстве храма, и своеобразие расположения фигур столпников свидетельствуют в пользу существования в юго-западном регионе Руси особой местной традиции. Ее отличие от балканской (прежде всего – сербской) традиции башен-колоколен очевидно. Связи же киевской и новгородской традиций были более тесными. Если исходить только из предложенного круга аналогий, расположение молелен второго яруса в югозападных землях (на хорах) и северо-западном регионе (в лестничной башне) не идентично, что, на первый взгляд, говорит о различии традиций. Однако следует учитывать, что речь шла лишь о тех храмах, для которых функции молелен точно установлены. Но, как говорилось выше, круг памятников, имеющих такие молельни, гораздо шире. Можно предположить, что и в тех случаях, когда предназначение объемов второго яруса не определено, оно было аналогичным. И тогда наличие молелен в лестничных пристройках киевских храмов и молелен на хорах в новгородских, псковских и староладожских храмах может говорить о существовании двух общерусских традиций расположения западных молелен второго яруса. Материал предоставлен М.С. Медведевой. 3. О месте росписи церкви Благовещения на Мячине в Новгороде в кругу памятников русской и византийской живописи конца XII века 1. Стилистическое сходство даже единичных, разрозненных и случайных сохранившихся памятников, созданных в разных художественных центрах, показывает, что их создатели руководствовались общими идеалами и вкусами. То, что пробивается в них как «позывные» местной традиции, не мешает нам улавливать такое сходство даже между памятниками, часто территориально отдаленными друг от друга. 2. Важно и то, что приметы общности, как показывают хорошо датированные памятники, позволяют улавливать довольно тонкие колебания стиля, происходящие на протяжении относительно кратких периодов времени – от полутора до одного десятилетия. Это касается и памятников живописи позднекомниновского времени, обычно суммарно датируемых последней четвертью – концом XII в. Так, опираясь на датированные рукописи, иконы и росписи, можно заметить, что произведения, созданные в 1180-е гг., с достаточной определенностью отличаются от произведения самого конца столетия. К таким датированным памятникам относится роспись церкви Благовещения на Мячине. Храм был воздвигнут в 1179 г. в небольшом владычном пригородном монастыре, основанном архиепископом Ильей и его братом Гавриилом. Расписан он был спустя десять лет – в 1189 г. 3. Авторы, писавшие об аркажской росписи, единодушно видят в ней один из наиболее ярких примеров «динамичного стиля» позднего XII в. с присущими для него приемами линейной стилизации, и ставят ее в ряд с такими памятниками как фрески церкви Св. Георгия в Старой Ладоге, церкви Спаса на Нередице, фрагменты росписей монастырей Рабдуху и Ватопед на Афоне, росписи Курбиново и церкви Свв. Врачей в Кастории. В качестве главного признака общности они выделяют белильные света, сведенные «в замкнутую почти орнаментальную схему», вторящие теневым контурным обводкам и образующие своеобразный структурный каркас изображения. 4. В аскетической суровости образов росписи видят те тенденции, «которые в основном преобладали в живописи византийской периферии и строились на идеалах аскетического искусства, чуждого классической красоты». 5. Вместе с тем не были не замечены оригинальные черты росписи. В.Д. Сарабьянов противопоставляет ее фрескам церкви Св. Георгия в Старой Ладоге с их «академическим рационализмом и рассудочностью». Т.Ю. Царевская отмечает двойственность ее стиля, в которой «самоценность графических мотивов» сочетается «с пластической определенностью рельефов ликов», что, по ее мнению, было обусловлено переходным моментом в его развитии, в сочетании «новых устремлений» с чертами, связанными с предшествующим этапом комниновского искусства». Она отмечает, что орнаментализм росписи, по сравнению с фресками 1190-х гг. в Рабдуху и Ватопеде, «еще достаточно органичен и подчинен логике строения ликов». Отделяет она фрески церкви Благовещения и от росписи Нередицы. 6. Дополняя эти наблюдения, заметим, что в росписи церкви Благовещения сочетаются такие, казалось бы, несходные черты как монументализм и камерность, резкая экспрессия суровых и скорбных взоров и неожиданная тонкость в интонировании жестов и поз, подвижность выражений старческих и юношеских лиц. Ей присуща камерная по своему характеру интонация личного моления. Показательно, что в нижний регистр сцен росписи дьяконника, посвященной Иоанну Крестителю, вставлено изображение молящегося Предтечи, по композиции подобное иконному образу. 7. По сравнению с росписью церкви Св. Георгия в Старой Ладоге, где абстрактный орнаментализм достиг высшей точки своего развития, здесь явно усиливается пластическое начало. Большую определенность и стабильность приобретает положение фигур в композиционном пространстве, они начинают зрительно отделяться от поверхности стены и даже отчасти противопоставляются ей. Усиливая экспрессию образов, они делают черты ликов более массивными и вместе с тем заостряют их – затемняют и углубляют глазницы, изламывают линию бровей, от чего взоры святых обретают особую драматическую выразительность длительного и пристального вглядывания в лежащий перед ними мир. 8. Но, создавая эффект внутреннего напряжения пластической формы, художники избегают сильных пространственных разворотов в глубину композиционного пространства, стараются сохранить и даже подчеркнуть строго фронтальное положение фигур и геральдическую симметрию построения узора белил и теневых контуров. 9. Существенно различаются в этих памятниках и принципы моделировки внешне очень похожих лиц. В росписи церкви Благовещения исчезает жесткий каркас темных тонких контурный линий, в староладожской росписи описывающих абрис форм, создающих границу между ликами и фоном, определяющих общую структуру изображений. Его место занимают широкие мягко растушеванные тени, образующие зону постепенного перехода от изображения к фону. Белила, которые в живописи ликов в росписи церкви Св. Георгия в Старой Ладоге в большей мере контрастировали с общей охристо-желтой цветовой прокладкой, чем с теневыми контурами, здесь плавно «списываются» с охряной основой и по контрасту, как световые блики, противопоставляются широким зонам теней. Живопись строится не на цветовых контрастах, а на тональных отношениях. 10. Художники отступают от трактовки белильных светов как конструктивной основы пластической формы и стремятся превратить свет в субстанцию, наполняющую форму и одновременно определяющую сам характер ликов, то по-юношески идеально ровных, то с крупными чертами, изборожденными складками морщин и глубокими впадинами глазниц. В зависимости от этого свет делается то ровным, то неравномерным и прихотливо изменчивым, набирающим или утрачивающим силу, то напряженным. 11. В доличном свет растекается по поверхности ткани, создавая своеобразный эффект «убегающих теней». Ложась на разноцветные складки одежд, входя в их «поры», он окрашивается в их цвета, превращается в блик, создающий эффект шелковистой переливчатости или прозрачности ткани. Подвижное соотношение света и тени, их вибрация и мерцание – важная черта, отличающая роспись церкви Благовещения как от фресок Старой Ладоги, так и от созданной десятью годами позже росписи Нередицы. 12. Трактовке света, то погружающегося в глубину ткани, то бликующего на ее поверхности, создающего эффект мерцания, подчинена общая колористической концепцией росписи, которая отличается утонченностью и продуманностью построения. В ней максимально ослаблен контраст теплых и холодных тонов, в палитре преобладают не спектральные, а ахроматические, приглушенно звучащие тона: пурпурно-коричневые, кофейные, серо-голубые и блекло-голубые, молочно-белые с холодным и теплым оттенком, зеленовато-бирюзовые и зеленовато-серые, разные охры, из которых даже золотистая звучит приглушенно и нередко имеет едва заметный землистый буро-зеленый оттенок. Благодаря сдержанной по яркости красочной палитре с особой остротой начинает восприниматься сокровенная жизнь света, улавливаются любые перепады силы его сияния, в чем исследователи усматривают связь с теофанической концепцией росписи. 13. В композиционном строе росписи используются принципы театрализации действия. Сцены развертываются как серия сменяющих друг друга актов, но не разделенных, несмотря на присутствие разгранок, а объединенных чередованием архитектурных кулис и просветов голубого фона. Тонко ритмизованное и отчетливо фразированное движение фигур, предельно приближенных к переднему плану, образующих своеобразный фриз, практически не прерывается, при этом оно соотносится не только с сюжетной ситуацией и пластикой форм, но и с заданным пространственным метром самого композиционного пространства, что и определяет особый поэтический строй каждой сцены и росписи в целом. Жесты и позы, хотя и сдержанные, подчеркнуто акцентируются, почти везде они торжественно возвышенны, даже патетичны. Как заметила Т.Ю. Царевская, в этом наглядно проявляется ставшее характерной чертой времени влияние на искусство «средств эллинистического красноречия». 14. Строгая ритмизация, непрерывность и протяженность композиционного движения, в которое вовлекаются пространственные цезуры фона, – принципиально новое качество стиля второй половины XII в., проявившееся в росписи церкви Благовещения на Мячине в полной мере. В Нерези и Старой Ладоге оно также дает о себе знать, но еще только как стремление к преодолению пространственных дистанций, что находит выражение в неожиданных паузах и физическом напряжении, получающем разрешение в жестах, взглядах, позах, но не в самом плавно развивающемся мелодическом ритме. В живописи самого конца века такой рифмованный поэтический ритм будет утрачен. 15. Наиболее близкие аналогии решению композиций в церкви Благовещения можно наблюдать в мозаиках Монреале на Сицилии, созданных в 1180-х гг. Но это не единственная стилистическая параллель фрескам Благовещенской церкви. Близкое сходство с ними, особенно в характере построения колорита, обнаруживает роспись церкви Николы Касницис в Кастории. Здесь мы находим ту же самую приглушенно звучащую цветовую палитру, в которой преобладают сумеречные тона. В обоих случаях получившийся эффект неровного мерцающего света был очень важен для художников как знак полного насыщения и преображения плоти, словно извлекаемой благодаря ему из глубин темного пространства. 16. Памятником новгородской живописи того же времени, видимо, даже созданным одним из тех мастеров, что работали над росписью церкви Благовещения Умиление», на Мячине, хранящаяся в является небольшая Успенском соборе икона «Богоматерь Московского Кремля. Тончайшая разработка мотивов таинственно мерцающего света точно соответствует принципам построения колорита во фресках Благовещенской церкви. Полностью совпадают в обоих памятниках и приемы построения пластической формы, особенно личного письма. В их сходстве можно убедиться, сравнив лик Богоматери с лицами юношей из сцены «Третье обретение главы Иоанна Предтечи». Столь близкое сходство позволяет уточнить датировку иконы, относимой ранее к началу XIII в. 17. К той же группе новгородских памятников принадлежит Евангелие апракос, известное под названием «Пантелеймоново Евангелие» (РНБ). Своим названием оно обязано миниатюре с изображением свв. Пантелеймона и Екатерины, расположенной на л. 224. В древности рукопись хранилась в библиотеке Софийского собора в Новгороде, что указывает на ее новгородское происхождение. Большинство историков искусства датируют рукопись рубежом XII–XIII вв. Лишь О.С. Попова заметила, что «пластическая мощь письма кажется отголоском византийской живописи X – первой половины XI в.». Она четко обозначила художественную идею, к воплощению которой стремился создатель миниатюры: «Моделировка сообщает формам рельефность, красочной структуре – светоносность, а художественному строю – напряженность. Незаполненных красочных поверхностей, важных самих по себе только своей цельностью и декоративностью, мастер избегает. Цветовые плоскости в его письме значимы, поскольку они озарены». Чистый, лишь едва подцвеченный свет, по сравнению с тающими цветными полутенями, является наиболее определенной и устойчивой частью изобразительной структуры, образующей ее ядро, своего рода «внутренний объем», проступающий через пелену притенений и орнаментальную сетку разделки одежд. 18. Светоносность, «озаренность» колористической гаммы миниатюры, как и росписи церкви Благовещения на Мячине 1189 г. и иконы «Богоматерь Умиление» из Успенского собора Московского Кремля, – черта стиля, связанная с очень определенным временем и направлением в развитии византийского искусства позднекомниновского времени. Показательно, что она характерна для мозаик Монреале и фресок церкви Николы Касницис, оптимальной датировкой которых также являются 80-е гг. XII в. Как и там, в изображении свв. Пантелеймона и Екатерины присутствует эффект «убегающих» цветных теней, «прячущихся» в тонких складках одежд и расчленяющих массивные драпировки сетью параллельных прямых темных линий. 19. Помимо общестилевых черт, все названные памятники обладают приметами локальной художественной традиции, проявившимися уже в таких произведениях новгородской живописи первой половины XII в., как фрески башни Георгиевского собора Юрьева монастыря, фрагменты росписи Мартирьевской паперти, двусторонняя икона «Богоматерь Знамение». Везде применена техника бессанкирного письма, ведущегося по сплошным охряным прокладкам, с относительно небольшим числом моделирующих слоев. Общность сказывается в кратких и емких приемах моделировки рельефа, в предпочтении, отдаваемом обобщенным формам с крупными чертами, в отсутствии тонкой и тщательной графической проработки деталей. Доминантными в палитре новгородских мастеров остаются золотисто-желтые охры, светло-голубые и светло-зеленые тона, темнокрасные разных оттенков – от коричнево-красного до фиолетового красочной гаммы. Сочетая немногочисленные крупные пятна локальных цветов с постоянно варьируемыми добавками белил, часто подцвечиваемых, и путем введения в палитру сложных красочных смесей и ахроматических тонов они достигали ее разнообразия и подвижности. В отличие от памятников, созданных в столице Византии, а на Руси – киевскими и владимиросуздальскими художниками, образные характеристики персонажей новгородских мастеров отличаются прямотой и открытостью, граничащей с простодушием. 20. Показательна в этом отношении икона «Оглавный чин с Христом Эммануилом и двумя архангелами» (ГТГ), место первоначального пребывания которой не известно. Особенности стиля роднят ее с упомянутыми ранее памятниками типа фресок церкви Благовещения на Мячине и мозаик Монреале. Как и там, автор иконы создает поэтический образ света, проступающего из тьмы. Он избегает открытых контрастов красочных пятен, света и тени, основную охряную прокладку в живописи ликов, теплый тон которой углубляет промежуточный слой подрумянки, прикрывает тонким и прозрачным лессировочным слоем оливково-зеленых цвета, достигающего максимальной насыщенности в зонах теней, ореолом лежащих по контуру формы. Движение имеет сугубо композиционный характер, поскольку определяется оно не внешней сценической взаимосвязью персонажей, но абстрактным ритмом мягких плавных контурных линий и тонко варьируемыми повторами сочетаний немногих красочных пятен. Ритмическая организация живописи, несмотря на отсутствие физической дистанции между Эммануилом и ангелами, позволяет выявить скрытый контраст между началом сокровенным и неизменным (образ Эммануила) и началом изменчивым, чутким, которое олицетворяют ангелы. 21. Сохраняющийся в «Оглавном чине классический баланс двух начал – изобразительного и абстрактно-символического, – который новгородцы достаточно часто нарушали, такие «неновгородские» черты как смягченность контрастов, деликатная сдержанность ритма, правильность пропорций; изысканный тип ликов заставляют склоняться в пользу признания этого памятника произведением владимиро-суздальских мастеров. 22. Представление о несколько ином варианте стиля живописи того же десятилетия дают фрагменты фресок Успенского собора во Владимире, точно датируемых, как и роспись церкви Благовещения, 1189 г. В изображении пророка Аввакума, имеющем наилучшую сохранность, в отличие от ранее рассмотренных памятников колористический эффект строится на противопоставлении холодного тона, доминирующего в живописи одежд, и открытого мягкого, теплого свечения, исходящего от лика, в котором прозрачные нежно-зеленые тени и светло-розовая подрумянка не приглушают, а подчеркивают золотисто-охряной тон основной прокладки. Однако и в этом памятнике главной художественной идеей остается создание образа тающего света, дематериализующего плоть и ткань. Все выглядит так, как будто, моделируя форму, художник идет не от фона к переднему плану, а наоборот, оставляя на переднем плане самые плотные чистые пятна белил, углубляется в глубину ткани, создавая подобие контррельефа. Возникающая в результате «прозрачная» пластическая форма, ядром которой является «цветовой объем», впитавший в себя свет, и составляет то общее, что отличает все памятники живописи 1180-х гг. Другой их особенностью, столь же показательной, является выразительно интонированная жестикуляция. Сюда же можно добавить и такие приметы: вытянутые пропорции; неглубокие и нетяжелые объемы; четкая прорисовка абрисов фигур, максимально приближенных к переднему плану композиции; своеобразный эффект «побежалости» сложно составленных красочных тонов, интонации вопрошания и ожидания, которая читается в позах, жестах, взглядах. 23. Помимо упомянутых произведений эти приметы дают о себе знать в таких, в целом достаточно разных, памятниках как росписи церкви Св. Неофита на Кипре, монастыря Св. Иерофея близ Мегар, капеллы Богоматери в монастыре Св. Иоанна Богослова на Патмосе, мозаичная икона «Преображение» в Лувре, фрески нартекса базилики Сант Анжело ин Формис в Италии. 24. В числе русских памятников к этой группе, безусловно, принадлежит икона «Явление архангела Михаила Иисусу Навину», хранящаяся в Успенском соборе Московского Кремля, которая обнаруживает не только общестилистическое, но и конкретное сходство с фресками Успенского собора во Владимире 1189 г. 25. Сравнение названных памятников с иконами и ансамблями храмовых росписей самого конца XII в. (Курбиново, церковь Свв. Врачей в Кастории, Дмитриевский собор во Владимире, Нередица и др.) показывает, что стилистические изменения повсеместно происходили практически синхронно и очень быстро. Это, конечно, нельзя объяснить последовательным «линейным» распространением внешних влияний. Здесь сказывалась и внутренняя логика саморазвития стилистической традиции. Материал предоставлен Л.И.Лифшицом. 4. Почитание трапезундских и киликийских святых в Грузии (по материалам фресок Бетании и Тимотесубани) На рубеже XII–XIII вв. в византийском искусстве усиливается значение воинской тематики. В монументальной живописи увеличивается количество изображений святых воинов, отдельные фигуры объединяются в группы, в храмовых пространствах их изображениям отводятся специальные зоны. Как правило, это западная стена и близкие к ней объемы, не исключая и нартекс, а также грани столпов и нижние ярусы северной и южной стен (в качестве примеров можно назвать церкви Св. Пантелеймона в Нерези и Св. Николая Касницис в Кастории). Это явление имеет корни в искусстве более раннего времени. Как пишет Т.Ю. Царевская, «...интерес к изображениям святых воинов в византийском искусстве возрастает в X в. ... в связи с потребностью аристократии иметь небесных покровителей в борьбе против земных врагов – латинян, но главным образом – мусульман»1. Святые воины в тот период изображаются в предметах мелкой пластики (в том числе триптихах из слоновой кости) и в иконописи, а позднее появляются и в стенописи. При этом в византийских памятниках, как правило, преобладает тема мученического подвига святого воина, пострадавшего за исповедание христианской веры. В Грузии христианский воинский культ всегда отличался особой спецификой. Он уходит еще в дохристианские времена и связан с почитанием небесного всадника – божества, имеющего широчайший круг коннотаций в солярных культах Древнего Востока. Важно отметить, что в отличие от преобладания мученического аспекта почитания святых воинов в Византийской империи, в грузинском раннем Средневековье определяющей была тема доблестного воина, божественного победоносца. Наряду со 1 Царевская Т.Ю. Роспись церкви Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде. М., 2007. С. 109. святым Георгием распространяется и почитание Феодора Тирона в образе змееборца, а также иногда Димитрия Солунского. В Грузии сложились оригинальные сказания о чудесах святого Георгия, которые бытуют только там – например, о чуде воскрешении вола («Чудо о быке Феописта»), которое произошло в Халде (Сванетия), а также «Чудо о каменщике Басиле», построившем храм Св. Георгия в Кларджети. В итоге именно святой воин, персонифицированный в образе христианского великомученика Георгия, являлся наиболее почитаемым святым покровителем Грузии. Храмы IX–XII вв., посвященные святым воинам с их конными образами, сохранились в пещерном монастыре Сабереби, в Бочорме и, в большом количестве, в Сванетии. Там также могли присутствовать и житийные циклы, но победоносная тематика являлась главной. На рубеже XII–XIII вв. в этой идейной сфере появляется ряд новых аспектов. Прежде всего, круг воинских образов сильно расширяется. По иконографии и расположению в храмовом пространстве этот процесс тождествен с общевизантийским, затрагивающим также Балканы и отчасти Древнюю Русь (в частности, почитание святых князей-мучеников Бориса и Глеба). Важно, что идейное наполнение этих программ и в Грузии тоже связано со сменой акцента – главной становится тема мученичества. Но еще важнее, что в историко-политических условиях Закавказья состав этих святых имеет явно выраженную идейную подоплеку, отличную от других региональных ситуаций. Для Грузии времени правления царицы Тамары (1177/1184 – 1207/1213) жизненно важными становятся следующие задачи: - участие в становлении самостоятельного Трапезундского царства; - влияние на политику Великих Комнинов в стремлении доминировать в понтийских землях; - отражение натиска сельджукского Румского султаната. Важно, что во всех этих направлениях мощная и авторитетная Грузия, управляемая родственницей Великих Комнинов царицей Тамарой, выступала гарантом политической стабильности и силой, способной остановить угрозу с востока. В искусстве этого времени мы имеем ряд важных свидетельств усиления грузинского влияния на всей территории государств так называемого понтийского содружества. Известна вислая свинцовая печать (моливдовул) императора Алексея I Великого Комнина, найденная на Трапезундском акрополе и относящаяся к началу XIII в., где он изображен как полководец, в доспехах и шлеме, ведомый за руку св. Георгием. Как считает С.П. Карпов, эта печать могла появиться в честь победного входа Алексея в Трапезунд в апреле 1204 г., что совпадает с праздником Пасхи (25 апреля) и памятью Георгия 23 апреля: «Появление на печати святого Георгия могло быть связано с его особым почитанием как византийскими Комнинами, так и грузинскими Багратидами, игравшими немалую роль в утверждении Алексея на престоле. Примечательно в этой связи, что на медных монетах трапезундских Комнинов XIII века также изображен св. Георгий»2. Независимо от воинской темы, в плане укрепления комнино-багратидского родства важно и то, что брат Алексея, Давид, имел в качестве святого покровителя пророка Давида, особо почитаемого грузинскими Багратидами как своего прародителя. Существенно также, что на одной из печатей Давида появляется фигура св. Елевферия – возможно, Елевферия Тарсийского, чье изображение в алтарной апсиде церкви Рождества Богородицы в Бетании отражает формирование круга важных для Закавказья святых уже в последней четверти XI в. В рассматриваемый период в грузинских памятниках это звучание усилится добавлением нового круга образов святых мучеников, почитаемых в регионе – от Картли до Киликии Армянской. 2 Карпов С.П. История Трапезундской империи. СПб., 2007. С. 109. Круг почитаемых Комнинами «трапезундских» святых, сложившийся в итоге всех этих процессов, позже включил святого воина Евгения, изображения которого на серебряных монетах известны с 1266 по 1270 г. Медальон со св. Евгением украшал несохранившееся изображение Мануила Комнина, которое находилось в Софии Трапезундской. Однако среди сохранившихся памятников изображение св. Евгения известно намного раньше – речь идет о Тимотесубани, грузинском живописном ансамбле времени царицы Тамары (1205–1215). Здесь он изображен на западной стене в ряду ростовых фигур воинов, включающем также свв. Кандида, Валериана и Акилу Трапезундских. Отметим, что это уже далеко не победоносные легендарные герои-всадники типа св. Георгия, а воины-мученики. Житийные тексты сообщают, что они пострадали за Христа в Трапезунде в начале IV в. В Тимотесубани мы находим развернутый цикл изображений, связанный с миром закавказских святых. Все они расположены в западной части храма. Кроме уже отмеченных фигур, здесь представлены воинмученик Меркурий Кесарийский (Каппадокийский), мученики Мардарий, Евгений, Орест, Евстафий и Аквсентий Севастийских. В «территориальном» смысле к ним, возможно, примыкают образы Алексия, человека Божия, умершего в Эдессе (современная Шанлыурфа, Турция), и Артемия, епископа Арвильского, пострадавшего в Персии при царе Шапуре II (344). Но особенно интересно появление среди сонма этих святых мученика-воина Давида Арагвеци, имеретинского эристава, который вместе с братом Константином был утоплен в реке Риони в 740 г., при нашествии на Кутаиси арабского полководца Мурван-Абдул-Касима. В настоящее время их мощи, обретенные при царе Баграте Великом (1072–1117), находятся в монастыре Моцамета близ Кутаиси. Живопись западной стены Бетании, исполненная во время правления царицы Тамары, продолжает тему прославления святых из регионов, тяготеющих к Закавказью. Ее нижний регистр занят рядом крупных, чуть ли не в человеческий рост, фигур мучеников с крестами в руках и воинов, продолжающимся двумя фигурами на гранях прилегающих столбов (всего девять фигур). Вторая, пятая, седьмая и восьмая фигуры не атрибутируются. Остальные, слева направо, судя по сохранившимся надписям: священномученик Иаков Персиянин, пострадавший при персидском царе Шапуре II; мученики Филадельф и Алфей, пострадавшие вместе с третьим братом Киприаном, по некоторым данным, в киликийской Селевкии; Меркурий Кесарийский; мученик Нестор, происходивший вместе с братом Тривимием из Памфилии, расположенной между Киликией и Ликией. Из четырех поясных фигур на гранях северного столба западной стены одна не атрибутируется. Остальные изображают мученика Анисия (Онисия) Усуровского или Исаврийского, Филимона Антинойского (не исключено, однако, что это один из девяти мучеников Кизических), и, согласно надписи, «священника и мученика» Панкратия, епископа Тавроменийского. Как сообщает житие, в I в. он подвизался в Понтийских горах, затем сопровождал апостола Петра в Антиохии и Киликии. Если эти атрибуции верны, мы видим, что святые мученики, изображенные в западной части храма, либо подвизались, либо пострадали в близких к Закавказью областях, которые сейчас входят в состав Турции, Сирии и Ирана. В описываемое время именно эти территории испытывали натиск со стороны завоевателей-сельджуков, что заставляло объединяться христианский мир от Картли до верхнего течения Евфрата. Материал предоставлен А.Л. Макаровой. 5. Датирующие признаки фресок церкви Св. Георгия в Ладоге 1. Споры, касающиеся вопроса о времени создания росписи церкви Св. Георгия в Старой Ладоге, продолжаются. Обсуждаются две датировки памятника, не выходящие за пределы второй половины XII в., – 1160-е гг. и 1180–1190-е гг. Хронологический разрыв между ними сравнительно невелик, но именно в это время в монументальной живописи византийского мира, в том числе и в Древней Руси, происходят важные процессы. 2. При обсуждении датировки росписи церкви Св. Георгия все исследователи признают ключевым признаком стадии эволюции стиля степень абстрагирования в рисунке личного и одежд. Параллельно ими рассматриваются вопросы программы храмовой декорации, а также иконография. В большинстве исследований затрагивается вопрос о мастерах росписи. В качестве исторической основы датировки сторонники ранней версии упоминают победу над шведами в сражении 1164 г., отмеченную в летописях. 3. При анализе различных точек зрения становится очевидно, что исследователи часто по-разному интерпретируют одни и те же черты стиля. Сказывается и их тяготение к ранней датировке росписи. В настоящем докладе я коснусь только некоторых проблем истории и стилистики ансамбля, ставя перед собой цель найти максимально объективные критерии для их оценки. 4. Обе упомянутые датировки впервые были предложены В.Н. Лазаревым. Сначала он склонялся к поздней датировке, от которой позже отказался. В монографии, посвященной памятнику, он высказал идею, что храм был воздвигнут и расписан до Аркажей и Нередицы, вероятнее всего – в 1165–1167 гг. Затем появилась работа В.Д. Сарабьянова, который отмечает ретроспективизм стиля росписи и возвращается к ее датировке 1180–1190-ми гг., к тому он считает ее работой константинопольских мастеров. Л.И. Лифшиц отметил ряд противоречий в аргументах В.Д. Сарабьянова и счел целесообразным возвратиться к датировке храма и его фресок 1160-ми гг. Одним из основных признаков для датирования росписи он считает технические приемы письма личного и одежды, отмечая их радикальные отличия от приемов письма мастеров Аркажей и Нередицы. В конечном итоге Л.И. Лифшиц видит в росписи храма стилистическую параллель фрескам Нерези. О.Е. Этингоф расценивает позицию В.Д. Сарабьянова более жестко, как субъективную, но не вступает с ним в подробную полемику. 5. Нет единого мнения о времени строительства церкви и среди исследователей архитектуры, хотя датировки не выходят за рамки одногодвух десятилетий. К 1160-м гг. относят строительство храма М.И. Мильчик и П.А. Раппопорт. Н.В. Новоселов по данным историко-архитектурных изысканий и на основании исторического обзора княжений в Новгороде допускает возможность воздвижения Георгиевской церкви в период с 1160 по 1175 г. С.В. Лалазаров выделил два периода строительства храма, один из которых он связал с деятельностью архиепископа Нифонта. По предположению автора, закладка фундамента церкви с пониженными угловыми компартиментами, без хор и без нартекса, относится к 1154–1155 гг., т.е. связывает ее со временем завершения строительства храма Св. Климента в Ладоге. При этом им подразумевается и подражание собору Мирожского монастыря. Второй этап строительства он датирует примерно 1166 г. 6. Однако, принимая во внимание наблюдения С.В. Лалазарова, нельзя исключить, что закладка церкви Св. Георгия могла произойти и сразу после постройки псковского храма, в 1140-х гг., а разрыв между датой закладки и завершением постройки не обязательно был значительным. 7. Каковы основания говорить о сооружении церкви в 1160-х гг.? В 1158 г. на новгородский стол посажен князь Святослав Ростиславович; в 1160 г. он направлен в Ладогу, откуда быстро ушел в Смоленск. В 1161 г. князь возвращен в Новгород, в 1164 г. он возглавил (?) дружину в битве со шведами, напавшими на Ладогу. В 1165 г. Святослав ставит церковь Николы на Городище под Новгородом. Логичным выглядит предположение, что именно этот храм князь воздвиг в ознаменование победы, поскольку факт его строительства на княжеском дворе отмечен летописью, тогда как о ладожском храме в новгородских летописях сведений нет. Дата, которая оказалась магической для историков храмового зодчества и росписей, в действительности может рассматриваться чисто гипотетически. Иными словами, исторические условия могут служить не более как вспомогательным материалом, но ни в коей мере не определяют датировку Георгиевского храма. 8. Одна из очевидных особенностей ансамбля – идеальная архитектоника росписи, качество, отсутствующее в большинстве других известных стенописей XII в. Такая структура находит аналогии в мозаиках первой половины XII в. Она сменяется ковровой схемой в храмах с фресками (на Руси начиная с росписи Мирожа, оптимально датируемой 1137–1142 гг., и Спасского собора Полоцка второй четверти XII в.). 9. Живописный ансамбль церкви Св. Георгия органично сочетает традиции различных художественных направлений. Ведущую роль сохраняет за собой традиция византийского искусства, ярко выраженная в иконографии, в трактовке персонажей, типажах. Из романских регионов на Русь проникают мотивы «маньеризма», в незначительной степени затронувшие рисунок одеяний избранных персонажей. Отмечаемый эффект развевающихся складок одежды на статичных фигурах фресок церкви Св. Георгия столь сдержан, что эту ступень его развития можно считать не более чем начальной по сравнению со стенописями середины и второй половины столетия. 10. О работе русских художников мы можем судить осторожно. Следует отметить русские сопроводительные надписи, упрощенную до схемы манеру рисунка в личном письме отдельных персонажей, нюансы в рисунке архитектурного стаффажа сюжетных сцен и отдельных орнаментальных композиций. 11. В технике работы мастеров росписи нет устойчивого однообразия. Параллельно в одном ансамбле сосуществуют два основных принципа: живописный и графический, что можно наблюдать и в других росписях. Как и во фресках Спасского собора в Полоцке, церкви Св. Климента в Ладоге, в росписи Нерези и церкви Св. Георгия в Расе, авторы ладожского ансамбля используют прием многослойного моделирования. От художников Мирожа они могли воспринять манеру рисования «лишних» пробелов и «неизобразительных» контуров, которая достигнет своего апогея в фресках последней четверти столетия. С живописной лепкой соседствует нарастающая стилизация в конструировании формы, что особенно заметно в письме ликов. Мастера росписи церкви Св. Георгия, как правило, в многослойном моделировании применяют манеру бессанкирной живописи. Приверженность технике чистой фрески, мастерство и приоритетное значение рисунка, органичность колористического решения говорят не только о высоком профессионализме ведущих художников, но и о раннем создании фресок (если иметь в виду мнение Д. Уинфилда о существовании бессанкирного приема письма личного до первой трети XII в.), конечно, вкупе с другими особенностями стиля. 12. В поле особого внимания мастеров церкви Св. Георгия находился прием письма личного со стилизацией конструктивного рисунка. Виртуозно используя его, они давали возрастную характеристику святых – пророкам, Николаю Чудотворцу, мученикам и святителям. 13. Иконография алтарной композиции церкви Св. Георгия и размещение «Вознесения» в зеркале купола не являются достаточными основаниями для поздней датировки росписи. Отдельные части храмовой декорации обычно рассматриваются исследователями как следствие решений церковных соборов в Константинополе 1156–1157 и 1167–1168 гг. Но они не столько дали импульс для появления композиций типа «Поклонения жертве» и возвращения в зеркало купола «Вознесения», сколько закрепили уже существовавшие композиционные схемы, что известно по фрескам Велюсы, Мирожа и других памятников конца XI – первой половины XII столетия. 14. Отдельная тема доклада – распространение арочного обрамления сцен и отдельных фигур во фресках церкви Св. Георгия. Эта деталь может быть связана с образом Небесного Иерусалима в контексте его толкования богословами XII в. (см. замечание А.М. Лидова по поводу толкований Ришара Сен-Викторского) и одновременно рассматриваться как результат влияния иллюстраций романских рукописей. 15. В орнаментальной части фресок церкви Св. Георгия в большей степени, чем в других стенописях XII в., проявились связи с миниатюрами. Отдельные орнаментальные композиции храма напрямую повторяют элементы инициалов и заставок рукописей. Столь же тесная связь прослеживается с памятниками прикладного искусства Византии и Древней Руси. Этот аспект стилистики с точки зрения авторства и датировки лишь частично затронут в существующих исследованиях и требует дополнительных изысканий. 16. В результате новейших изысканий было установлено, что три каменных церкви Ладоги XII в. построены по княжескому заказу. Древнейшей из них считается Успенский собор, а его возведение и роспись все чаще относят ко второй четверти столетия. По ряду признаков Успенскую церковь можно считать храмом-усыпальницей. Декорация Успенского и Георгиевского храмов построена по единому принципу архитектоники. Оба ансамбля исполнены в технике бессанкирной живописи. Неизвестный нам заказчик Успенского собора вполне мог оказаться инициатором возведения и храма в крепости. Это не означает, что их создали одни и те же зодчие и художники-монументалисты, но они оказываются близкими по времени. 17. Похожие на фрески церкви Св. Георгия эффекты раннего «маньеризма», такую же экспрессивность моделировки и трактовку образов можно наблюдать в комплексе ранних мозаик Сицилии. 18. Результаты нашего анализа всех материалов, связанных с росписью церкви Св. Георгия, позволяют высказать мнение о возможности пересмотра существующих взглядов на памятник и датировать создание храма и его росписи в узких границах 1140-х гг. Материал предоставлен Б.Г. Васильевым 6. Житийный цикл св. Николы в Боянской церкви Житийный цикл св. Николы из Боянской церкви широко известен, прежде всего, благодаря трудам Андре Грабара и Нэнси Шевченко. Но за последние годы появились новые публикации, которые позволяют более глубоко рассмотреть место цикла не только в идейном контексте программы росписи самой церкви, но и в более широком плане искусства ХІІІ в. Цикл состоит из 18 сцен, которые иллюстрируют эпизоды жизни как св. Николы Мирликийского, так и св. Николы Сионского. Некоторые из сохранившихся надписей свидетельствуют о том, что мастера и их духовные наставники кроме житийных текстов были хорошо знакомы и с разнообразными литературными источниками, в том числе литургическими. Сравнительный анализ бояского цикла и более ранних циклов показывает, что боянские мастера владели очень богатым иконографическим арсеналом, включающим не только собственно византийскую традицию, но и художественную традицию, сформировавшуюся в процессе соприкосновения и взаимодействия византийского Востока с латинским Западом, столь характерного для таких центров как Синай, Крит, Италия и собственно Константинополь во время существования Латинской империи. Материал предоставлен Б.Пенковой. 7. Орнамент в русских росписях середины – второй половины XII века: образцы, интерпретация, локальные особенности В XII в. начинает постепенно меняться орнаментальный репертуар памятников монументальной живописи. Этот процесс затрагивает весь византийский мир. Влияние рукописного орнамента постепенно уступает место воздействию узоров тканей, декора произведений прикладного искусства, литургической утвари, в свою очередь влияющих и на орнамент рукописей. Типологическая общность, плавные перетекания орнаментальных тем способствовали единству восприятия всего храмового убранства. На Руси этот процесс имел особые черты и в последней четверти XII в. – отчетливые приметы местного своеобразия. Смена орнаментального репертуара отмечается уже в росписи собора Антониева монастыря 1125 г., где даже стойко державшиеся на протяжении всего XI в. два типа орнамента – лоза и так называемый ступенчатый – были либо смещены на места мало заметные, не видимые из основного объема храма, либо сильно уменьшены в масштабе. Эти процессы отразились и в рукописном декоре (см. Юрьевское Евангелие). Изменение масштаба орнамента в целом ряде памятников – также характерный признак искусства XII в. Впрочем, тут еще были возможны колебания, и в ряде случаев орнамент имел гипертрофированные размеры, отчетливо доминируя в пропорциональном отношении. В орнаменте росписей, созданных на Руси в середине – второй половине XII в., условно можно выделить несколько оригинальных вариантов, отличающихся по характеру взаимодействия с византийским орнаментальным репертуаром: 1. Типологически «чистый» вариант византийского орнамента – Мирож, Аркажи (хотя в последнем случае он чуть «смазан»). Аналогии, вернее, ассоциации вполне конкретные (Осиос Лукас, София Киевская). 2. Вариант византийского интерпретации орнамента в «высоких» сочетании с образцов собственно неловкими попытками воспроизведения мотивов позднеэллинистического, раннехристианского искусства – Спасо-Евфросиньевский собор в Полоцке, собор Елецкого монастыря в Чернигове. 3. Измельчение традиционных форм и своеобразные цветовые решения орнаментальных композиций наряду с появлением новых типов орнамента – Кирилловская церковь в Киеве. 4. Абсолютно новые орнаментальные формы и композиционные решения в орнаментальном репертуаре с небольшими вкраплениями традиционных мотивов. Выработка своеобразного орнаментального языка – церковь Св. Георгия в Ладоге, Нередица. 5. Параллельные процессы на соседних территориях – своеобразные интерпретации византийского орнамента в росписи церкви в приходе Гарда на острове Готланд, где он используется наряду с чисто романскими мотивами. Материал предоставлен М.А. Орловой. 8.Региональная традиция в ономастике и выборе изречений мудрецов древности, изображенных в молдавских наружных росписях XVI века Изречения и изображения мудрецов древности встречаются в молдавских росписях Георгиевской церкви монастыря Св. Иоанна Нового в Сучаве (1534), Николаевской церкви монастыря Пробота (1532–1534), Успенской церкви монастыря Хумор (1535), Благовещенской церкви монастыря Молдовица (1537), Георгиевской церкви монастыря Воронец (наружная живопись 1547 г.), Воскресенской церкви монастыря Сучевица (1584, живопись конца XVI в.) и Петропавловской церкви монастыря Четэцуя (1669–1672). Благодаря фундаментальным исследованиям А. фон Премерштейна и Х. Ербсе нам хорошо известна греко-византийская традиция цитирования имен и пророчеств философов античности в различного рода сборниках изречений. Следует, однако, отметить, что церковно-славянская традиция выбора имен и пророчеств эллинских мудрецов очень своеобразна и, за несколькими исключениями, отнюдь не следует традиции греческой. В результате проведенных в последние годы исследований, автором данной работы были впервые прочтены несколько ранее неизвестных, либо неверно истолкованных изречений античных философов (написанных на церковно- славянском языке среднеболгарского извода на стенах молдавских храмов XVI в.). Так, например, было установлено, что пророчество, написанное на свитке «Эллина Плутарха», изображенного на фасаде церкви Св. Георгия в Сучаве, на самом деле является фрагментом хорошо известного «свидетельства» Иосифа Флавия об Иисусе Христе, включенного в 18-ю книгу «Иудейских древностей». На фасаде этой же церкви была идентифицирована и расшифрована церковно-славянская надпись на свитке «Эллина Змовагла» (Софокла). На базе сравнительного анализа изречений и имен мудрецов древности, встречаемых в «Житии Стефана Лазаревича» Константина Костенецкого, в 37-ой книге Гурия Тушина (1523–1526), в разных редакциях Русского Хронографа, в Кирилловой книге 1644 г. и в других письменных и изобразительных источниках, автор выдвигает гипотезу о существовании общего для Молдавии и Руси XVI в. протографа, включающего традиции большинство пророчеств. Автор присутствующих доклада также в церковно-славянской пытается восстановить подлинную ономастику изображенных мудрецов античности, имена которых были искажены до неузнаваемости в молдавских средневековых настенных росписях. Материал предоставлен К. И. Чобану. Книжная иллюстрация 1.The Illuminated Georgian Manuscripts from Kalipos, near Antioch-on-theOrontes, in a Perspective of Byzantine Art Three illuminated Gospel manuscripts issued from the Georgian Monastery of the Virgin in Kalipos near Antioch have come down to us: A 484 and S 962 in the National Center of Manuscripts, Tbilisi, – both dated from 1054, – and No. 76 at the Museum of History and Ethnology in Kutaisi, from 1060. Originated from the same foundation during a short period of time, the manuscripts, instead of constituting a homogenous group, are strikingly different as to their miniatures. In the splendid volume A 484 the evangelists’ portraits, judging by their style and quality, have been painted by an outstanding artist from Constantinople. In the small but lavishly decorated book S 962 another excellent artist from the Byzantine capital seems to have been at work. Yet neither his only miniature nor the second one painted by an apprentice has evident connection to the evangelists in A 484. In the Kutaisi Gospel the ornament-like treatment of folds of the evangelists’ garments reminding of Georgian chasing points to a master, who had recently come to Antioch from Georgia. In figure types of the evangelists this painter followed Byzantine practice but no impact of the miniatures in the luxurious books written in Kalipos a few years earlier can be detected in his miniatures. The only conclusion that could be drawn from the materials observed so far, as long as we stay within the Kalipos group of manuscripts, is that by 1050’s – 1060’s there was no an established tradition of miniature painting in the Georgian Monastery of the Virgin. The fact is remarkable as the Monastery was a prolific center of literary activity attested in documents since 1040. However, if we look at them in a broader perspective of Byzantine art, the manuscripts from Kalipos will represent a consistent picture. A key to the problem is the Greek Gospel Lectionary in Florence, Laurenziana Library, Med. Palat. 244, for it was this manuscript that had once served as a model for the painter of Kutaisi No. 76. The Florence Lectionary must have been intended for an important cathedral to be read by a high dignitary of the church on the most important events of the church calendar. For this reason it contains an unusually narrow selection of lections for twenty two days of the year only, and the text is written throughout in gold on large sheets of excellent parchment, ten lines of spectacular script per page. In the early fourteenth century the manuscript was donated from Constantinople to the Trebizond to be read in the cathedral of the city, and belonged to the Metropolitan. Three centuries earlier it may have served the same purpose in the Cathedral of St. Peter in Antioch. The Florence Lectionary has been recently identified as a twin of the manuscript in Moscow, Historical Museum, Syn. 511.1 This book was brought to Russian capital by the Metropolitan Cyprian in 1391 from the library of St. Sophia Cathedral in Constantinople2. It seems likely that both exceptional manuscripts have been created in the immediate circle of the Constantinopolitan Patriarch to be used in the Great Church, and, by means of distribution to great ecclesiastical centers of the Orthodox world, to enforce the unity of liturgical practice. Antioch, as the capital of the huge ancient Patriarchate re-conquered by the empire in 969 after three centuries of Muslim occupation, was the most important object of Byzantine ecclesiastical policy of assimilation during late tenth and eleventh century. The Florence and Moscow Lectionaries has been presumably dated to late 1160’s – 1070’s. The Georgian copies of the Florence miniatures in the Kutaisi Gospel attest a date no later than 1060 for its model and most probably for the model’s sister manuscript in Moscow, as it seems to have been written first. While the composition of St. John miniature in Tbilisi Gospel A 484 from 1054 still follows a tradition established in the Macedonian age, the iconography of this evangelist in both Lectionaries heralds a new age in the development of Byzantine art. The two manuscripts should have been written a few years later than Tbilisi A 484, close to the moment, when the Florence copy was sent from Constantinople to Antioch and served as a model for the miniatures of Kutaisi Gospel. The origin and date of the Byzantine model used for the Kutaisi Gospel exemplify what sort of Byzantine book-painting Georgian monks in Kalipos were interested in. It was the latest and most accomplished art of Constantinople practiced at the Patriarchal See that attracted their attention. The testimony is Захарова А.В. «Греческое Евангелие-апракос из Государственного исторического музея. История, кодикология, текст и декоративное оформление», in Художественное наследие. Хранение, исследования, реставрация, No. 20 (Moscow, 2003), pp. 7–19. 2 А.Л. Саминский, «Евангелие из библиотеки Святой Софии Константинопольской в Москве конца XIV века». The article is submitted for publication in Древнерусское искусство (S.-Petersburg – Moscow). 1 corroborated by the refined quality of miniatures in Tbilisi A 484 and S 962. Viewing in this perspective, the Georgian Monastery of the Virgin in Kalipos seems to have been a true foyer of Constantinopolitan miniature-painting in Antioch. Материал предоставлен А.Л. Саминским. Прикладное искусство 1.Иконографические особенности композиций евангельского цикла новгородских Васильевских врат Васильевские врата 1336 г. – один из важнейших памятников, дающих представление о новгородском искусстве первой половины XIV в. В украшающих их изображениях нашли отражение две различные тенденции того времени: архаизация, обращение к старым домонгольским (комниновским) образцам, и интерес к современному палеологовскому искусству, знание его стилистических особенностей и использование актуальных для своего времени иконографических схем. При этом новгородские художники свободно выбирали те или иные образцы для своей работы. Значительную роль играло самостоятельное иконографическое творчество, дает о себе знать изобретательность художников или самих заказчиков. Надо полагать, что Васильевские врата отражают общее положение дел в новгородском искусстве, активный процесс формирования нового художественного языка. Многогранность, даже стилистическая «пестрота» памятника связаны также с тем, что над ним, как показывает анализ, работали четыре разных художника, каждый из которых обладал ярким индивидуальным подчерком, проявлявшимся уже в иконографическом решении композиций (в определении работ каждого из четырех мастеров мы придерживаемся выводов В.Н. Лазарева, внося изменение в атрибуцию двух клейм). Опишем особенности, характерные для каждого из художников. Четвертым, самым слабым из них, были исполнены две части «Благовещения» и «Воскрешение Лазаря», отличающиеся наименьшим числом фигур. Художник плохо справляется с мелким рисунком, но, несмотря на это, насыщает свои композиции множеством неординарных, подчас уникальных деталей. В «Благовещении» присутствуют многочисленные указания на гимнографические эпитеты Богоматери: столп, дверь, престол, лестница, светильник и др. Поза и жесты рук обернувшейся Богородицы характерны для памятников XII в.: фресок Антониева монастыря в Новгороде, церквей Свв. Врачей в Кастории и Панагии Теотокос в Искеле на Кипре, царских врат из Като Лефкара, полиптиха из синайского собрания и др. В то же время пространственно трактованный престол с полукруглой спинкой появляется лишь в памятниках палеологовского периода, в частности на двух новгородских иконах Спаса на престоле из Благовещенского собора Кремля 1337 г. и из Софийского собора в Новгороде 1362 г. Такое же сочетание черт двух различных эпох присутствует на фреске собора Снетогорского монастыря в Пскове. Композиция «Воскрешение Лазаря» предельно упрощена, здесь оставлены лишь четыре стоящие фигуры. Однако в ней также присутствуют необычные детали: свеча перед гробом Лазаря, некий предмет у ног Христа, возможно, сосуд с миром, которым сестра Лазаря помазала ноги Спасителя (Ин. 12, 3). Иначе работал третий художник, хорошо справлявшийся с мелкими, многофигурными изображениями. Его отличает аккуратность и одновременно некоторая робость рисунка. Исполненное им «Рождество Христово» глубоко архаично и схоже с комниновскими памятниками. Характерны округлые, покатые горки с небольшими, изрезанными лещадками вершинами. На фоне каждой из горок помещена отдельная группа персонажей, как это сделано на известной многофигурной иконе из синайского собрания или фреске Нередицы. Совпадая по расположению фигур с иконой из праздничного чина новгородского Софийского собора (около 1341 г.?), клеймо Васильевских врат отличается иным принципом их сочетания. Сопоставление этих памятников показывает их глубокое различие. К работам третьего мастера также относятся три клейма нижнего ряда: «Весы духовные», «Китоврас» и «Притча о сладости мира». В них художник чувствует себя раскованнее, смело располагая фигуры на свободном пространстве фона. Сходство с «Рождеством» имеет лишь «Притча», где изображения чудовищ вписаны в две симметричные округлые горки и вторящие им корни древа. Сложнее различить работы двух ведущих художников врат. Они ближе друг другу и в определенной степени более современны. К работам первого художника относятся лишь три клейма: «Сретение», «Распятие» и «Сошествие во ад». Это объясняется тем, что он работал над другими важными образами врат – фигурами на нащельнике и большинстве умбонов. Его композиции просты и монументальны, они напоминают памятники византийского искусства второй половины XIII – начала XIV в. «Распятие» очень близко к знаменитым иконам из Охрида и Византийского музея в Афинах. Группы предстоящих в «Воскресении» близки русским иконам первой половины XIV в. из Чухченемы (ГТГ) и Тихвина (НГОМЗ). Отличается сложное движение Спасителя, держащего за руку Адама и обернувшегося в сторону царей Давида и Соломона (ср. с клеймами византийских икон XIV в. – «Богоматери Павсолипии» из Константинопольского патриархата и «Распятия» на Синае). В «Сретении» вместо кивория изображен сам крестовокупольный храм на четырех колоннах. Этой особенности трудно подобрать аналогии (фреска XIV в. в Асину на Кипре). Жесты рук Богоматери (как в иконографии «Не рыдай Мене, Мати») и фигура Младенца на руках Симеона повторяют памятники XII в., указывая на страстную тематику композиции. Христос приносится в храм как Жертва. В новгородском произведении на это буквально указывает стоящий на престоле в центре клейма дискос со снятой звездицей (обычно здесь представлено только лежащее Евангелие), т.е. показан момент служения литургии. Дискос изображен и на клейме четырехчастной новгородской иконы XV в. из ГРМ. Там же вместе с Анной Пророчицей, отождествленной с матерью Богородицы, изображен праведный Иоаким. На клейме врат имя «IAКЪIМЪ» подписано над фигурой Иосифа Обручника. Сложнее и разнообразнее композиции, созданные вторым из четырех художников. К его работам относятся «Крещение», «Преображение», «Вход в Иерусалим», «Вознесение», «Успение», «Троица» и «Ликование Давида» из нижнего ряда клейм. Кроме того, к ним следует добавить «Снятие со креста», атрибуция которого вызывала сомнения у В.Н. Лазарева, а также клеймо «Жены-мироносицы у Гроба Господня», не похожее на работы первого мастера. Второй художник непостоянен в своих вкусах, подражая то комниновским, то палеологовским образцам, с которыми прекрасно знаком. Он также привносит в композиции множество редких, иногда уникальных деталей. Изображение Иоанна Предтечи в «Крещении» находит аналогии в ряде памятников XII в.: фресках Мирожа, церкви Св. Николая близ Сангри на острове Наксос, белофонной иконе молящегося Иоанна Предтечи из собрания на Синае. Худой, изможденный аскет Иоанн одет в короткую власяницу без рукавов, одно его плечо открыто. Он буквально бежит по краю горы, воздев руку в пророческом жесте. Интересно сопоставление трех плавающих в реке иудеев с тремя рыбами, напоминающее о древнейшей христианской символике. Иначе решено «Преображение». Вертикальное построение композиции с высокими горами, динамичные фигуры упавших апостолов являются характерными признаками XIV в. Второй мастер старается подражать первому художнику в изображении гор, покрытых лещадками. Влияние комниновских произведений заметно лишь в миндалевидной мандорле со строго симметричной системой исходящих от Христа лучей (ср. с мозаичной иконой XII в. из Лувра). Стремление второго художника освоить приемы современного ему византийского искусства проявляется в изображениях горы и града во «Входе в Иерусалим». Фигуры апостолов из «Вознесения» находят прямые аналогии в памятниках второй половины XIII – XIV в.: фресках церквей Свв. Апостолов и Одигитрии в Пече 1337 г., иконе из праздничного чина Софийского собора и фреске Сковородского монастыря под Новгородом, около 1400 г. Чрезвычайно усложнена композиция «Успение». Здесь представлено Вознесение Богоматери, известное по фрескам XIV в. в Грачанице, Мистре и др. Художник не боится перегружать и без того мелкое изображение, при этом не прорисовывая тщательно каждую деталь. Напротив, клеймо «Жены-мироносицы у Гроба Господня» точно воспроизводит тип композиции, характерный для памятников XI – начала XIII в: фресок Осиос Лукас, Мирожа, Кинцвиси, Милешева и др. Удлиненные, утрированные пропорции фигур, а также градация их масштабов (большая фигура ангела, меньшие по росту жены-мироносицы, крошечные стражники) – характерные признаки всех композиций второго мастера. «Снятие со креста» с первого взгляда напоминает известные палеологовские иконы из Никосии на Кипре и монастыря Ватопед на Афоне. Однако похожая композиция XII в. из церкви Пантелеймона в Нерези даже ближе клейму Васильевских врат. Архаична также «Троица», где средний сидящий ангел наделен всеми атрибутами Христа Пантократора. Некоторые детали композиций второго художника не вполне ясны и требуют интерпретации. Так, в «Вознесении» изображено тринадцать апостолов, во «Входе в Иерусалим» вместо встречающего народа представлен похожий на пророка старец со свитком, окруженный тремя юношами. В «Троице» нет Сарры, но рядом с Авраамом изображена еще одна мужская фигура. Возможно, что это не слуга, а ктитор (во вкладной надписи врат упомянут тысяцкий Авраам). Столь же интересны подписи в композициях второго художника, не всегда имеющиеся у главных лиц, но отмечающие избранных второстепенных персонажей: в «Снятии со креста» стоящая рядом с Богородицей жена «ANENAS», архангел Михаил в «Крещении» и в композиции «Жены-мироносицы у Гроба Господня». В основном именно многочисленные работы второго мастера создают общее впечатление от Васильевских врат. Внимательное изучение их композиций позволяет существенно расширить представления о новгородском искусстве первой половины XIV в., увидеть происходившие в нем сложные и неоднозначные процессы, оценить сам этот памятник в контексте влияния византийского искусства разных периодов. Материал предоставлен А.Л. Гульмановым. 2. Византийское наследие в русской глиптике XVI века Средневековые резные камни, как и более древние, были буквальными (таковы печати) или символическими представителями своих владельцев. Большие геммы со сложными изображениями, вырезавшиеся в течение нескольких лет, а также сосуды из цветных камней становились знаками власти и монаршей милости, героями преданий, приобретали статус государственных реликвий. В Византии геммы служили миниатюрными иконами и оберегами, лучшие из которых были выполнены для императора. Помимо сакрального достоинства и художественного совершенства, в них ценились красота и магические свойства самих минералов. «Царство греческое», разрушившееся в 1453 г., было для русских самодержцев своего рода парадигмой, а византийское художественное наследие, в том числе и глиптика, ценилось идеологами русского самодержавия. Со второго десятилетия XVI в. возобновляются активные русско-греческие связи. В царствования Ивана IV и Феодора Иоанновича в Москву с православного Востока, контакты с которым для России, ставшей царством и стремившейся к утверждению патриаршества, были тогда особенно важны, привозятся не только святыни и иконы, но и древние византийские геммы. Они подносилось русским государям в качестве благословений восточных иерархов и дипломатических даров, а также предлагались «на промену» (т.е. для закупки). В русском царском и церковном обиходе византийские геммы сохраняли свое первоначальное предназначение: служили великокняжескими и царскими «комнатными» иконами, «прикладами» к храмовым чудотворным иконам, «жаловались» властителями для украшения митрополичьих и патриарших панагий или же становились родовыми святынями государей. В Москву не только приезжали, но и переезжали носители византийской традиции. Влияние греческих интеллектуалов, служивших в России, греческих художников и, наконец, самих произведений греческого искусства на русскую культуру позднего Средневековья можно проследить в произведениях мелкой пластики, созданных в XV–XVI вв. при царском дворе. В описях казны московских государях и других документах XVI–XVII вв. упоминается множество гемм, некоторые из которых по тем или иным признакам можно датировать XV–XVI вв. Чаще всего о них сказано как резных «на перевлефти» – так от слова «переливаться» называли полупрозрачные двух- или трехслойные халцедоны. Как правило, изображения резались в темном слое, а фон оставался светлым. Из этих гемм сохранились немногие, среди них четыре большие камеи (три в Музеях Московского Кремля, одна в ГРМ), выполненных из трехслойного сардоникса по заказу великих князей. Все они имеют особый статус, все являлись частями драгоценных наперсных мощевиков, содержавших высокочтимые святыни. Золотые оправы этих камей – произведения выдающихся западноевропейских ювелиров, работавших при московском дворе во второй половине XVI в. За исключением одной, эти оправы были утрачены. Сохранились лишь их фотографии, сделанные в конце XIX – начале XX в. Священные изображения на четырех камеях полнофигурные, низкорельефные. Большие, овальные или круглые, они по размеру намного превосходят известные нам византийские камеи на сардониксе. Возможно, в XVI в. появились новые месторождения этого редкого и ценного камня, который с древности находили в речных и морских россыпях. Подобные параллельно-слоистые камни в европейском искусстве XVI–XVII вв. ценились даже без изображений и оправлялись в золото. Геометрическое совершенство формы и полировки, умелое использование разноцветных слоев камня указывает на высокий профессионализм и более совершенную, чем в Византии, техническую оснащенность резчиков. Иконография этих камея – образы Богоматери Воплощение, Троицы, тезоименитых святых царя и наследника престол – соответствует идеям божественного покровительства державе и сакрализации государя. Самая большая из четырех и единственная сохранившая оправу – камея с образом Иоанна Предтечи Ангела Пустыни, ее размер 11,5 х 9,1 см. Состав священных изображений панагии, на которой закреплена камея, не оставляет сомнений, что она предназначалась для царя Ивана Грозного. Этому соответствует и состав ее святынь: наряду с реликвиями Страстей Господних в панагию вложены и «мощи царя Константина». Вторая камея с образом Иоанна Лествичника, небесного покровителя царевича Ивана Ивановича, – меньшего размера (9 х 6,9 см). То, что панагия с камеей была предназначена именно для него, а не для митрополита Макария, как считалось в описях Патриаршей ризницы XIX в., подтверждают образы святых, располагавшиеся на обороте ее утраченной оправы, на дверке мощевика, а также то, что панагия оставалась в царской казне до XVII в., когда была поднесена царем Михаилом Федоровичем своему отцу, патриарху Филарету Никитичу. Для главы Русской автокефальной церкви скорее могла быть предназначена третья панагия с образом Пресвятой Богородицы Воплощения на сардониксе. Эта камея меньше первой (10 х 7, 4), но панагия была украшена богаче: на оборотной стороны ее оправы, на крышке мощевика размещался резной образ Богоявления; по описям Патриаршей ризницы XVII в. у этой панагии была большая кольчатая витая золотая цепь. В отличие от пластически моделированных византийских камей, рельеф четырех сардониксовых камей низкий, тонко разработанный, с виртуозно выполненными деталями. Использован эффект просвечивания разных слоев камня, углубленные надписи на светлом фоне заполнены мастикой. В композиции подчеркнута красота идеальной плоскости самого камня – кажется, что совершенство полировки и тонкость резьбы связаны и с новыми техническими возможностями, а силуэтность рельефа – с новыми художественными категориями В 1970-х гг. М.М. Постникова-Лосева документально проследила историю эти трех камей (четвертая, с образом Троицы, оставалась ей неизвестной) и предположила, что их уникальные камни могли быть привезены в Москву из Италии, а рельефное изображение выполнено русским мастером по царскому заказу. В стиле камеи с Иоанном Предтечей она отметила явные византийские корни, воспринятые, по ее мнении, через Сербию, с деспотами которой Иван Грозный имел родственные связи. В современных камее живописных иконах Иоанна Предтечи, выполненных при московском дворе, исследователи также отмечали явное греческое влияние, вплоть до грецизированных надписей. Каждую из этих икон сближает с камеей не только характеристика образа, но и какая-либо иконографическая особенность. Своего рода промежуточное иконографическое звено между московскими иконами и камеей – греческая икона из коллекции лондонского Общества антикваров, датируемая исследователями временем около 1540 г. Существуют и греческие резные прототипы для камеи, например, поздневизантийская стеатитовая икона с образом Иоанна Крестителя, происходящая из ризницы царского домового Благовещенского храма. Этот выдающийся по своему совершенству образ мог быть выполнен для византийского императора; судя по монограмме на оправе, в XV в. он принадлежал деспоту Фоме Палеологу и, скорее всего, был привезен в Москву Софьей Палеолог. При всем различии стиля и высоты рельефа, с камеей сходны рисунок и приемы выполнения деталей. Кажется, что резчик камеи видел этот или подобный ему рельеф, но дополнил иконографию почти обязательной для XVI в. чертой: отсеченная голова на блюде выглядит наложенной на композицию. В последние годы стали известны несколько камей из зарубежных собраний, стилистически и технологически близкие кремлевским. Прежде всего, это греческая камея из музея Метрополитен в Нью-Йорке, опубликованная с датой «середина XI в.». Она в полтора раза меньше московских, размер ее 7,7 х 5,4 см. Углубленная надпись здесь также расцвечена мастикой (прием, не известный в собственно византийской глиптике, использовавшей чаще темные, чем светлые камни). Рельеф этой камеи мятый, не столь четкий, фон неровный. Судя по точно датированным аналогиям, эта камея поствизантийская, XV–XVI вв. Русские документальные и изобразительные источники подтверждают, что греческие камнерезы и в поствизантийскую эпоху сохраняли высокое мастерство. Примером может стать одна из панагий Патриаршей ризницы с образом Богоматери Воплощения, утраченная в 1918 году, но зафиксированная Ф.Г. Солнцевым и И Ф. Барщевским. Согласно Описи имущества патриарха Филарета Никитича, этот образ был «взят у Севастийскаго митрополита, обложен у государя». По стилю он близок к русским рельефным иконам XVI в. на кости и дереве, по технологии и происхождению – это, несомненно, произведение греческих мастеров XVI в. Именно греческие мастера могли работать при московском дворе и вырезать камеи на сардониксе с мастерством, предполагающим вековую традицию. Материал предоставлен И.А.Стерлиговой Иконопись 1.Богородичная мандорла: исследование редкого иконографического мотива в поствизантийском искусстве Галиции ΧVI века Иконографический мотив Богородичной мандорлы рассматривался исследователями как специфический. Исходя из того, что мандорла изначально использовалась в христианской иконографии для репрезентации моментов явления Божества, можно задаться вопросом: почему она окружает Богородицу, Богом не являющуюся? Предложенное А. Грабаром и широко принятое объяснение гласит, что мандорла, которая окружает фигуру Богородицы, принадлежит собственно не Богородице, а ее Сыну, которого Она держит на своих руках. Однако это объяснение не удовлетворительно для единоличных изображений Богородицы. Сложность семантики этого мотива в сочетании с вариативностью его форм составляет особую иконографическую проблему. Ее решение возможно путем изучения всего сохранившегося материала. Для достижения этой цели в нашем этюде анализируется группа памятников, относящихся к одной из региональных традиций поствизантийского искусства – галицкой (западноукраинской). Эта традиция сформировалась в той части территории бывшего «Regnum Rusiae» (Галицко-Волынского княжества), которая в результате войн XIV в. подпала под власть Польши. Памятники, изображающие Богородицу в мандорле, здесь сохранились только с ΧVI столетия. Они сравнительно малочисленны. Это девять икон и одна стенопись, представляющие пять иконографических сюжетов: Собор Богородицы, Успение Богородицы, Похвала Богородице, Богоматерь Влахернитисса и 23-я строфа Акафиста. Нас интересует типология этих памятников, а также выяснение происхождения и значения мотива Богородичной мандорлы в каждом отдельном случае. Материал предоставлен Н.Козаком. 2. Стилистическая концепция живописи середины XV века и ее интерпретация в разных художественных центрах поствизантийского мира Год падения Константинополя не без основания принято считать рубежом, разделившим собственно византийский и поствизантийский период не только в политической истории, но и в истории искусства. Утвердилось мнение, что именно в середине XV в. произошел вызванный трагическими событиями разрыв с предшествующей традицией, и его прямым следствием стал переход искусства в другое качество. Для русского искусства того же времени это также означало «выход за пределы собственно византийского культурного круга в связи с наступлением поствизантийского периода» (Э.С. Смирнова). В настоящее время, когда значительно расширился круг изученных памятников XV в., оба утверждения, которые еще недавно представлялись столь безусловными и окончательными, требуют нового обсуждения и уточнения. Ведь очевидно, что процессы, проходящие внутри культуры и отражающиеся в искусстве, имеют внутренние закономерности и не всегда напрямую связаны с известными нам историческими событиями. 1. Есть серьезные основания утверждать, что выход за границы позднепалеологовского стиля – последнего большого стиля живописи – осуществился еще до падения Империи, на исходе первой четверти века. Именно этим временем датируются как собственно византийские памятники (роспись Пантанассы в Мистре), так и сербские (роспись Каленича) и русские (иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры). Сравнение росписи Пантанассы позволило с одновременными такому крупному памятниками ученому как Д. итальянской Мурики живописи говорить о трансформации собственно византийского искусства под влиянием западного искусства. 2. Однако наличие довольно большого числа не только греческих, но и хорошо датируемых русских памятников первых трех десятилетий XV в. позволяет утверждать, что источник новых качеств стиля первой четверти, «стиля Пантанассы», лежал еще целиком внутри самого византийского искусства, западные же образцы служили лишь одной из составляющих нового стиля, скорее, подсобным материалом. Его могли использовать минимально или совсем не использовать, что мы и наблюдаем, например, в русских памятниках. 3. Можно утверждать, что полноценное стилистическое развитие продолжалось в течение всего XV в. Оно было не менее интенсивным, чем во все предшествующие периоды византийского искусства и, самое главное, шло практически синхронно с сохранением тех общих понятий и критериев, которые по-прежнему объединяли все разрозненные части бывшего византийского мира (что продолжалось вплоть до Нового времени). 4. Вместе с тем, во второй четверти – середине XV в. действительно произошла смена эпох. Возникшую в это время «стилистическую ситуацию» можно было бы сравнить с переходом от интернациональной готики к пластическому стилю кватроченто. Но наступивший новый период отличает столь большое многообразие форм, что трудно представить и признать существование объединяющего их стилистического начала. Наиболее отчетливо выделяются памятники, строго ориентированные на столичную константинопольскую традицию, подобно работам критского художника Ангелоса, иконе неизвестного художника «Рождество Христово» из бывшего собрания Вольпи, некоторым московским («Иоанн Предтеча» из Песношского монастыря, ЦМиАР) и тверским иконам («Спас Вседержитель» из Весьегонска, ЦМиАР). Несмотря на пунктуальное соблюдение иконографии (даже прорисей), сложившихся в позднепалеологовское время, соблюдение традиционного колорита и, казалось бы, всех приемов многослойного письма, даже внешне эти памятники имеют общую, неизвестную более ранней живописи черту: иконописцы, по выражению В.М. Сорокатого, строят «изначально облегченную в ритмическом отношении композицию», прибегая «скорее к пластическим, чем [линейно] ритмическим построениям». Это означает, что фоны теряют объединяющего прежнее значение изображения и иррационального реальное пространства, пространство зрителя, и превращаются в нейтральную поверхность, по отношению к которой каждый изобразительный мотив мыслится «приставленным» либо отделенным от нее. Благодаря этому произошли радикальные изменения во взаимоотношениях иконного образа и пространства человека, предстоящего изображению. Между зрителем и иконным образом возникает граница. Иконный образ уже не выступает посредником в установлении мистической связи человека с трансцендентным миром. Иконные образы начинают отделяться от мира зрителя, точно так же, как закрытой для проникновения становится окружающая фигуры среда. Изображения святых и священных событий в иконах достигают убедительности и почти материально переданной наглядности, часто украшенности. Отсюда тот оттенок отстраненности, отчужденности, который нередко отмечают при анализе памятников развитого XV в. Выявление этого нового качества не позволяет видеть в этих традиционных памятниках лишь следствие «академизации» и «консервации» традиций прошедшей эпохи. Важно заметить, что данное направление было лишь одним из вариантов ответа искусства середины XV в. на вызовы времени, ответа, который могла дать высокая культура, осознающая себя исключительной и при этом ответственной за сохранение собственной уникальной традиции. Достойный ответ, который с одной стороны позволил на долгое время сохранить внешне почти неизменными ремесленные навыки, а с другой – время от времени быть основой возрождения большого стиля в искусстве (Дионисий, Феофан Критянин). Показательно, что все памятники, относящиеся к этому слою художественного наследия середины XV в., были созданы не только в митрополичьей Москве, но и в культурных центрах, имеющих непрерывный опыт развития (таков, например, ряд произведений, созданных во Пскове), либо в центрах, в силу обстоятельств претендующих на особое предназначение (подобно Твери этого времени). Гораздо шире и разнообразнее круг не «столичных» памятников второй четверти – середины XV в., в которых интенсивность развития, стремление к обновлению византийского искусства сказываются явственнее, чем в произведениях центральных мастерских. Эти памятники не образуют единообразного стилистического потока. Создается впечатление, что толчком для их возникновения могло служить реальное знакомство с разными европейскими произведениями, относящимися к разным стадиям развития, разным школам. Впитывая их содержание, художники открывали для себя новые возможности трансляции общей для времени художественной идеи, но при этом едва ли не каждый памятник сохранял качество свободного неповторимого эксперимента. Здесь превалирование пластического начала имеет разное выражение – от появления в живописи льющейся лепной формы (икона «Архангел Гавриил» из Ватопеда, Кашинский чин, четырехчастная икона «Воскрешение Лазаря, Троица, Сретение, Иоанн Богослов с Прохором», ГРМ), часто сопровождаемое невероятно вытянутыми пропорциями фигур (икона «Илья, Георгий, Дмитрий» из собрания Корина; миниатюры Рогожского Евангелия и др.), до представления действия в ящикообразном готическом пространстве («Рождество Богоматери» из Покровского монастыря, ГРМ; икона «Чудо от иконы Знамение», ГТГ; «Никола в житии из Теребужского погоста, ГРМ. Рассмотрение больших ансамблей, возникших в местных художественных центрах – в Новгороде (Деисус из собрания И.С. Остроухова, ГТГ; Софийский Деисус 1438 г), в Твери (Деисус из Ободова, ЦМиАР; Деисус из собрания А.И. Анисимова, ГТГ, середина XV в.) и во Пскове (Деисусный чин из церкви Успения на Пароменье, около 1445 г., Псковский музей) – наиболее полно показывает, какова была амплитуда колебаний стиля середины XV в. в разных художественных центрах Руси. Здесь возникали и новые прочтения традиционных образов, и образы, напоминающие резные и раскрашенные готические скульптуры, и даже образы, передающие впечатления от ренессансной живописи. Этот период максимальной художественной свободы в русской живописи XV в. был кратким. Он закончился уже к 1460-м гг., но его существование, несомненно, не прошло бесследно для дальнейшей жизни искусства. Материал предоставлен Е.Я. Осташенко 3. Складни-иконостасы в русском искусстве позднего Средневековья и Нового времени: к вопросу о генезисе, иконографических особенностях и назначении памятников В коллекциях столичных и провинциальных музеев можно нередко встретить живописные и резные складни-иконостасы, изготовленные в разное время и в разных мастерских, часто неравнозначные по своим художественным достоинствам. Наиболее традиционными среди них принято считать складни, выполненные на отдельных, скрепленных между собой при помощи шарниров досках, в классической темперной технике. Эта традиция, представленная одним из самых известных на настоящий момент памятников — складнем-иконостасом первой трети XVII в. из собрания Сергиево-Посадского музея, относимым к работам строгановских мастерских, дожила до начала XX в. благодаря усилиям старообрядческих иконописцев. Однако наряду с живописными складнями в эпоху позднего Средневековья достаточно широкое распространение получили и складни, исполненные в технике резьбы по дереву и кости. Подобные произведения прослеживаются и по инвентарям музейных собраний, и по письменным источникам — монастырским описям и каталогам частных коллекций XIX — начала XX в. В исследовательской литературе рассматриваемые произведения нередко именуют походными иконостасами. Основаниями для подобного заключения служат, с одной стороны, сравнительно небольшая высота створ, с другой, — возможность складывать их в виде стопки, удобной для перемещения. Однако, как кажется, подобная функция никогда не была свойственна складням-иконостасам, о чем свидетельствует уже первый приведенный пример — складень из Сергиево-Посадского музея, вложенный в Троице-Сергиев монастырь в 1638 г. по думном дьяке Иване Тарасьевиче Грамотине. Вклад на помин души предполагал закрепление складня за монастырем и гарантировал молитвенное поминовение усопшего, что исключало возможность его перемещения за пределы обители (запреты и даже угрозы кары за вынос вкладов из монастырей нередко встречаются в текстах надписей на вкладных иконах). О том, что складни-иконостасы являлись стационарными, указывает и поздняя практика их использования в старообрядческих моленных. Один или несколько складней устанавливались на пристенных полках, причем их створки сверху и снизу прочно скреплялись горизонтальными планками. Наконец, отметим вариативность размеров створ иконостасов, которые могли достигать в высоту 70 см, что существенно затрудняло их свободное перемещение. Ведущая идея, заложенная в системе образов древнерусского высокого иконостаса, воплощалась и в замысле его миниатюрного аналога. Тема домостроительства человеческого спасения, последовательно развиваемая, начиная с верхнего (пророческого) яруса, получала логическое завершение в его нижнем — деисусном ряду. Подобный миниатюрный иконостас, находясь в домашних хоромах здравствующего заказчика или вложенный в церковь на помин его души, являл зримый образ моления всех чинов святости за живого или усопшего. Не случайно деисусный ряд в процессе последующей эволюции ранней формы миниатюрного иконостаса всегда оставался его обязательной принадлежностью. Эволюция состава иконостаса в старообрядческом иконописании может быть прослежена на примере нескольких групп памятников. К первоначальному трехярусному ядру старообрядцы добавили сначала праотеческий ярус, затем Царские врата и, наконец, дополнительный ряд святых-молебщиков, чей состав формировался на основе «Сказания, киим святым каковые исцеления от Бога даны и когда память их». Сравнение групп поздних иконостасов с деревянными резными складнями- иконостасами XVI в. позволяет заключить, что они сыграли в этом процессе не меньшую роль, чем традиционные живописные складни-иконостасы. Материал предоставлен Н.В. Пивоваровой. 4. Иконопись Галичины XV века и искусство «великорусских художественных центров: о природе совпадений При оценке той или иной локальной художественной традиции принято обращать внимание прежде всего на качества, отличающие ее от типологически родственных явлений. Однако иногда не менее интересно понять, не обладают ли эти явления, помимо бесспорных отличий, общими чертами, и если да – выяснить, что стало тому причиной. Сходство двух традиций может объясняться совпадением условий их развития и более или менее систематическими контактами между разными ветвями одной широкой культурной общности (в нашем случае – православного мира). Но кроме этих двух факторов может действовать и третий: внутри этой общности на определенном этапе формируются «семейства» художественных центров, каждый из которых, обладая собственным лицом и широкими связями, какое-то время продолжает интенсивно контактировать с ближайшими соседями, воспринимаемыми скорее как родственники. Эти контакты не исчерпываются традиционными понятиями «влияние» и «воздействие», не обязательно являются односторонним и, разумеется, имеют свой исторический предел. Эта проблема может быть рассмотрена на примере иконописи Галицкой Руси. Начиная с XV столетия искусство этого региона представлено значительным количеством памятников, позволяющих говорить о существовании яркой художественной традиции, которая отличается от искусства любого «великорусского» региона и обладает заметным (и исторически легко объяснимым) сходством с поздне- и поствизантийским искусством Балкан и дунайских княжеств. С другой стороны, местная иконопись имеет много общего с искусством ведущих художественных центров Северо-Востока и Северо-Запада Руси, географически значительно удаленных от Западной Украины. Эти общие черты обнаруживаются прежде всего в сфере иконографии и типологии произведений, а также в сфере орнамента, но иногда ощутимы и в стилистике живописи. Они очень весомы как в количественном, так и в качественном отношении, и поэтому их вряд ли можно считать плодами разовых контактов. Наш доклад представляет собой попытку системного рассмотрения наиболее ярких случаев такого рода. Мы склонны видеть в них признаки существования единого культурного пространства, которое включало не только Галичину, но и почти полностью утратившие свое художественное наследие центры Южной и Западной Руси (Холм, Брест, Луцк, Пинск, Туров, Киев, Брянск, Чернигов, Смоленск, Полоцк, Новогрудок, Вильно и т.д.). Эта территория непосредственно соседствовала с Новгородом, Псковом, Москвой и Тверью и лишь в середине XV столетия окончательно перестала входить вместе с ними в единую церковную организацию. Изменения, затронувшие галицкое иконописание в XVI столетии, говорят о том, что к этому времени связи, действовавшие в XV в., уже оказались нарушенными, хотя некоторые «общерусские» иконографические типы и мотивы еще продолжали использоваться. Материал предоставлен А.С.Преображенским. 5.The Narrative Approach in the Iconography of Byzantine Tradition: The Case of a 16th century Wallachian Icon The Nativity of the Virgin – a royal icon in the 18th century iconostasis of the church in the Ostrov hermitage (Vâlcea county) is almost unknown to the specialists, despite its old age. It is, probably, a 16th century icon just like the Pantokrator – an other royal icon in the same iconostasis. The presentation analyzes a few iconographic details, which define this icon in relation to the common Byzantine tradition and reveal its narrative approach. Both the iconographic details and the stylistic analysis attempt to identify the author's artistic affiliation and his sources of inspiration. Материал предоставлен М.Сабадос. 5. Две новооткрытые иконы Богоматери Дексиократусы XV века – византийский образец и русская интерпретация Иконография Богоматери Дексиократусы была достаточно распространена в византийском искусстве в иконописи и в храмовых росписях. Известны как поясные, так и ростовые изображения: мозаик храма Осиос Лукас в Фокиде, 1030-е гг., кипрская икона Богоматери последней четверти XII в. из церкви в Ланее, икона из монастыря Хиландар третьей четверти XIII в., мозаичная икона XIII в. из монастыря св. Екатерины на Синае, мозаика кафоликона монастыря Хора, около 1316–1321 гг., и др. Все сохранившиеся изображения делятся на несколько групп, отличающихся прежде всего положением фигуры Младенца – либо слегка полулежащего, либо прямо сидящего на руке Богоматери. Его ножки чаще всего изображаются скрещенными, так что видна левая ступня, или слегка вытянутыми вместе. Следует отметить, что в византийской культуре среди многообразия вариантов Дексиократусы только за одним чтимым образом и его списками закрепился постоянный эпитет – это «Богоматерь Троеручица», представленная в русском искусстве поздними иконами. В современных исследованиях такие изображения именуются «Богоматерью Одигитрией» (что не дает полного представления о типе иконографии) или, реже, «Дексиократусой». В отечественной науке иконографии Дексиократусы посвящен ряд статей, касающихся иконы Богоматери из иконостаса Св. Софии Новгородской, известной по списку XVI в., на который был перенесен древний оклад, и иконе «Богоматерь Иерусалимская (Гефсиманская)» из Успенского собора Московского Кремля. Следует отметить, что в богатой русской иконографической традиции тип Богоматери, держащей Младенца на правой руке не получил особого наименования (название «Иерусалимская» – позднее). Возможно, причина в малочисленности сохранившихся древних произведений. Тем не менее, именно иконам Богоматери типа Дексиократусы принадлежит видная роль в истории русской культуры. Один из привезенных в Киевскую Русь византийский образов – «Богоматерь Холмская» – древнейший сохранившийся пример этой же ветви иконографии. По мнению некоторых исследователей, именно к Холмской иконе относится известие Галицко-Волынской летописи под 1259 г., сообщающее о принесении в Холм древней чтимой иконы из Киева. Также следует упомянуть исчезнувшую чудотворную Гребневскую икону. Предание говорит о ней, как о древнем прославленном образе. Традиционно считалось, что распространение иконографии Богоматери Дексиократусы в русском искусстве пришлось на рубеж XV–XVI вв. – эти иконы узнаваемы по характерным цветным отворотам мафория Богоматери (именно такие иконы исследователи чаще всего именуют Грузинскими или Иерусалимскими). Между тем новые открытия реставраторов свидетельствуют о том, что древние образы Дексиократусы в русском искусстве выглядели иначе и были более близки византийской традиции. В двух московских частных собраниях хранятся разные по стилю и манере исполнения иконы одинаковой иконографии, имеющие большие размеры и предназначавшиеся для храмов. Первый образ, вероятно, создан в Новгороде в начале XV столетия в византинизирующей манере, хотя сейчас сложно указать его прямые стилистические аналогии. Другая икона выполнена в среднерусской традиции, скорее всего, в Москве, в середине – второй половине XV в. На обеих иконах Младенец изображен вертикально сидящим на правой руке Богоматери, его ножки скрещены так, что видна левая пяточка. Хитон Младенца приоткрывает рубашку, которая имеет широкое опоясание и клав, а под мафорием Богоматери виден ворот синего платья. Схожесть художественных иконографии центрах, двух икон, свидетельствует написанных о довольно в разных точном воспроизведении чтимого прототипа. Им мог быть древний образ Св. Софии Новгородской. Дошедший до нас список XVI в. отличается от двух икон из частных собраний лишь наличием цветных отворотов мафория, вероятно привнесенных в иконографию Дексиократусы уже в XVI в. Икона Богоматери Холмской несколько отличается от них положением Младенца и рисунком его одежд. В настоящий момент сложно выстроить цепочку взаимосвязи всех имеющихся икон Дексиократусы, которым уже с домонгольского времени отводилась важная роль в русской культуре. Но две новооткрытые иконы из частных собраний – важные звенья для реконструкции эволюции иконографии Богоматери Дексиократусы в русской традиции. Материал предоставлен Е.М. Саенковой. 7.Парные образы святых мучеников в русском искусстве XIII–XIV веков: сходство и вариативность (на примере изображений святых князей Бориса и Глеба) Один из путей (ещё слабо освоенных) изучения искусства византийского круга – классификация его произведений не только по времени и месту создания, иконографическим или стилистическим признакам, но и по внутреннему наполнению образов, которое зависит от той или иной категории святости изображённого, от характера сюжета. Эти особенности отличают, например, вдохновенных пророков от героических воинов-мучеников, скорбных апостолов в «Успении Богородицы» от присутствующих там же задумчивых святителей, а евангельские сцены – от житийных клейм. Данный аспект византийских образов с наибольшей яркостью охарактеризован в монографии Г. Мегвайра 1996 г., но отражается и в работах ряда других исследователей. С точки зрения типологии большой интерес представляют некоторые парные изображения святых мучеников, и в частности – образы святых русских князей-мучеников Бориса и Глеба, убитых в 1015 г., их сходство и вариативность. Их почитание установилось в XI в., они воспринимались как покровители княжеской династии и как защитники Руси, целители, помощники и заступники русских воинов в сражениях. Парные изображения других святых мучеников – либо братьев или сподвижников (как свв. Флор и Лавр, Козьма и Дамиан, Сергий и Вакх), либо святых, объединённых сходством почитания (святые воины Георгий и Димитрий, Феодор Тирон и Феодор Стратилат), были широко распространены в искусстве византийского мира. В русской живописи XIII в. фигуры святых князей, если не иметь в виду специфику костюма, родственны изображениям других святых мучеников-воинов: и в тех, и в других случаях подчёркивается энергия, решительность, готовность к жертвенному подвигу. Ср. новгородские произведения 1260–1270-х гг.: икону «Свв. Борис и Глеб» из СаввоВишерского монастыря (Киевский музей русского искусства), где разница в возрасте святых братьев не нарушает единого впечатления, изображение св. Георгия в иконе «Иоанн Лествичник, Георгий и Власий», парные фигуры святых воинов-мучеников на полях «Спаса на престоле» из собрания А.И. Анисимова (ГТГ), «Св. Николы» 1294 г. из Липенского монастыря (Новгородский музей). В контексте культуры XIII в. свв. Борис и Глеб выступают как «земли Русской забрала и утверждение», «обоюдоострый меч» (Сказание о Борисе и Глебе). Их изображения принадлежат типологии парных, сходных, зеркально повторяющихся образов, сила их воздействия увеличивается простым дублированием мотива. В XIV в. в парных изображениях Бориса и Глеба наряду с прежней интонацией возникает и совсем иная трактовка: не контрастное противопоставление, но нюансы различий, ступени пути. В иконе с конными фигурами из Успенского собора Московского Кремля (ГТГ) выявляется внутренний диалог мучеников; их скорбные лики заставляют вспомнить о стремлении святых братьев к подражанию крестной жертве Спасителя, о чём говорится в посвящённых им древних текстах. Та же тема в завуалированной форме звучит во фреске церкви Спаса на Ковалёве 1380, где крест в протянутой руке Глеба оказывается в самом центре парной композиции. В образах житийной иконы из Коломны (ГТГ) со стоящими фигурами прочитывается интонация райского блаженства, преодоления страданий. Мотив воинской силы и доблести заменяется мотивом духовного очищения, а в иконе из Успенского собора большую роль играет тема сердечной близости братьев. Решения, найденные русскими мастерами в иконографии Бориса и Глеба, при всём своеобразии, перекликаются с трактовкой других сюжетов, так или иначе связанных с тематикой основ христианской веры. Ср. «Беседу преподобного Варлаама и царевича Иоасафа» (фреска около 1400 г. в Успенской церкви в Звенигороде), изображения трёх святых мучениц Параскевы, Варвары и Ульяны в псковской иконе ГТГ. Эти композиции, содержащие две или три фигуры, из «портретных» превращаются в сюжетные, в них появляется действие. Внушительность таких образов зависит не от сходства персонажей, а как раз от их вариативности, от демонстрации путей и ступеней духовного восхождения. Насколько можно судить по доступным памятникам, среди парных изображений других мучеников в искусстве византийского мира, включая святых братьев (и разновозрастных, и близнецов), не встречается столь впечатляющих композиций с вариациями молчаливых духовных диалогов, какие появились в русской иконографии Бориса и Глеба в развитом XIV – начале XV в. Их необычность определяется особым вниманием русской культуры этого времени к теме духовного совершенствования. Материал предоставлен Э.С.Смирновой 8.О происхождении ланского образа Спаса Нерукотворного Со времени выхода в свет статьи А.Н. Грабара (1930) известная икона Спаса Нерукотворного со славянской надписью из собора французского города Лан считается сербским памятником первой трети XIII в. (Спас Нерукотворный в русской иконе. М., 2005. С. 46–48), однако в реальности дело обстоит, вероятно, не столь однозначно. Надпись на иконе может быть как сербской (при этом с наименьшей степенью вероятности), так и болгарской и русской. Употребление в конце слова «образ» Ъ, а не Ь, нетипично для сербской орфографии XII–XIV вв., использующей в подавляющем большинстве случаев только второй из знаков редуцированных (хотя для раннего XIII в. случаи использования Ъ в сербской письменности известны, например, в надписях на фресках Студеницы). Начертания букв также не позволяют прийти к определенному выводу. В графике памятников как болгарской, так и сербской письменности позднего XII – XIII в. присутствуют и сосуществуют две тенденции – архаическая (следование графическим традициям южнославянских почерков предшествующего периода) и новаторская, сложившаяся под влиянием современных ей древнерусских почерков (Мошин В.А. О периодизации русско-южнославянских литературных связей X–XV вв. // ТОДРЛ. Т. 19. Л., 1963. С. 74–77). Надпись на иконе выполнена во второй манере («омега» с низкой серединой, А с петлей, лежащей на строке, «ять» с высоко расположенной перекладиной) и в этом смысле не имеет сколь либо заметных национально-региональных особенностей. В подобной ситуации большое значение приобретает наблюдение Э.С. Смирновой о нетипичности для южнославянских памятников формулы надписи на ланской иконе («Образъ Господень на убрусе»). Русскоюжнославянские художественные связи эпохи «первого восточнославянского влияния» (последняя четверть XII – первая треть XIII в.) имеют довольно ограниченный диапазон (сербские изображения русских святых (прежде всего Бориса и Глеба), распространение «технической» тератологии в орнаментике болгарских и сербских рукописей) и это обстоятельство делает в данном случае маловероятной версию копирования сербским мастером древнерусского оригинала вместе с надписью. Нельзя исключать поэтому, что икона из Лана может быть произведением древнерусского искусства раннего XIII в. Материал предоставлен А.А. Туриловым. 9. Образ конного архангела Михаила в столичном и провинциальном искусстве восточнохристианского мира Образ конного архангела Михаила встречается в восточнохристианском искусстве по крайней мере начиная с XIV в. По некоторым признакам можно считать, что произведения с архангелом на коне были известны столичному искусству Византии в палеологовскую эпоху. К 1315 г. относится изображение конного Михаила в составе композиции «Древо Иессеево» из росписей церкви Свв. Апостолов в Фессалониках, которые исследователи связывают с константинопольской школой живописи. Другие столичные произведения, содержащие этот мотив, до наших дней не сохранились. При этом изображения конного архангела Михаила (как в композициях «Древо Иессеево», так и в некоторых других сюжетах) в палеологовскую эпоху существовали и в регионах византийского мира. Так, в росписях храмов острова Крит можно встретить конного архангела в композиции «Явление архангела Михаила Иисусу Навину»; известно уникальное в своем роде изображение архангела Михаила в виде всадника в Лесновском монастыре (Македония) и другие примеры. В поствизантийскую эпоху образ конного архангела Михаила получил новую жизнь в искусстве Московской Руси середины XVI в. Целый ряд программных произведений времени Ивана Грозного содержит изображение архангела Михаила на коне, причем здесь (в отличие от византийских примеров) конь обретает крылья. В первую очередь, это «Великий стяг» Ивана Грозного и иконы «Благословенно воинство». По-видимому, в тот же период в столичном искусстве разрабатывается новая иконография «Архангел Михаил грозных сил воевода», в которой по-новому преломляется образ верховного архистратига. И если иконы «Благословенно воинство» так и остаются одинокими произведениями придворного искусства (они не получили продолжения в иконописи более позднего времени), то образ архангела-воеводы уже в XVII в. стал достоянием самых широких слоев общества. Примеры этой иконографии происходят из самых разных, в том числе окраинных территорий Руси. В работе прослеживается, как меняются форма и содержание этого непростого образа при его переходе из одной культурной среды в другую (в частности, из столичной в провинциальную и народную культуру). Материал предоставлен П.А. Тычинской