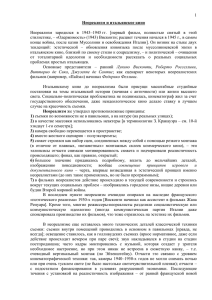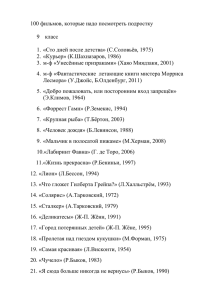Николаева Мария, 443 группа. Рецензия на фильм «Смерть в
реклама
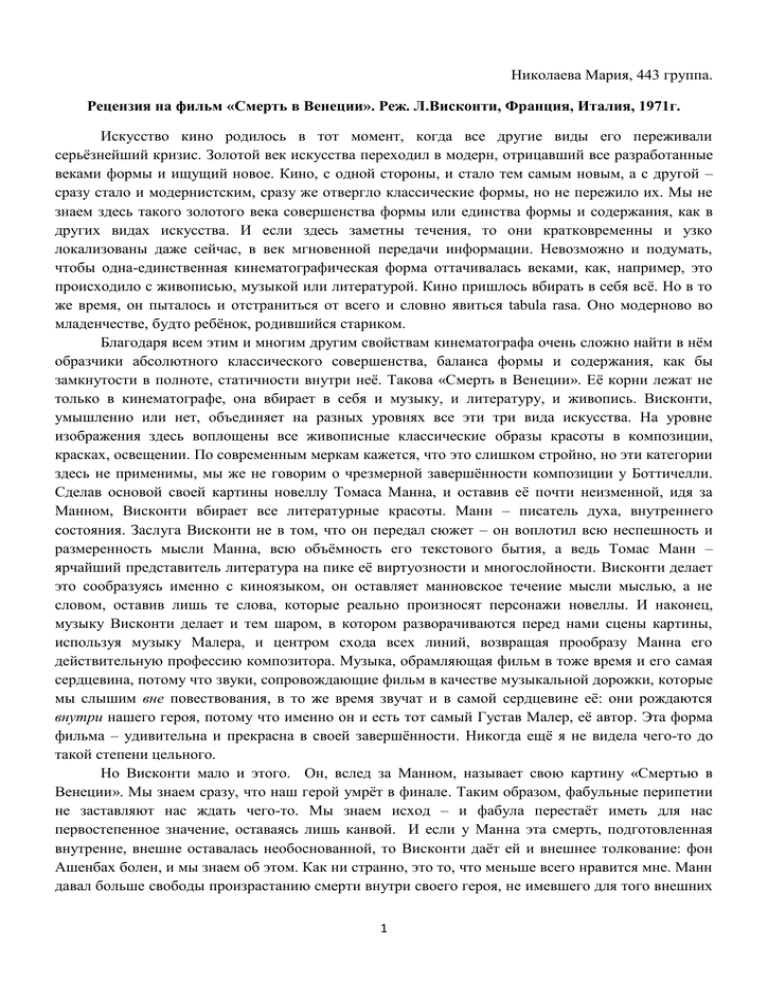
Николаева Мария, 443 группа. Рецензия на фильм «Смерть в Венеции». Реж. Л.Висконти, Франция, Италия, 1971г. Искусство кино родилось в тот момент, когда все другие виды его переживали серьёзнейший кризис. Золотой век искусства переходил в модерн, отрицавший все разработанные веками формы и ищущий новое. Кино, с одной стороны, и стало тем самым новым, а с другой – сразу стало и модернистским, сразу же отвергло классические формы, но не пережило их. Мы не знаем здесь такого золотого века совершенства формы или единства формы и содержания, как в других видах искусства. И если здесь заметны течения, то они кратковременны и узко локализованы даже сейчас, в век мгновенной передачи информации. Невозможно и подумать, чтобы одна-единственная кинематографическая форма оттачивалась веками, как, например, это происходило с живописью, музыкой или литературой. Кино пришлось вбирать в себя всё. Но в то же время, он пыталось и отстраниться от всего и словно явиться tabula rasa. Оно модерново во младенчестве, будто ребёнок, родившийся стариком. Благодаря всем этим и многим другим свойствам кинематографа очень сложно найти в нём образчики абсолютного классического совершенства, баланса формы и содержания, как бы замкнутости в полноте, статичности внутри неё. Такова «Смерть в Венеции». Её корни лежат не только в кинематографе, она вбирает в себя и музыку, и литературу, и живопись. Висконти, умышленно или нет, объединяет на разных уровнях все эти три вида искусства. На уровне изображения здесь воплощены все живописные классические образы красоты в композиции, красках, освещении. По современным меркам кажется, что это слишком стройно, но эти категории здесь не применимы, мы же не говорим о чрезмерной завершённости композиции у Боттичелли. Сделав основой своей картины новеллу Томаса Манна, и оставив её почти неизменной, идя за Манном, Висконти вбирает все литературные красоты. Манн – писатель духа, внутреннего состояния. Заслуга Висконти не в том, что он передал сюжет – он воплотил всю неспешность и размеренность мысли Манна, всю объёмность его текстового бытия, а ведь Томас Манн – ярчайший представитель литература на пике её виртуозности и многослойности. Висконти делает это сообразуясь именно с киноязыком, он оставляет манновское течение мысли мыслью, а не словом, оставив лишь те слова, которые реально произносят персонажи новеллы. И наконец, музыку Висконти делает и тем шаром, в котором разворачиваются перед нами сцены картины, используя музыку Малера, и центром схода всех линий, возвращая прообразу Манна его действительную профессию композитора. Музыка, обрамляющая фильм в тоже время и его самая сердцевина, потому что звуки, сопровождающие фильм в качестве музыкальной дорожки, которые мы слышим вне повествования, в то же время звучат и в самой сердцевине её: они рождаются внутри нашего героя, потому что именно он и есть тот самый Густав Малер, её автор. Эта форма фильма – удивительна и прекрасна в своей завершённости. Никогда ещё я не видела чего-то до такой степени цельного. Но Висконти мало и этого. Он, вслед за Манном, называет свою картину «Смертью в Венеции». Мы знаем сразу, что наш герой умрёт в финале. Таким образом, фабульные перипетии не заставляют нас ждать чего-то. Мы знаем исход – и фабула перестаёт иметь для нас первостепенное значение, оставаясь лишь канвой. И если у Манна эта смерть, подготовленная внутренне, внешне оставалась необоснованной, то Висконти даёт ей и внешнее толкование: фон Ашенбах болен, и мы знаем об этом. Как ни странно, это то, что меньше всего нравится мне. Манн давал больше свободы произрастанию смерти внутри своего героя, не имевшего для того внешних 1 причин. Висконти будто делает эту смерть менее сакральной, одевая её во всем понятные формы. Но раз он делает это, то это нужно было его картине: в это я верю безраздельно. Самое начало фильма ритмически организовано так, что зритель погружается и в это плаванье, и в этого человека. Картина захватывает в первые же секунды и не отпустит до финала. Этот метод погружения в персонаж не даёт нам возможности оторваться, это мы стареем и умираем вместе с героем. Смерть, разлитую повсюду у Манна, Висконти приглушает, убирая и явную символику (ладья-гроб, таинственный встречный у Манна, породивший у героя желание пуститься в последний путь) и общую картину разложения общества. Но в то же время его намёки и тонкие линии более кинематографичны. Старый накрашенный фат появляется в фильме лишь однажды, будто стараясь забыться к финалу и не быть сопоставленным ни с самим героем в конце картины, ни с комедиантом, ни с парикмахером. Обширная линия последнего пути у Висконти становится очень тонкой и очень явной, в кино он не может позволить себе пространных объяснений внутренних переживаний героя, он просто делает его больным. От лодки, перевозящей душу умершего, Висконти оставляет лишь явным мистического злого перевозчика, знающего, куда нужно его пассажиру, и неоплаченный проезд. Из мира духа – Германии – герой попадает в мир плоти – Италию. У Висконти здесь есть ещё одна подсказка, которой не давал Манн: герой уже мёртв духовно. Его музыка кончилась там, в Германии, как творец он погиб. Что остаётся такому человеку, призванному для искусства и живущему в нём? Либо возродиться, либо умереть. Фон Ашенбах встречает видение, которое, как ему кажется, станет его ангелом, поможет ему своей чистотой встать на ноги, но видение лишь увлекает его дальше в смерть, оказываясь зачарованным, дьявольским. Сам образ Тацио – бледный, мёртвый. Да, чистый, но чистый до оледенения. Эта красота – двулика. Она и возрождает желания, и убивает волю. Такую красоту либо удаётся побороть и преобразить в духе, либо не получается вынести и пережить. Эта злая красота родом из языческих времён (отсюда и лик «Мальчика, вытаскивающего занозу», и подобное тоге одеяние, и застывший взгляд скульптуры) восхищала и вдохновляла, покоряла и убивала. Слабый герой современного мира, заключённый в своём духе как в клетке – не выдерживает её полноты. Он не может остаться независимым, потому что его собственная плоть слаба. Для счастья наш герой тоже умер: когда-то он имел счастливую семью, вполне обыкновенно счастливую. Но идиллия была омрачена гибелью дочери. Этот факт Висконти берёт из реальной биографии Малера. И в этот момент происходит перелом, не дающий шанса на нормальную жизнь, всё теперь будет неестественно и переломано в его жизни, как любовь стареющего мужчины к ещё не сформировавшемуся юноше. Такая любовь заранее обречена Висконти на поражение. Герой обманывает себя, на мой взгляд, тем, что чувство его чисто и непорочно. И обманываются вместе с ним, судя по рецензиям на фильм, множество зрителей. Но и для Манна, и для Висконти, между тем склонных к такому типу любви, она заранее порочна и не может привести ни к чему, кроме всепожирающего смрадного огня, как холера захватывающего и душу, и тело. Именно поэтому художник только единожды, вдохновившись этой ложной чистотой своего чувства, берётся за перо. Чем дальше, тем глубже он будет погружаться в страсть, абсолютно отдавая себе в это отчёт. В конце концов, всё это происходит с ним как во сне – или как на сцене. Отчетливо вырисовываются в его воспалённом воображении лишь две фигуры: его собственная и фигура Тацио. Все остальные люди – лишь куклы, а город вокруг – подмостки. Всё работает будто по заранее задуманному сценарию: заманить, завлечь, обмануть мерцающим огнём, зачарованным полупрозрачным видением – и завести глубже в чащу. Даже эти отъезды и возвращения – как в страшной сказке или ночном кошмаре, где ты пытаешься убежать и 2 возвращаешься всё на то же постылое и притягательное место. У этого мира множество воплощений. Одно из самых ярких – рыжий беззубый комедиант, страшный и кажущийся смешным, само разложение и сам порок. И сирокко, дьявольский ветер, будто взят и сказки: «Обычно он дует три дня, но бывает и девять. А если не выдует себя к десятому дню, то продержится двадцать один день». Мир теней играет с композитором, уже умершим, но ещё не поверившим в свою смерть, опуская его на самое дно и только потом убивая. Он сам сотни раз на наших глазах умирает от отчаяния, и в этом умирании возрождается, всё больше становясь человеком, которому нечего терять, кроме его миража. Он сам и воплощает, и перечит тем высоким словам, которые возносили его к вершинам духа в средине фильма – и в его прошлом. То, что мы видим – теневая сторона отношений творца и творимого. Всё это, существовавшее лишь в немецкой теории художника, становится итальянским кошмаром во всех смыслах умирающего человека, холерой бытия Творца. Иногда что-то возвращает его к жизни, но это происходит лишь отрывочно. Необходим очень мощный всплеск чистоты и гармонии, чтобы вырвать фон Ашенбаха из этого мира иллюзий. Так происходит, когда он слышит «К Элизе». Он вспоминает себя чистого, того, что был раньше, но память выхватывает моменты, так же перемешавшие чистоту и грязь. Для искусства они нераздельны и только на тонкой грани между ними может возникнуть неземное произведение. Это мы слышим и в разговорах фон Ашенбаха с другом, теоретически предсказавших то смешение сил, которое герой почувствует, уже умерев как художник реальный. А будучи художником воплощённым он справлялся и без них. Но умерев как художник реальности, творец искусства как рода человеческой деятельности, благодаря этому столкновению он становится художником катастрофы и художником бытия. Он окончательно умирает в самом пике мучений между счастьем и страданием, и это станет верхом его эмоциональной и художественной жизни, хоть и не будет ни в чём воплощено. Он падает и воспаряет в едином моменте, и этот момент – смерть. Перед этим герой сам накладывает грим, столь противный ему в начале рассказа. Он принимает культуру карнавала. Он покоряется обольщению парикмахера. Разве это похоже на невинное платоническое чувство? Нет, это порок ведёт его на дно, и фон Ашенбах понимает это. Он видит всё, но не в силах больше противостоять, он давит дух и возвышает тело с решимостью человека, перешедшего последнюю черту. «Нет ничего грязнее страсти», и нет ничего сильнее. Душа будто бы освобождается в момент страшнейшего падения, и воспаряет. Ничто больше не держит душу, в данном случае воплощающую собой искусство. И она очищается от всего в наивысшей точке, к которой вёл проводник и мнимый ангел Тацио – в момент смерти. И в то же время нет ничего страшнее и пошлее этой безвольной смерти в щёгольском костюме и с текущей по лицу краской. Чистота – это дар, добро, а страсть – зло, но только в точке их пересечения – и высокой, и низкой, и благопристойной, и аморальной – в точке наивысшей полноты и абсолютного опустения, рождается искусство. 3