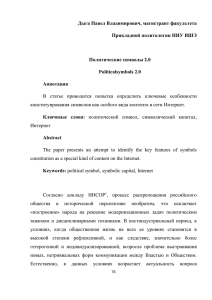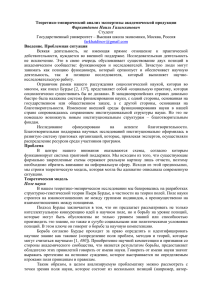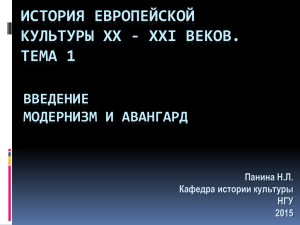Гронас Михаил. "ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД" И ВЗГЛЯД ПРАКТИКА: ПЬЕР БУРДЬЁ О КУЛЬТУРЕ
реклама

Гронас Михаил. "ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД" И ВЗГЛЯД ПРАКТИКА: ПЬЕР БУРДЬЁ О КУЛЬТУРЕ Публикация "культурологических" работ Бурдьё в литературоведческом журнале неизбежно деконтекстуализирует его метод. С точки зрения русской стратификации гуманитарного знания Бурдьё отнюдь не литературовед, культуролог или философ культуры, а социолог. Читая эти статьи, нужно помнить о том, что все, написанное Бурдьё начиная с середины 60-х годов, входит в его систематический проект описания общественных практик 1, в котором культурные практики вовсе не занимают привилегированного положения. Напротив, сама символическая привилегированность отдельных (религиозных и культурных) практик является одним из центральных объектов анализа. Адекватное понимание культурологической "части" корпуса Бурдьё предполагает знакомство с "целым" его социологии. Однако "целое" - один из наиболее амбициозных и "всеохватных" интеллектуальных проектов последних десятилетий, претендующий на радикальную ревизию методологических и эпистемологических основ социологии, - невозможно уложить в рамки небольшой вступительной статьи, не впадая при этом в том, что Бурдьё называет научной "доксой": распространение "коридорного" образа идей, подгонку под знакомые оппозиции и т. д. Итак, в нижеследующем очерке теория Бурдьё неизбежно "преломляется": во-первых, он превращается в "социолога культуры" или "культуролога" (то есть на первый план выносятся наиболее актуальные для читателя журнала аспекты: связи с литературными теориями и теоретиками, возможности эмпирического приложения к литературному анализу и т. д.) 2; во-вторых, его аналитический механизм и методология схематизируются, а понятия, намеренно оставленные автором "открытыми", то есть эвристически ориентированными, переносятся из объема эмпирического материала на плоскость краткого и неполного обзорного изложения. Следуя практике самого Бурдьё, я попытался графически отделить основное (то есть в данном случае синоптическое) от метаэлементов: отступления, иллюстрации, "взгляды со стороны" и "реплики в сторону" вынесены в "узкие" абзацы. ДРУГОЙ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТ В русском гуманитарном сознании последнего десятилетия сложилась устойчивая ассоциация: постструктурализм - субъективизм, игра, пара-научность или по крайней мере "другая" научность. Думается, что начавшееся в последние годы 3 ознакомление русского читателя с работами одного из наиболее влиятельных 4 мыслителей современной Франции - Пьера Бурдьё разрушит этот стереотип. Бурдьё может быть определен как постструктуралист с большим правом, чем большинство его сверстников, чье интеллектуальное и гражданское становление также пришлось на французские пятидесятые - шестидесятые. В отличие от деконструкции, пансемиологии Бодрияра, body studies, феминизма, и, во многом, RezeptionsКsthetik и критики читательской реакции, теория Бурдьё не просто хронологически после (и идеологически против) структурализма, но и в каком-то смысле над: структурализм у Бурдьё не отвергнут, а преодолен и органически усвоен. Пафос научности, эмпиризма, адекватного объяснения, столь близкий сердцу и российского гуманитария, воспитанного на тартуских трудах, у Бурдьё сохранен; от утопий же квази-фонологических и математических моделей не осталось и следа. Витавшие в воздухе структуры опущены на землю и укоренены в социуме. Бурдьё учился в Эколь Нормаль в годы, когда парижская интеллектуальная атмосфера была отмечена противостоянием Сартра и Леви-Стросса. Научная траектория раннего Бурдьё связана с его излюбленной операцией - одновременным отталкиванием от противоположностей, в данном случае от теории индивидуума вне отношений в экзистенциализме и от "чистой" теории отношений в структурализме. Бурдьё начинал, по его словам, как "блаженный структуралист"-антрополог, и ему принадлежит один из классических образцов "чисто" структуралистского анализа: описание жилища у берберовкабилов 5. Однако позже, занимаясь практическими, полевыми исследованиями в Алжире и в Беарне, Бурдьё разочаровывается как в структурной "модели реальности", навязывающей, по его словам, "реальность модели", так и в неотрефлексированной и привилегированной позиции исследователяструктуралиста по отношению к объекту описания. Отправной точкой для разработки собственной концепции и, одновременно, точкой разрыва с "блаженным структурализмом", послужило поразившее Бурдьё несоответствие между "предсказываемым" и реально наблюдаемым в характере брачных отношений у алжирских берберов. Суть этого казуса, который вполне заслуживает того, чтобы войти в историю гуманитарных наук как "парадокс Бурдьё", состояла в следующем. Согласно "внешним" структурным описаниям наиболее распространенной и, по возможности, необходимой формой брака в племени кабилов была женитьба на параллельной двоюродной сестре. Однако собранная Бурдьё статистика и последующий анализ показали, что эта форма брака в действительности встречается чрезвычайно редко. Когда же такой брак все-таки заключается, то это происходит не по логике подчинения внешнему правилу или обычаю, а по внутренней (и не обязательно осознанной) логике преследования определенных выгод: исполнение обычая приносит новобрачным и их семьям символическую прибыль, престиж, которые в этих случаях предпочитаются другим выгодам 6. Таким образом, реальность, с которой столкнулся исследователь, представляла собой не решетку запретов и правил, а совокупность практик. Оказалось, что участвующие в практиках агенты руководствуются не внешними правилами (как в структурных моделях) и не сознательным расчетом (как в теориях рационального действия), а практическими стратегиями, порождающий принцип которых и предстояло объяснить. Социальный мир, увиденный как совокупность практик, не мог быть объяснен ни детерминистскими, ни волюнтаристскими моделями. Бурдьё попытался создать такую систему описания, которая учитывает и объясняет реально наблюдаемый баланс свободы и предписанности, воспроизведения старого и появления нового. МИР КАК ПРАКТИКИ. ЛЮДИ КАК ПРАКТИКИ Центральным объясняющим принципом в системе Бурдьё является габитус - "система устойчивых воспроизводимых диспозиций , структурированных структур, предназначенных для функционирования в качестве структурирующих структур, - принципов, которые порождают и организуют практики и представления, <так что последние> могут быть объективно приспособлены для достижения своих целей, не предполагая при этом осознанной нацеленности или особого владения операциями, необходимыми для достижения этих целей, могут быть объективно "регламентированными" и "регулярными" ["rОglОes" et "rОguliПrеs"], не будучи продуктом подчинения правилам [rПgles], и поэтому могут быть объективно оркестрованными, не будучи продуктом организующего воздействия дирижера" 7. Некоторая часть семантики понятия "габитус" у Бурдьё покрывается русским словами склад или уклад, например в сочетаниях: склад личности, помещичий уклад, крестьянский уклад, семейный уклад. Габитус, как и уклад, постепенно складывается под влиянием постоянно воспроизводимых социальных условий, и сходные условия образуют сходные габитусы. Однако уклад пассивнее, чем габитус, так как габитус не только складывается, но и складывает, генерирует и классифицирует практики, снабжая своих носителей способностью реагировать на внешние изменения, применяться к новым условиям. В этом отношении габитус напоминает порождающую грамматику Хомского. Как глубинная грамматика отвечает за лингвистическую компетенцию носителей языка, так габитус обеспечивает социальную компетенцию агентов. Но в отличие от порождающих структур Хомского габитус является не врожденной системой, а системой, усваиваемой в процессе семейного воспитания, образования и т. д. Термин "габитус" Бурдьё позаимствовал у схоластов, которые переводили таким образом аристотелевский heksis. У Аристотеля, и впоследствии у Марселя Мосса, гексисом называется сумма телесных навыков: походка, жестикуляция, манеры, способы бегать, плавать и т. д. "Телесность" остается ядром понятия и у Бурдьё. Диспозиции габитуса инкорпорированы - таким образом они не "извне" (т. е. не навязываются структурой) и не "изнутри" (т. е. не избираются или "просчитываются"). Габитус - это воплощаемое в поведении, речи, походке, вкусах человека прошлое (его класса, среды, семьи). В то же время габитус формирует и будущее агента на основании "субъективной оценки объективных вероятностей", соразмерения желаемого и возможного - того, на что можно рассчитывать. Бурдьё часто сравнивает габитус с "чувством игры": футболист бросается за мячом, не принимая сознательного решения, но следуя тем не менее некоторой объективной логике игры. Он поступает так не от того, что знает, как нужно себя вести, а потому что это поведение наиболее естественно - оно реализует установку, приобретенную за годы игры. Так же и человек - социальный агент в системе Бурдьё - поступает спонтанно и относительно свободно, в пределах содержащихся в габитусе диспозиций - т. е. установок, предрасположенностей, практических схем восприятия и классификации (de vision et de division). Ограниченная свобода лежит в основе частичной адекватности теорий, близких к феноменологии и экзистенциализму; в свою очередь, ограниченность габитусом объясняет воспроизводимость и регулярность социальных структур - эмпирическую основу структурализма или марксизма. Таким образом, концепция габитуса, по мысли Бурдьё, освобождает от дуализма свободы и необходимости, действия и структуры, личности и общества, сознательного и бессознательного и разрешает противоречия между объективизмом (социальная физика: структурализм, марксизм), фетишизирующим структурные отношения и превращающим человека в безвольного и бессознательного носителя, и субъективизмом (социальная феноменология: экзистенциализм, герменевтика, теория рационального действия), автономизирующим личность и сознание и не способным объяснить социальные закономерности. Практики социальных агентов представляют собой результат адаптации габитуса к постоянно возникающим новым обстоятельствам. Практики происходят в пределах полей (champs) - более или менее автономных сфер деятельности, обладающих специфической внутренней логикой. Поля иерархически организованы, то есть существуют более общие, глобальные поля, охватывающие всю социальную реальность - таковы прежде всего поля экономической и политической власти, - и частные поля (а внутри них и субполя) - религии, образования, искусства, спорта, философии, науки и т. д. 8 Поле состоит из взаимосоотнесенных позиций, объективно существующих возможностей проявиться ролей или ниш в борьбе за разыгрываемые в данном поле призы. Очень существенна для Бурдьё принципиальная несводимость логики частного поля к логике глобального поля власти и, соответственно, заведомая неадекватность любой формы экономического редукционизма. Участие в практике предполагает заинтересованность, "вовлеченность в игру", il-lusio 9; экономическая заинтересованность - лишь одна (хотя и доминирующая в современном обществе) из многих форм illusio. Поля прежде всего специфичны, в них происходят игры с призами и ставками совершенно различной природы. С другой стороны, поля гомологичны, т. е. структурно подобны: в каждом поле происходит борьба за обладание специфической формой капитала между доминирующими и подчиненными группами (классами). Таким образом, всякое поле - поле боя, но бьются всякий раз поразному и за разное, или, если угодно, всякое поле - игровое, но по-разному начисляются очки. Сам Бурдьё, говоря о полях, прибегает то к метафоре схватки, борьбы, то к метафоре игры риторически сближаясь соответственно с Марксом или с поздним Витгенштейном. Тропология в данном случае существенна, так как речь идет о формировании нового - и несамоочевидного - понятия. Битвы - действительно гомологичны; игры - напротив: любимый пример Витгенштейна на объединение под одной "концептуальной шапкой" множества семантических объектов, связанных "семейным сходством", которое допускает, но вовсе не предполагает сходства структурного (гомология). Далеко не всякая игра - на победителя. Почему не допустить, что и социальные практики связаны семейным сходством, а не гомологией? Даже если большинство практик действительно битвы и агоны - как быть с действительно альтруистическими практиками: даром, жертвой, благотворительностью, взаимопомощью, внутрисемейными отношениями, разного рода "анонимным" героизмом и т. д.? Для объяснения практик христианских или дзенских подвижников пришлось бы ввести "капитал спасения" или "капитал сатори", и определить структуру поля (т. е. неравное распределение капитала) было бы очень затруднительно. В центре универсальной экономии практик для Бурдьё лежат понятия заинтересованности и интереса (illusio). Однако сам интерес (экономический и моделируемый по аналогии с ним символический) - не трансисторическая универсалия. Об этом пишет, например, Марсель Мосс в классическом Очерке о даре: "Само слово "интерес" - позднего, технического и бухгалтерского происхождения; оно происходит от латинского слова interest, которое писали в счетных книгах напротив ожидаемых доходов. В древних этических системах даже самого эпикурейского толка на первом месте всегда стоит стремление к благу и удовольствию, а не к материальной выгоде. [...] Само это понятие с большим трудом и лишь описательно переводится на такие языки, как латинский, греческий или арабский. [...] Именно наши западные общества, причем очень недавно, сделали из человека "экономическое животное". Но мы еще не полностью превратились в существа подобного рода. В массах и элитах широко практикуются безвозмездные и иррациональные расходы..." 10 С точки зрения Бурдьё, во всех подобного рода практиках речь идет о разного рода символических интересах. На обвинения в "экономизме" Бурдьё обычно отвечает, что как раз в противовес вульгарным и редукционистским концепциям, в его теории агенты движимы не только материальными, но и символическими интересами, притом последние часто сводятся к отрицанию первых. Однако интерес все равно остается интересом ("ожиданием дохода"). Расширяя сферу применения понятия, мы утрачиваем его эффективность. В определенном смысле тезис о всеобщей заинтересованности не фальсифицируем, но, следовательно, и не ценен научно: интерес становится синонимом мотивации или даже причинности. Если же специфицировать интерес как заинтересованность в накоплении (символическом и / или материальном), то неизбежно возникают вопросы о всеобщности и всеприменимости концепта. Бурдьё выделяет четыре основных вида капитала 11: - экономический капитал - понимаемый традиционно; - социальный капитал - положение в социальной иерархии, знакомства, "связи"; - культурный капитал - легитимные знания и навыки, в том числе: уровень и структура образования ("образовательный или академический капитал"); культурный код, позволяющий адекватно воспринимать произведения "высокой культуры"; степень владения "престижной" - культурной формой речи и ее функциональными разновидностями ("лингвистический капитал"); - символический капитал - престиж, признание, "имя", "отличность", степень канонизации, включенность в антологии, школьные программы. Именно введение нематериальных капиталов делает возможным построение политической экономии культуры, не сводящей культуру к экономике, а, напротив, концентрирующейся на процессах, придающих полю культуры специфичность. Бурдьё настаивает на том, что в понятиях "символический капитал" или "культурный капитал" термин капитал используется не метафорически, а допустимо расширительно. Этот вопрос очень важен, потому что ответ на него определяет эмпиричность проекта Бурдьё в целом: далеко не все равно, идет ли речь об очередном терминологическом переносе из одной науки в другую или об обнаружении реальной экономической логики на "рынке символических товаров". Антагонист Бурдьё, ревнитель традиционной харизматической эстетики в американском академическом литературоведении, Гарольд Блум возражает: ""Культурный капитал" - это или метафорическое, или неинтересное буквальное выражение. В последнем случае оно просто отсылает к современному торжищу издателей, агентов и книжных клубов. Как фигура речи, оно остается криком, отчасти боли, отчасти вины за принадлежность к кругу интеллектуалов, взращенных верхушкой французского среднего класса" 12. Однако у Бурдьё символический и культурный капитал реальны: они подвержены инфляции, узурпации, за них ведется борьба между классами и группами. Символические схватки и символическое насилие принимают форму классификационных конфликтов, в которых враждующие группировки пытаются навязать в качестве единственно легитимных свой взгляд на мир, свои классификационные схемы, свое представление о том, "кого (и по каким причинам) считать кем". Бурдьё предлагает искать ответ на классический вопрос социологии о воспроизведении социального неравенства в механизмах символического воспроизводства, прежде всего в системе образования и в других культурных институтах. При этом, так же как пролетариат у Маркса не осознает факта экономического отчуждения, "символически угнетенные" у Бурдьё не замечают и не распознают творимого над ними символического насилия. Последнее не узнается как таковое и, благодаря эффекту "неверного отождествления" или "непонимания" [mОconnaissance] ощущается как нечто само собой разумеющееся: школы и университеты ретранслируют изначально неравные социоэкономические условия в различную степень одаренности; музеи и консерватории, номинально открытые для всех, посещаются на самом деле только обладателями привилегированных габитусов, усвоившими необходимые эстетические диспозиции. Таким образом, теория Бурдьё входит в парадигму неомарксистских интеллектуальных проектов - попыток приспособить Маркса к "позднему капитализму" и дополнить его систему "недостающим звеном" - политической экономикой культуры. Но в отличие, например, от Бодрияра, который гипостазирует феномен "показного потребления" (conspicuous consumption Веблена) и символических обменов и отказывается от поиска объяснительной или эмпирической логики 13, Бурдьё предельно эмпиричен и "старомодно" настаивает на собственно научной, объяснительной ценности предлагаемой им модели "символического рынка". В отличие от "символических ценностей" и симулякров Бодрияра, символические капиталы у Бурдьё квантифицируемы и конвертируемы в капиталы несимволические: символические различия (прежде всего во вкусах) маскируют и придают статус естественности различиям в материальных условиях. Агонистичность социального мира (свойство, которое бесспорно роднит теорию Бурдьё с марксизмом) предполагает, что все, в том числе и научные, практики вовлечены в бесчисленные конфликты интересов. Ученый может преодолеть - или по крайней мере минимизировать детерминизм, только поняв его как таковой, то есть подвергнув критической рефлексии все, что само собой разумеется: свою собственную позицию и интересы (то есть позицию интеллектуала второй половины ХХ века) и все "готовые" посылки, допущения и классификации в объекте исследования. Отсюда одно из "самоназваний" теории Бурдьё - рефлексивная социология. Бурдьё также пользуется термином "генетический структурализм", то есть структурализм, преодолевающий соссюровскую дихотомию синхронии и диахронии и рассматривающий структуры (прежде всего культурные классификации) в их конфликтном становлении. В очень общем смысле работы Бурдьё о культуре могут быть представлены как опыт исторического самопознания, то есть попытка понять историю формирования и функционирования полей культуры, приведшую к появлению сначала деятеля искусства, а потом и интеллектуала, и автономных ценностей, связанных с внутренними критериями их деятельности и противопоставленных политическому и экономическому давлению. ПОЛЕ ПРОИЗВОДСТВА КУЛЬТУРЫ В понятии "поле" Бурдьё актуализует естественнонаучные, физические коннотации. Как электромагнитное или гравитационное поле, поля культуры - это поля сил. Продолжая эту "неавторизованную" Бурдьё метафору, можно сказать, что Бурдьё переходит от корпускулярных моделей к волновым. Истинным объяснительным принципом и, следовательно, объектом исследования должно стать все поле в совокупности, а не отдельные "атомы" авторов или произведений. Именно поле создает важнейшее условие самого существования литературных или интеллектуальных "игр" артистическое illusio, то есть вовлеченность, заинтересованность, веру в ценность или важность сочинения или чтения. Социология культуры у Бурдьё - продолжение его антропологии (сам он считает различение между этими науками надуманным). Он подходит к вере в культурную ценность и к вовлеченности в культуру так же, как к символическим практикам берберов, к верованиям и верам вообще. При этом общее место традиционной эстетики (ср., например, формулу "культура от культа" у Флоренского) в каком-то смысле обращается в свою противоположность. Если культура действительно культ - скажем, культ "творца" или культ ценностей, - то механизм этой веры должен быть подобен механизму религиозных верований. Бурдьё утверждает, что "социология культуры - это социология религии нашего времени". Сущность культурного, так же как и первобытного, магизма - не в маге и не в магическом действии, а в совокупном действии всех заинтересованных, вовлеченных. Иллюстрацией того, как поле создает ценность и "сакрализует", служат у Бурдьё два крайних случая: Анри Руссо и Марсель Дюшан. Культурная ценность обоих художников бесспорно связана не собственно с тем, что они делали, а с сетью отношений, в которую помещалась их деятельность. Руссо не знает, что делает (он ведь не осознавал себя "наивным" художником); Дюшан, напротив, слишком хорошо знает, что делает и в традиционном эстетическом смысле не делает ничего, а просто оперирует энергиями поля. Очень показателен тот факт, что Бурдьё выбирает наиболее удобные для себя, крайние, а стало быть и маргинальные, примеры. Это, как кажется, как раз тот случай, когда волновой (или, по Кассиреру, реляционный) аспект "затопляет" аспект корпускулярный. Говоря языком экономики, ценность "центральных" культурных фактов может быть, так же как и экономическая ценность ("меновая стоимость") у Маркса, функцией от затраченного труда. Речь идет, конечно, об "общественно необходимом", квалифицированном труде, а не просто о затраченных усилиях. Тогда стихи Мандельштама и Пастернака окажутся ценнее Демьяна Бедного, так как содержат больше квалифицированного труда. Причем в этот труд (и в квалификацию) будут входить как выученные языки, прочитанные книги, приобретенные диспозиции, так и - далее неразложимый - талант. И мы вернемся к "харизматической" эстетике, от которой пытались убежать. Вопрос о ценности до сих пор дискутируется и в собственно "экономической" политэкономии, к которой Бурдьё обращается очень редко. С одной стороны, все еще находит сторонников восходящая к Смиту и Рикардо и воспринятая Марксом, а затем нео-марксистами и так называемыми неорикардианцами и отчасти Сраффой "трудовая теория", согласно которой ценность ("меновая стоимость") все-таки определяется затраченным "абстрактным" или "общественно необходимым трудом". Однако более распространена, особенно у нео-классиков, представителей последней "великой школы" теоретической экономики, так называемая "утилитарная" (или "маргинальная") теория [marginal utility theory], объясняющая ценность товара его полезностью, сравнительной редкостью и взаимодействием между спросом и предложением 14. Теория эстетической ценности "символического товара" у Бурдьё ближе ко второй точке зрения: ценность создается всем полем, а не собственно производителем, и по мере распространения культурные продукты (например, сочинения Вивальди) дешевеют, то есть все менее отличают потребителей. Однако в "обычной" политической экономии "утилитарный" (или "маргинальный") подход к ценности исключает марксову диалектику прибавочной стоимости, отчуждения и классового угнетения. Представляется, что это противоречие ослабляет теорию "символического угнетения" Бурдьё, выстраиваемую по аналогии с "экономическим угнетением" Маркса: если ценности создает не производитель, то непонятно: кто, кого и в каком смысле эксплуатирует. Вообще, политически "левая" политэкономия культуры Бурдьё очень похожа на "правую" нео-классическую политэкономию и экономику. Это касается не только теории ценности, но и исходных "донаучных" предпосылок: у Бурдьё, как и у нео-классиков, человек - максимизатор, пусть различных, не только и не всегда экономических, выгод. Адекватное объяснение факта культуры требует реконструкции всего поля (включая его внутреннюю структуру и отношение к другим полям) и анализа взаимодействия между диспозициями 15 (т. е. предрасположенностями, установками, склонностями), содержащимися в габитусе автора, и набором предоставляемых полем позиций (сюда входят "роли": коммерческий / некоммерческий; признанный / непризнанный; элитный, богемный, массовый автор; школы, направления, стилистические и жанровые ниши и т. п.). Традиционный объект литературоведения - собственно произведения, так же как манифесты, эстетические или политические выступления etc., входят у Бурдьё в пространство манифестаций [prises de positions] 16. Рассмотрение культуры как поля помогает преодолеть дихотомию внутреннего и внешнего подходов: манифестации (т. е. произведения) не содержат внутри себя своего объяснительного принципа, но их невозможно вывести напрямую и из чего-либо внеположного полю. Поле культуры как основная сфера воспроизводства и накопления нематериальных капиталов входит в более общее поле власти. Однако внутри поля власти оно оказывается в подчиненном положении, так как не связано напрямую с производством экономического и социального капитала. Таким образом, интеллектуалы определяются Бурдьё как подчиненная фракция доминирующего класса - угнетенные угнетатели. В поле культуры действуют как внутренние законы, так и логика глобального политического и экономического поля. Во второй половине XIX века, когда культура освободилась от религиозной и государственной опеки и приобрела автономию, сложилось двучастное разделение поля производства культуры на субполе массового производства и субполе элитарного производства. В массовом секторе культурное производство ничем не отличается от промышленного. Производители массового субполя ориентируются на принципы глобального поля, то есть на максимизацию экономического капитала. Таких производителей Бурдьё называет гетерономными. В элитарном секторе работают автономные производители, которые заинтересованы в символическом капитале, т. е. прежде всего в признании среди коллег. Гетерономные культурные предприятия преследуют краткосрочные экономические выгоды; автономные производители рассчитывают на символические выгоды в более отдаленном будущем. Внутри элитарного поля идет борьба между культурной ортодоксией - производителями, уже добившимися признания, - и культурными ересями - "новичками", заинтересованными в вытеснении авторитетов. История поля - это история классификационной борьбы между "автономами" и "гетерономами" и внутри элитарного сектора между держателями символического капитала и "новичками"претендентами. Автономные ценности выстраиваются в оппозиции к гетерономным, то есть материальным, ценностям: отсюда важность критерия незаинтересованности (по Бурдьё, всякая незаинтересованность восходит к материальной незаинтересованности, к свободе от материального, природного принуждения, от физических нужд) в кантианской и других "чистых" эстетиках. В автономном секторе самый факт накопления символического капитала приводит к его девальвации и дискредитирует производителя. Признание и канонизация расширяют доступ к произведениям и уменьшают их сравнительную редкость, т. е. потенциал отличительности. Близкий нам пример культурного удешевления по мере распространения находим в очень Бурдьёанском замечании М. Л. Гаспарова: "...Ю.И. Левин делает на мандельштамовской конференции доклад "Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме": потому что раньше Мандельштам был ворованным воздухом, паролем, по которому узнавался человек твоей культуры, а сейчас этим может воспользоваться всякий илот, стало быть, это уже не интересно" 17. Другой пример - ухудшившаяся в последние годы репутация Ю. Башмета. Охлаждение рецензентов к нему, бесспорно, связано не с понижением качества игры per se, а с расширением его аудитории, "светскостью", выходом в медиа и т. д. Таким образом, наиболее общая культурная логика сводится к отталкиванию от материального производства и потребления: культурное поле - это "поле экономики наоборот". Частная же логика перманентной эстетической эволюции в культурных полях XIX и ХХ веков заключается в стремлении отличаться от всего уже существующего в поле. Модель Бурдьё основывается на литературной ситуации во Франции второй половины XIX века и описывает литературное поле, достигшее полной автономии. К другим периодам и национальным традициям и к другим состояниям поля эта модель приложима только mutatis mutandis. Гетерономность вовсе не обязательно совпадает с заинтересованностью в материальных прибылях. Так, например, в 1ой четверти XIX века в России коммерческий успех (Истории Карамзина или поэм Пушкина) отнюдь не компрометирует авторов. В русском литературном поле 60-х - 70-х годов XX века критерием гетерономности является коллабoрационизм, "советскость", степень и "география" "печатаемости". При этом массовость или прибыльность оказываются дополнительными, побочными критериями, не всегда совпадающими с основным: кажется, наиболее прибыльным литературным занятием было составление текстов для исполняемых с эстрады - не обязательно "советских" - песен. Наконец, для современного поля искусств (в России несколько позже, чем на Западе) характерен добровольный отказ от ценностей культурной автономии. Описанную Бурдьё аскетическую иерархию на наших глазах сменяет новая, на вершине которой оказываются произведения, наиболее удачно совмещающие массовость (прибыльность) и элитарность. Перманентная эстетическая революция Бурдьё, бесспорно, напоминает "литературную эволюцию" Тынянова. Бурдьё признает, что поздно познакомился с работами формалистов и во многом повторил сделанное ими (см. прим. 35 к Полю литературы). Однако у Бурдьё борются не школы и идеи, а агенты, преследующие вполне определенные, пусть и символические, интересы; банализация - не имманентно литературный, а экономический процесс. Поиск отличия - не внутреннее свойство литературной системы, а стратегия агентов, ищущих наиболее выгодных символических инвестиций. При этом производство гомологично потреблению: наиболее отличные писатели в наибольшей степени отличают читателей. Литературная эволюция у формалистов никак не связана с "внешней" историей; у Бурдьё развитие поля культуры неотделимо от истории глобальных полей. Внешние изменения "преломляются" через призму культурного поля: например, распространение образования приводит к увеличению числа желающих посвятить себя культурному производству, следовательно, к ужесточению конкуренции, к размножению "школ" и т. д. (в этом, вероятно, одна из причин "культурных всплесков" - например, русского Серебряного века). Известно, что и сами формалисты разочаровались к 30-м годам в "имманентной истории". Именно поздним формалистам во многом наследует современная русская социологическая школа. В записях Лидии Гинзбург находится свидетельство того, что она сама и Тынянов задумывались о необходимости "тотальной" социологии литературы, притом речь идет о поразительно близкой к Бурдьё логике: "На днях разговор с Тронским окончательно утвердил мои мысли последнего времени: нужна литературная социология. Нужно, чтобы это создавалось на специфических основаниях, которые могут быть привнесены специалистами-историками литературы с учетом социальной специфичности писательского быта. Условия профессионального писательского быта могут перестроить исходную социальную данность писателя. В свою очередь эта первоначальная закваска может вступать с ними во взаимодействия. Вот огромное поприще, по которому предстоит идти с трудами и сомнениями... Да, разумеется, "имманентность литературной эволюции" дала трещину. Ю. Н. <Тынянов> говорил как-то со мной о необходимости социологии литературы (он ведь не боится слов)... Надо собраться с силами и задуматься над азами еще не проторенной дисциплины" 18. "Исходная социальная данность" и "закваска" очень похожи на габитус; взаимодействие габитуса с новыми условиями - центральный момент в концепции Бурдьё. Приведенный выше (по всей вероятности, неизвестный Бурдьё) отрывок неожиданно подтверждает интуицию Бурдьё, допускающего, что его теорию литературного поля можно, в ограниченном смысле, рассматривать "как завершение теорий <формалистов> [l'accomplissement de ces thОories]" (см. прим. 35 к Полю литературы). Интересно, что эволюцию идей школы Варбурга тоже можно рассматривать как переход от имманентных к социологическим интерпретациям. Теория полей во многом сопоставима с идеями Гомбриха. Социологическая критика "чистого взгляда" у Бурдьё очень близка к психологической критике "чистого взгляда" у позднего Гомбриха и во многом дополняет последнюю. Бурдьё, как и Гомбрих (и в отличие от Изера или Барта), рассматривает "взгляд", реакцию не как данность, а как историю, сложный и конфликтный процесс приобретения диспозиции. Естественность чистого взгляда иллюзия. Эстетическая диспозиция Бурдьё или ментальная установка (mental set) Гомбриха требуют обучения; притом Гомбрих концентрируется на содержании, то есть на схемах восприятия, а Бурдьё на социальном контексте обучения. Можно сказать, что Бурдьё следует программе, намеченной Гомбрихом в Искусстве и Иллюзии и эксплицитно сформулированной в предисловии к одному из изданий этой книги: "Для постановки новых вопросов о связях между формой и функцией в искусстве нужно обратиться за помощью к социологии и антропологии. Но это, по большей части, остается делом будущего" 19. Эффект преломления отличает теорию Бурдьё от марксистских и постмарксистских концепций "отражения" или "выражения": агенты "выражают", а манифестации "отражают" внешние социальные противоречия или заказы групп или классов только в "преломленном" внутренней логикой поля виде. Чем автономнее поле, тем сильнее "преломление" и тем менее связано происходящее в поле с происходящим вовне. Автономия - ориентация на внутренние критерии и независимость от давления "больших" полей - интересует Бурдьё одновременно "извне", то есть как исторический феномен, и "изнутри" - как условие существования современного интеллектуала. На примере "номотетов" автономии - Бодлера, Флобера, Мане - Бурдьё показывает историческую и экономическую обусловленность интеллектуальных свобод: например, принадлежность к средней и высшей буржуазии закладывает в габитус такие диспозиции, как заинтересованность в "незаинтересованности", стремление к риску и "чувство перспективности символического вложения", благодаря которым "культурный производитель" отваживается на рискованные авангардные предприятия. Таким образом, по Бурдьё, "чистый" (имманентный, харизматический etc.) взгляд - всегда иллюзия, забвение или вытеснение условий собственного возникновения. Однако рефлексия, осмысление обусловленности собственной позиции в каком-то смысле возвращает свободу и превращает автономию интеллектуала или литератора в эффективное социальное орудие: инстанцию критической экспертизы и последний очаг сопротивления политическим и экономическим властям. АКТУАЛЬНОСТЬ БУРДЬЁ Современное русское литературоведение, за редкими исключениями, не теоретично. "Классические" структурализм и семиотика кажутся анахронизмом и вызывают вкусовое отторжение. Перефразируя сказанное Мандельштамом о символизме: "Мы не хотим развлекать себя прогулкой в "лесу знаков"". Получивший некоторое распространение постструктурализм постмодернистского толка, кажется, все-таки не прижился. Прежде всего потому, что литературоведение в России однозначно осмысляется (и осмысляет себя) как наука, в отличие от critique и criticism в Европе и в Америке 20. Благодаря усвоенным на филфаках диспозициям мы побаиваемся "чистого теоретизирования" (и это созвучно с нелюбовью Бурдьё к "теоретическим теориям") и ожидаем, что теория предложит "работающую модель" - модель, с которой можно работать. Теория поля Бурдьё - бесспорно эвристически эффективная модель, позволяющая не только описывать, но и объяснять. Поэтому подход Бурдьё может оказаться здоровой и своевременной альтернативой как дескриптивизму преобладающей у нас форме "сопротивления теории", - так и различным "игровым" и "паранаучным" моделям. Попробую привести пример высокой "разрешающей способности" Бурдьёанского анализа. Чтобы объяснить поразительное сходство официальных эстетик СССР, нацистской Германии, фашистской Италии и маоистского Китая, нельзя просто обратиться к Zeitgeist'у - такое объяснение было бы тавтологичным. Марксист (например, последователь Гольдмана) должен был бы искать в соцреализме и искусстве третьего рейха и культурной революции выражение эстетических воззрений победивших групп, т. е., по всей вероятности, аппаратчиков. Однако у власти находились социально разнородные группировки, которым трудно приписать какую-либо общую эстетику. Более адекватным было бы функциональное объяснение в духе Гомбриха: тоталитарные режимы используют искусство как пропагандистскую машину и, соответственно, отбирают эстетики с "наибольшей идеологической проводимостью". Однако мы знаем, что сама по себе "высокоспецифическая культура" может "проводить" идеологии ничуть не хуже "девушек с веслами": ср. авангардизм как официальное искусство (по крайней мере в живописи и в кино) в первые годы после революции в России или "ректорскую речь" Хайдеггера как более-менее официальную философию, Лени Рифеншталь как официальное кино в первые годы после прихода Гитлера к власти. Применение модели Бурдьё, как мне кажется, прояснило бы внутреннюю логику рассматриваемого феномена. Тоталитарные режимы заинтересованы в присвоении всех видов капитала и всех иерархий. Независимые культурные иерархии опираются на внутреннюю специфику, на историю отталкиваний и различений. Уничтожить символическую власть "культурных капиталистов" можно только уничтожив специфику их производств. Таким образом, любая тоталитарная власть заинтересована в насаждении неспецифического искусства и в ослаблении символической власти, которая зиждется на внутренних критериях и внутренней истории поля. Понятно, что территориальные разновидности "неспецифического" искусства будут очень похожи: ведь в его основе как раз и лежит принцип отказа от диалектики различений и отличий. Адекватность методов Бурдьё несомненно ограничена исходными предпосылками. Понимание произведения как "символического товара", культуры как "рынка", писателя как "производителя", читателя как "потребителя" плодотворно в той мере, в какой мы можем пренебрегать во всех этих случаях кавычками. Совсем забыть о кавычках невозможно не только потому, что мы боимся экономического языка (он в конце концов может войти в моду), но и потому, что все содержание культуры просто не исчерпывается ее экономикой. Однако Бурдьё показывает, как много в культуре экономического, объясняет, почему интеллектуалам свойственно вытеснять экономическую логику того, чем они занимаются и предлагает эвристически эффективные методы анализа символической экономики. Таким образом, отчасти вопреки самому (конечно, предельно упрощенному) Бурдьё, ценность его теории состоит не только в бесспорном ее отличии от всего уже существующего в литературоведении, но и в ее реальной приложимости. При этом взгляды Бурдьё актуальны не только с точки зрения "узких" полей литературоведения или искусствоведения. Бурдьё хорош как противоядие от охвативших у нас пока что интеллектуальные "низы" (но, судя по веймарской Германии, вполне способных добраться через поколение-другое и до "верхов") "смутных" идеологий - как "левых" (таких как вульгарный марксизм), так и, особенно, "правых" (таких как "консервативная революция"). Строжайшая эпистемологическая дисциплина Бурдьё, требование критического и аналитического отношения к собственной позиции могут послужить подспорьем в процессе социального самоосознания и - неизбежной - политизации российских интеллектуалов. О ПЕРЕВОДЕ Рефлексивность Бурдьё пронизывает его язык и потому чрезвычайно неудобна для читателя (и переводчика). Традиционные концепты объявляются им чем-то вроде "ложных друзей аналитика" и заменяются громоздкими перифразами. Длинные абзацы (бывает, что и по полторы страницы) и предложения (бывает, что и по 20 строк) полны уточнений, оговорок и метаописаний. Сама сверхрефлексивность (или, если угодно, неудобочитаемость) его научного языка является объектом его рефлексии: см., например, предисловие к Полю литературы в настоящей публикации. В другом месте Бурдьё применяет к себе сказанное Лео Шпитцером о Прусте: "сложное может быть выражено только сложно" - и объясняет, что его тексты "полны предостережений, призванных предохранить читателя от деформации или упрощения вещей" 21. Тем не менее, как кажется, в последних его трудах наметилась тенденция к некоторому компромиссу с читателем. Мы взяли на себя смелость перенести в перевод статьи Поле литературы, опубликованной в 1991 году, ["Le Champ littОraire", Actes de la recherche en sciences sociales, 89, septembre 1991, p. 3-46] незначительную стилистическую правку, рубрикацию и отдельные сокращения из более позднего варианта, вошедшего в книгу Правила искусства (1992) [Les RПgles de l'art, Seuil, 1992]. Опущена также глава о консервативных интеллектуалах, вынесенная самим Бурдьё в дополнения в книге 1992 года 22. Примечания 1 В общем виде теория практик изложена у Бурдьё в Esquisse d'une thОorie de la pratique prОcОdОe de trois Оtudes d'ethnologie kabyle, Droz, 1972 и, особенно, в Le Sens pratique, Minuit, 1980. Перечислю наиболее важные труды Бурдьё об отдельных полях: об образовании - Les HОritiers: Les Оtudiants et la culture (в соавторстве с Jean-Claude Passeron), Minuit, 1964 и La reproduction: ОlОments d'une thОorie du systПme d'enseignement (в соавторстве с Jean-Claude Passeron); о фотографии - Un art moyen: Essai sur les usages sociaux de la photographie (в соавторстве с Luc Boltanski, Robert Castel и JeanClaude Chamboredon), Minuit, 1965; о посещении музеев - L'amour de l'art: Les musОes europОens et leur public (в соавторстве с Alain Darbel), Minuit, 1966; о вкусовых предпочтениях в современном французском обществе - La Distinction: Critique sociale du jugement de goЮt, Minuit, 1979; об академической профессуре - Homo Academicus, 1984; о языковых практиках - Ce que parler veut dire: L'Оconomie des Оchanges linguistiques, Fayard, 1982; о телевидении - Sur la tОlОvision, Liber - Raison d'agir, 1996; и наконец о литературе и искусстве - Les rПgles de l'art, Seuil, 1992 и The Field of Cultural Production, Columbia U. P., 1993. 2 За пределами этого обзора остались по крайней мере два важных контекста: соотношение Бурдьё с триадой классиков социологии - Марксом, Вебером и Дюркгеймом и влияние феноменологии, особенно Мерло-Понти и раннего Хайдеггера. См. подробный анализ научной генеалогии Бурдьё в: R. Jenkins, Pierre Bourdieu, Routledge, 1992; D. Robbins, The Work of Pierre Bourdieu, Westview Press, 1991; D. Swartz, Culture and Power, University of Chicago Press, 1997. P. 15-52. Полную библиографию (включая переводы на европейские языки и работы о Бурдьё) можно посмотреть на … 3 Пользуются методами и распространяют идеи Бурдьё в России социологи, прежде всего Н. Шматко, Ю. Качанов, Д. Цыганков, А. Леденева. Группой Н. А. Шматко в Институте социологии подготовлено два сборника Бурдьё: Социология политики (М., 1993) и Начала (М., 1994). В журнале Вопросы социологии (изд. Socio-Logos) публиковались работы Бурдьё и его учеников о поле культуры: П. Бурдьё, Рынок символической продукции (1/2, 1993, с. 49-63 и 5, 1994, с. 50- 62, пер. Е. Вознесенской); К. Шарль, Расширение и кризисы литературного производства (1/2, 1993, с. 64-84, пер. Ю. Ледовских); Р. Понтон, Рождение психологического романа: культурный капитал, социальный капитал и литературная стратегия в конце XIX века (1/2, 1993, с. 84-103, пер. Н. Акимовой, Л. Бородули). В области гуманитарных наук влияние Бурдьё менее ощутимо. Некоторые аспекты его теории повлияли на лингвосоциологический анализ "наивного письма" у Н. Козловой и И. Сандомирской: Я так хочу назвать кино. Наивное письмо: опыт лингвосоциологического чтения, М., Гнозис, 1996, с. 19 87 и на оригинальную концепцию "критики идеологий", разработанную М. Макеевым в недавно вышедшей монографии Спор о человеке в русской литературе 60 - 70-х гг. XIX века: Литературный персонаж как познавательная модель человека, М., Диалог - МГУ, 1999. Мне известны лишь два образца ортодоксально Бурдьёанского анализа русского литературного поля - статья петербургского социолога Д. Цыганкова о Солженицыне "Триумф и трагедия лидера "русской партии"" , а также статья Н. Н. Козловой "Согласие, или Общая игра (Методологические размышления о литературе и власти)", в НЛО № 40 (1999), с. 193-209. 4 Влиятельность Бурдьё - не троп, а институционализованная реальность. Он возглавляет кафедру социологии в Коллеж де Франс и занимает пост директора в двух наиболее престижных центрах изучения общественных наук во Франции: в Школе Высших Исследований Общественных Наук (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) и в Центре Европейской Социологии (Centre de Sociologie EuropОenne). Бурдьё - действительный член Французской академии, один из наиболее цитируемых и переводимых европейских ученых. Все это немаловажно, в свете того, какое место в учении Бурдьё занимают вопросы престижа, признания, символической отмеченности и т. п. 5 "La maison kabyle ou le monde renversО", в: J. Pouillon (ed.), Echanges et communications: MОlanges offerts И Claude LОvi-Strauss И l'occasion de son 60-Пme anniversaire, Mouton, 1970, p. 739-758. Работа написана в 1962 году и отражает ранние взгляды Бурдьё. 6 "StratОgie et rituel dans le mariage kabyle", в: J. Perestiany (ed.), Mediterranean Family Structures, Cambridge U. P., 1972. Работы по антропологии племени кабили вошли в: P. Bourdieu, Esquisse d'une thОorie de la pratique, prОcОdОe de trois Оtudes d'ethnologie kabyle, Droz, 1972. 7 Les conditionnements associОs И une classe particuliПre de conditions d'existence produisent des habitus, systПmes de dispositions durables et transponsables, structures structurОes prОdestinОes И fonctionner comme structures structurantes, c'est-И-dire en tant que principes gОnОrateurs et organisateurs de pratiques et de reprОsentations qui peuvent Рtre objectivement adaptОes И leur but sans supposer la visОe consciente de fins et la maФtrise expresse des opОrations nОcessaires pour les atteindre, objectivement "rОglПes" et "rОguliПres" sans Рtre en rien le produit de l'obОissance И des rПgles, et, Оtant tout cela, collectivement orchestrОes sans Рtre le produit de l'action organisatrice d'un chef d'orchestre (P. Bourdieu, Le Sens pratique, Minuit, p. 88-89). Приведенное определение считается наиболее сконцентрированной и "теоретичной" дефиницией габитуса. В то же время оно - хороший образец синтаксиса Бурдьё. 8 О происхождении понятий поле и габитус см. статью Бурдьё "The genesis of the concepts of 'habitus' and 'field'", в: Sociocriticism 1(2), 1985, с. 11-24. 9 Понятие illusio Бурдьё позаимствовал у Хёйзинги. Имеется в виду квазинародная этимология illusio от in ludus ("в игре"). То, что внутри игры (или, у Бурдьё, поля) представляется важным благодаря illusio - снаружи, с точки зрения стороннего, не участвующего в игре наблюдателя воспринимается как иллюзия (в обычном смысле слова). Подробно об illusio см., в частности: P. Bourdieu, MОditations Pascaliennes, Seuil, 1997, p. 248 - 263. 10 М. Мосс, Общества. Обмен. Личность, М., 1996, c. 214-215 (пер. А. Б. Гофмана). В появившейся после Мосса обширной литературе, посвященной этому кругу вопросов, см. особо об иррациональных и альтруистических аспектах экономики: G. Bataille, La notion de dОpense, в G. Bataille, La part maudite, prОcОdОe de La notion de dОpense, Minuit, 1967, p. 23-43; M. Godelier, RationalitО et irrationalitО en Оconomie, MaspОro, 1971 и L'Оnigme du don, Fayard, 1994; D. Collard, Altruism and Economy, Oxford U. P., 1978. Особо о даре и о (не)возможности незаинтересованного деяния в концепции Бурдьё см. "Un acte dОsintОressО est-il possible?", в P. Bourdieu, Raisons pratiques, Seuil, 1994, p. 149-167 и "La double vОritО du don" в P. Bourdieu, MОditations Pascaliennes, Seuil, 1997, p. 229-240 - в последнем, в частности, полемику с концепцией дара у Дерриды в Donner le temps, I, La fausse monnaie, GalilОe, 1991. 11 См., в частности, P. Bourdieu, "The forms of capital", в J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, 1986, p. 241-258. 12 Harold Bloom, The Western Canon, Riverhead Books, 1995, p. 484. 13 См.: J. Baudrillard, Pour une critique de l'Оconomie politique du signe, Gallimard, 1972. 14 Ср. анализ классической и неоклассической теории ценности в J. A. Shumpeter, History of Economic Analysis, Oxford U. P., 1968 и M. Dobb, Theories of Value and Distribution since Adam Smith: Ideology and Economic Theory, Cambridge U. P., 1973. Обзор маргинальных теорий см., например, в Jauder E. L'utilitО marginale, Paris, Mame, 1973. Возрождение интереса к классической (или "трудовой") теории связано с публикацией Production of Commodities by means of Commodities (Cambridge U. P., 1960) Пьеро Сраффы. В 60-70-е годы "трудовую" теорию пытались усовершенствовать и обновить экономисты британской группы Conference of Socialist Economists: см. резюмирующий дебаты 70-х сборник Debates in Value Theory (S. Mohun, ed.), The Macmillan Press, 1994. 15 Мне показалось предпочтительнее не переводить термин disposition, а оставить в латинизированной форме. Возможные русские варианты - "предрасположенность", "склонность" вызывают нежелательные ассоциации с "природностью" (как в "природная склонность"). Подошла бы "установка", но Бурдьё в Поле литературы эксплицитно противопоставляет "диспозицию" "установке" формалистов. В переводах Н. Шматко и ее учеников "диспозиция" чаще всего переводится как "предрасположенность". Однако Ю. Качанов, Д. Цыганков и М. Макеев пользуются термином диспозиция, и я решил последовать их примеру. 16 Термин prise de position - "занятие, выработка, выражение, реализация позиции, точки зрения" можно было бы переводить контекстуально - всякий раз по-разному. Но это нарушило бы терминологическую унифицированность модели. Предлагаемый здесь вариант манифестация, кажется, позволяет обойтись без громоздких перифразов и передает самое важное в понятии: противопоставленность объективно существующим позициям, которые выражаются, реализуются в манифестациях. При этом, однако, утрачивается связь трех основных терминов: position, disposition, prise de position. 17 М. Л. Гаспаров, "Взгляд из угла", в сб.: Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, Гнозис, 1994, с. 302. 18 Лидия Гинзбург, "Записи 1920-х и 30-х годов", в Л. Гинзбург, Человек за письменным столом, Советский писатель, 1989, с. 29 - 30. 19 Из предисловия к итальянскому изданию. Цит. по: Carlo Ginzburg, "From Aby Warburg to E. H. Gombrich", в С. Ginzburg, Clues, Myths, and the Historical Method, The Johns Hopkins University Press, 1989, p. 59. 20 Это настроение красноречиво выразил М. Л. Гаспаров: "...метод уже отработал свой срок и перестал быть живым и меняющимся... это произошло и со структурализмом. Сменяющий его деконструктивизм мне не близок. Со своей игрой в многообразие прочтений он больше похож не на науку, а на искусство, не на исследование, а на творчество, и, что хуже, бравирует этим" (Гаспаров, цит. соч., с. 302). 21 "RepПres", в: Choses dites, Minuit, 1987, p. 66 - 67. 22 Автор этого текста (и переводчик Поля) благодарен В. Ю. Апресян, Н. А. Шматко, В. А. Мильчиной, А. К. Жолковскому и К. Ю. Постоутенко за советы и поддержку.