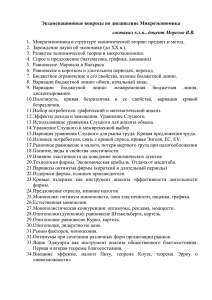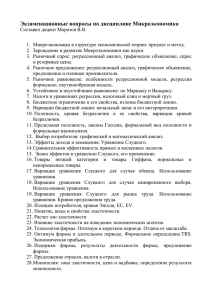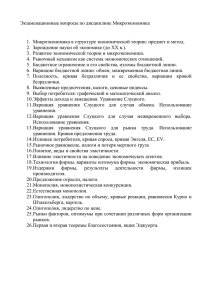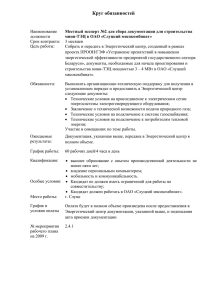Скрытопись Бориса Слуцкого Дмитрий Сухарев
реклама

Дмитрий Сухарев Скрытопись Бориса Слуцкого Слуцкий по-прежнему, как полвека назад, бесит, восхищает, поляризует собратьев по перу. Диву даешься, когда видишь, как бычатся-бодаются стихотворцы последней генерации, которые при живом Слуцком дай бог под стол пешком ходили. Вот на одном, другом поэтическом вечере милый, застенчивый Максим Амелин вдруг начинает безо всякого повода браниться в адрес давно ушедшего поэта, будто тот ему перебежал дорогу. И как бы в ответ замечательный Борис Рыжий (1974—2001) рвет за Слуцкого на груди рубаху, весь сплошная готовность месить оппонентов [ До пупа сносив обноски, с нар полезли фраера, на спине Иосиф Бродский напортачен у бугра. Начинаются разборки за понятья, за наколки. Разрываю сальный ворот: душу мне не береди. Профиль Слуцкого наколот на седеющей груди. Нервных спешу успокоить: это не зарисовка с натуры, а развернутая метафора. Эпигоны Бродского, по-видимому, настолько достали юного поэта, что он в сердцах похоронил всю ораву и тем вошел в противоречие с действительностью. (“Правда, посмотрите вокруг, их почти не стало — куда делись, непонятно” — Рыжий Борис. Я улыбнусь, махну рукой. // Кулиса НГ”, 2000, 8 декабря)]. С чего вдруг страсти? Что им в том времени, когда вершилось явление Слуцкого литературе? Они и слов таких не знают — оттепель, двадцатый съезд, восстановление ленинских норм, забыл, что там было еще в этом роде. Забыты те слова, осмеяны надежды, а Слуцкий актуален. Подозреваю, что смысл поляризации радикально изменился. Тогда, в 50-х, раскол проходил по линии “что?” и определялся отношением к сиюминутному в содержании стихов. Теперь иное. В содержании на первый план выдвинулось вечное [“...Сквозь эти наносные слои временного, сквозь фреску злободневного проступят вечные, допотопные темы... — темы власти и подчинения, рабства и страха, личности и государства. Ибо он [Слуцкий], притворяясь всего лишь репортером, хроникером и документалистом, был на самом деле глубоким исследователем, интерпретатором времен и нравов”. — Бек Татьяна. “Расшифруйте мои тетради...” // “Литературная газета”, 1996, 21 февраля]. А для стихотворца-профессионала немаловажным становится “как?” [Признаю правоту Н.Коржавина, писавшего (по другому поводу — в статье “Анна Ахматова и Серебряный век”), что смещение интереса со “что?” на “как?” характерно для периодов “развития снобистского графоманства вокруг литературы”, ибо для многих это является “наиболее простой, доступной и безопасной формой якобы духовной независимости” (см.: “Новый мир”, 1989, № 7). Пожалуй, переживаемое нами время можно отнести к периодам как раз такого рода, — замечательное собрание современных образцов снобистского графоманства можно найти, к примеру, в толстенном томе “Самиздат века” (М. 1999). Этим, однако, не отменяется всегда актуальное внимание собственно литературы к вопросам поэтики]. К некоторым сторонам поэтики Слуцкого привлекается внимание в предлагаемой ниже статье. Я написал ее весной 1987 года по просьбе Ю.Болдырева. Поясню обстоятельства ее возникновения и долголежания. Юрий Леонардович Болдырев (1934—1993) известен как человек подвига — ему судьба назначила осваивать огромное рукописное наследие великого поэта. Вряд ли кому-нибудь теперь интересно, что в начальную пору своей нелегкой, полуголодной жизни — в Саратове и, позже, в Переславле-Залесском, — Болдырев делил свои пристрастия между тремя персонажами, но именно это стало причиной нашего давнего, с зимы 74-го года, знакомства, перешедшего в дружбу. Так вот, в те дни объектами просвещенного внимания Ю.Л. были, кроме Слуцкого, Юрий Ряшенцев и аз, многогрешный. На меня он тоже копил литературоведческое досье. Не знаю, продолжал ли копить после того, как Слуцкий, став инвалидом, доверил ему распоряжаться монбланами своих неопубликованных стихов. В инвалидность же Борис Абрамович, как известно, обрушился с высот, на которые его вознесла любовь. Цикл стихов на случившуюся в феврале 1977 года смерть любимой женщины стал одним из вершинных достижений русской лирики ХХ столетия, но поэт на этих стихах надорвался, стал стремительно терять работоспособность и здоровье. По свидетельству того же Болдырева, “в два с половиной месяца [после кончины Татьяны Дашковской] он в нескольких толстых тетрадях выговорил все, что осталось сказать людям, и ушел в болезнь, в молчание, во тьму — на девять страшно долгих лет” [Болдырев Ю. Борис Слуцкий. // “Огонек”, 1989, № 20, с. 24—26]. Все эти годы и потом, после кончины самого Слуцкого, Болдырев исправно снабжал меня его неопубликованными стихами, а то и давал подержать те самые толстые тетради. Нас многое роднило в отношении к поэзии Слуцкого, но кое-что разделяло. Болдырев сводил ее достоинства к тому, что малоформатными средствами лирики Слуцкий сотворил монументальный эпос времени. Вопросу о поэтике Болдырев как бы не придавал значения. Не исключаю даже того, что дело было хуже и Болдырев вслед за иными доброжелателями считал перо Слуцкого недостаточно изощренным. Такое впечатление можно вынести из некоторых слов Болдырева, например: “Он (Слуцкий) часто не был уверен в себе как в поэте. Заявлений вроде: “Я как писатель — средний” — в его стихах можно встретить предостаточно. В этих случаях его поддерживало и спасало сознание, что ему как бы поручено запечатлеть в стихе историю сегодняшнего дня, историю нашей эпохи, свидетелем и участником которой он был. И с присущей ему честностью, четкостью и дотошностью делал это дело…” [Слуцкий Б. Что почем. Стихи разных лет. Предисловие Ю.Болдырева. // “Собеседник”, 1988, № 2, с. 24—31]. В моем понимании извинительные рассуждения о честности и дотошности среднего поэта Слуцкого выглядели полной галиматьей, что я и высказывал Юрию Леонардовичу в ласковой форме. У самого Слуцкого самооценка была достаточно трезвой, хотя иногда он почти всерьез над собою подшучивал, как было в последний, кажется, перед болезнью раз, когда мы встретились: “Очень много пишется — может, я графоман?” Если и ощущал себя средним писателем, то исключительно в сравнении со своими многолетними кумирами, Пушкиным и Толстым. Небезупречен, на мой взгляд, и другой болдыревский тезис: “В поэзии и личности Слуцкого нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями” [Слуцкий Борис. Собр. соч. в 3 тт. Т. 1. М., 1991, c. 26]. Мне это дело представляется совсем иначе. Своих главных ценностей Слуцкий не пересматривал. Он, в отличие от многих, кого считал товарищами, сохранил верность идеям социальной справедливости. Сознавал, что они старомодны, что в литературе, как и в жизни, уже гонятся за другим, но сам гнаться не собирался. ...Словно сторож возле снесенного монумента “Свободный труд”, я с поста своего полусонного не уйду, пока не попрут. Он не стал, как многие, приверженцем идеи еврейской, русской или какой иной национальной фанаберии и не сдирал “ветхих одежд” своего природного, органического интернационализма. Над гробом Слуцкого справедливо было сказано, что “черты жалости и сочувствия, столь свойственные великой русской литературе, делают поэзию Слуцкого бессмертной” [Самойлов Давид. Памяти друга. // “Литературная газета”, 1986, 5 марта]. Так вот, милосердным Слуцкий тоже был смолоду, а не стал в результате пересмотра фантомных оснований. Наконец, глянем в раннее, еще из первого сборника, стихотворение с одиозным (с сегодняшней жлобской точки зрения) названием — “Как меня принимали в партию”. И понял я, что клятвы не нарушу, А захочу нарушить — не смогу, Что я вовеки не сбрешу, не струшу, Не сдрейфлю, не совру и не солгу. Руку крепко жали мне друзья И говорили обо мне с симпатией. Так в этот вечер я был принят в партию, Где лгать — нельзя И трусом быть — нельзя. Какую-нибудь из заявленных здесь ценностей Слуцкий пересмотрел? Решил, что можно врать и разрешается быть трусом? Нет, конечно. Если на чем и поставил крест, так только на единственной (действительно фантомной) надежде — надежде на то, что эта партия когда-нибудь всерьез разделит его идеи и порывы. Так или иначе, в итоге наших дружелюбных переругиваний Болдырев попросил меня написать про то, о чем сам не написал бы. Я написал, но громоздко и не для широкого читателя, а Ю.Л., как оказалось, имел в виду небольшую статейку для тонкого массового журнала, где уже обо всем договорился. Ну, нет так нет. Потом и Болдырев скончался. Теперь настойчивое предложение напечатать старую, так и не пошедшую статью двадцатилетней давности исходило от Т.Бек, которой я сначала сопротивлялся, а в итоге благодарен. Готовя старую рукопись для “Вопросов литературы”, я не стал ее переделывать, лишь убрал лишнее и немного добавил там, где захотелось уточнить. Эти уточнения постфактум введены в основной корпус статьи, но выделены курсивом. *** Наверно, у каждого из нас имеется какое-то представление о хороших и плохих стихах. Иные даже считают свой личный взгляд на стихи выражением хорошего вкуса, который, как им кажется, существует объективно. Такие люди проявляют наивность — хороший вкус многолик. Выбор любимой поэзии, как любое другое проявление личного вкуса, совместим с широким разновкусием, когда иновкусие вовсе не сводится к дурновкусию, то есть плодам дурного воспитания. Если что и существует объективно, так это генетически обусловленные различия между людьми на уровне психики. Их, этих различий, уже достаточно для того, чтобы единый хороший вкус стал принципиально невозможным. Но и сознавая эти простые истины, не перестаешь удивляться неприятию Слуцкого. Какой только напраслины не возводили на его поэзию. В ней-де нет чувств. В действительности в стихах Слуцкого, как правило, отсутствуют названия чувств. Спору нет, обозначить чувство названием было некогда рутинной практикой изящной словесности. Но это, мягко говоря, пройденный этап. И разве вывеска с названием чувства ценнее, чем оно само? Это как раз тот случай, когда особенно заметна зависимость восприятия от психотипа. Иной читатель — даже любитель поэзии, даже знаток стихов, даже большой поэт — конституционно близок к обаятельному киноперсонажу Рейнману, имя которого более знакомо по дурацкому переводу — “человек дождя”. Тот, если помните, встал как вкопанный посреди уличного движения, потому что увидел слово “стой”. И, тяжко страдая душой безутешной, Не в силах смотреть я на свет и людей... Написано — значит, страдает. В непостижимом этом взоре, Жизнь обнажающем до дна, Такое слышалося горе, Такая страсти глубина! Значит, горе. Приведу еще одну цитату из той же серии: “И задрожавшие уста /“Бог с ней!” невнятно лепетали”. Невозможно не привести, уж больно хорош контекст. “Мне его поэзия, — пишет о Слуцком Александр Кушнер, — казалась сильной, но топорной, неуклюжей, и была даже какая-то привлекательность в этой неуклюжести и отсутствии полутонов... Чего не было, того не было. “И задрожавшие уста / “Бог с ней!” невнятно лепетали”. Невозможно и представить, чтобы Слуцкий, я не говорю уже о других, менее талантливых мастерах советского поэтического цеха, мог что-нибудь “пролепетать” “дрожащими устами”. У них и стихов о любви-то нет, а если есть, то какие же они все молодцы и умельцы в этом победоносном деле!” [Кушнер А. Заметки на полях. // “Hoвый мир”, 1996, № 5, с. 214] Несправедливость этих слов ошарашивает. У Слуцкого, погибшего от любви и от стихов об этой любви, “и стихов о любви-то нет”! Но если разобраться, всё на месте. Вряд ли кто-нибудь рискнет утверждать, что Кушнер глух к стихам. Или что он несет околесицу из-за внезапной атрофии своего чудесного чувства юмора. Здесь другое — простодушие. Кушнер чудесно простодушен. Слуцкий у него (на той же странице) виноват даже в том, что он, Кушнер, “приезжая в Москву, иногда... приходил к нему” (Слуцкому) на квартиру показывать свои стихи, хотя знал, что они (стихи) ему (Слуцкому) не близки (“как раз наоборот — чужды”). Сколько же надо иметь простодушия, чтобы вменить Слуцкому в вину его, Кушнера, понятно зачем, визиты. Чистый сюр! Характер у Слуцкого, по Кушнеру (предыдущая страница), “если и был сильный, то подточенный изнутри особого рода безумием”. Как это контрастно по сравнению с тем, что пишут люди, которым хватило доброты и времени понять Слуцкого-человека. Давид Самойлов, познакомив Слуцкого с новой женой, которую шокировали “его быстрые короткие вопросы (кто это ставит их так сразу и в лоб?)”, успокоил ее после ухода друга: “Не обращай внимания, он стеснялся не меньше твоего”. Резкий, определенный, прямо-таки бронированный Слуцкий — застенчив? Быть того не может! Однако было. Потом, при налаженном общении, я и сама ощущала за отшлифованной формой поведения нечто иное, глубинное. Порой как бы помимо воли проглядывала такая голубоглазая нежная беззащитность, какая бывает лишь у детей и у поэтов” [Медведева Галина. Жгучая сила. // “Знамя”, 1999, № 5, с. 110—113]. Именно простодушие не дает Кушнеру заподозрить, что проблема в нем самом. А как все сразу встанет на места, если это признать. Ну не способен Кушнер внимать поэзии определенного типа — так ведь все мы такие, и Слуцкий такой, и он не безграничен в понимании поэзии, ограниченность Слуцкого тоже может кого-то ошарашить. Вот запись 1958 года в “Рабочих тетрадях” кинорежиссера Г.Козинцева: “Приходил Слуцкий. Он, как и Эренбург, не только не любит, но и попросту не понимает “Поэму без героя”. “У Ахматовой, — говорит он, — вероятно, был ключ, а я, человек достаточно искушенный в поэзии, не смог его отыскать”” [Цитирую по публикации Б. Фрезинского: “Вопросы литературы”, 1999, № 3, с. 304]. В отличие от Кушнера Слуцкий вину за непонимание берет на себя. Коли нет чувства, значит — стихи от ума. Тут и вовсе смешение понятий. На самом деле стихи не становятся хуже от того, что поэт умен. Напротив, это придает им оригинальность (что справедливо заметил Пушкин, говоря о Баратынском). Хорошо, когда стихи отмечены чем-то своим. У Баратынского ум, у кого-то его отсутствие, в итоге — специфическая прелесть. Среди современных поэтов мне известны два, суждения которых, как правило, выделяются глупостью, и что же? Один из них общепризнанно талантлив, его стихи по-своему хороши. Вряд ли придуманными мыслями можно заменить поэзию (что с очевидностью демонстрируют провальные вещи того же Баратынского), но не станем же мы утверждать и обратное — будто ум противопоказан поэзии. Да, Борис Слуцкий был умным, образованным человеком, так что его стихам органически трудно выглядеть глупыми или малограмотными, но ум и образованность присутствуют в них не вместо чувств, а вместе с чувствами. С особым усердием писали, что стихи Слуцкого неблагозвучны. Дескать, нет в них красоты, которая, дескать, по определению присуща настоящей поэзии. Красота красоте, однако, рознь. Мусоргский был неблагозвучен для тех, кто считал, что красота исчерпала себя в музыке Верди. Но в свое время и Верди был встречен неодобрением. Да и к Мусоргскому со временем привыкли, но неблагозвучными объявлялись другие — Прокофьев, Шостакович... А музыка живет себе, живет — и никому ничем не обязана. Мне кажется, что переизбыток отрицания достался Слуцкому отчасти потому, что в его поэтике присутствует нетривиальная черта, к которой и хочу привлечь теперь внимание. Коротко об этом можно сказать так: у Слуцкого изощренные средства, но они замаскированы, не лежат на поверхности, притворяются отсутствием или неумелостью средств. Не знаю, есть ли для этого название у литературоведов. Меня бы устроило слово скрытопись. Поэтика Слуцкого криптографична. *** Для читателей моего поколения, чье детство совпало с войной, а юность с послесталинской оттепелью, Слуцкий был из тех, кого называют властителями дум. Мы жили его стихами — знали их на память, добывали где только могли, переписывали. Началось это внезапно. С полной уверенностью утверждаю, что не только мои школьные друзья, но и те, с кем вместе в 1948—1953 годах я учился на биофаке Московского университета, не имели ни малейшего понятия о существовании поэта Бориса Слуцкого. Сказать об этом важно вот почему. Позднейшая мифология изображает нашу юность (а также юные годы наших отцов) неким культурным провалом. Интерес к настоящей поэзии якобы возник только после двадцатого съезда. Действительность — по крайней мере та, о которой я могу судить по личному опыту, — была несколько иной, и поэзию Слуцкого мы не знали просто потому, что в то время ее не знал никто. А вообще-то интерес к поэзии был наиживейшим. Да, в тогдашней школьной программе отсутствовали имена нескольких великих поэтов, но сохранившихся имен, от Державина до Маяковского, было достаточно, чтобы добросовестный учитель мог привить своим ученикам интерес и любовь к поэзии. Учителя же подчас бывали не просто добросовестны — смелы. Помню, ребята из параллельного класса хвастались знанием Блока, которого они в огромном объеме получали, вопреки программе, от своего учителя литературы. Я завидовал, и еще в школе неплохо усвоил Блока благодаря этому плохому чувству. Даю и такое свидетельство: в годы сталинщины нерушимо сохранялись позиции поэзии в домашних библиотеках. Блок, Гумилев, Есенин, Пастернак — все открыто стояли на книжных полках в моей родовой коммуналке, где жило восемь семей, а двери не запирались. Ахматова стояла. Стояли даже книги “белоэмигранта” Мережковского (правда, это была проза). Примерно такой же была картина книжных полок в домах у друзей отца. Так что напичканы мы были вовсе не рифмованными лозунгами комсомольских стихотворцев, как это кому-то представляется. Пусть не у всех, но все-таки у достаточно многих сверстников было приличное знание отечественной поэзии. А в университете нас ждал замечательный устный стихообмен. Мне уже доводилось писать о том, что много нового для себя я освоил уже на первом курсе биофака с голоса друга-однокурсника Валерия Шатерникова. Это были неизвестный мне до того Иннокентий Анненский, невнимательно прочитанный в школьные годы Гумилев, поэма Андрея Белого и кое-что другое. Из сказанного не следует, что мы были из каких-нибудь, не приведи господь, элитарных или хотя бы литературных семей. Отец Валерия погиб в московском ополчении, когда сыну было едва за десять, мать работала в биологической библиотеке. Мой, вернувшись с войны, преподавал географию, чем занимался и до окопов. Стихи стояли на книжных полках потому, что их читали и дарили, так было принято. Если не ошибаюсь, отец лишь однажды, усадив меня рядом, взял с полки томик и почитал вслух. Это был Багрицкий. Впечатление оказалось сильным, дальше я стал исследовать полку самостоятельно, а потом научился пополнять ее сборниками стихов, купленными в книжной лавке. В ходе этих исследований я нашел, прочитал и полюбил стихи Ильи Эренбурга. Не раннего Эренбурга эпохи “снобистского графоманства вокруг литературы”, а Эренбурга, преображенного испанской войной 38-го года. Думаю, что воспринять и полюбить Слуцкого легче всего было тем, кто знал поэзию Эренбурга. Более того, думаю, что Эренбург оказал сильное влияние на самого Слуцкого, на его перо. Как известно, Слуцкий и друзья его юности жили под знаком предстоящей битвы с фашизмом. А испанская война сделалась первым прямым столкновением человечества с фашизмом — столкновением с крайне болезненными результатами, поскольку антифашистская солидарность оказалась в нем слабее фашистской. Это благоприятная ситуация для повышенного внимания к стихам, то есть и к тому, как они написаны. А как написан испанский цикл Эренбурга? Доминируют прозаизмы. Ни слова напрямую о чувствах — поэт лишь конструирует ситуацию, в которой читателю дается возможность реализовать собственные духовные ресурсы. Только возможность, не больше, чувство дай свое. В этой системе стихосложения важно, чтобы художественные средства не попадались на глаза. Кое-что из Эренбурга той поры до сих пор помню на память. *** Уподоблю скрытопись Слуцкого движениям птицы с мнимо раненым крылом. Прикидываясь неспособной летать, она уводит человека или зверя от гнезда и тем достигает нужного результата. В действительности ковыляющий полет есть результат совершенной координации, но эта мысль не должна приходить в голову тому, кто, завороженный зрелищем беспомощности, преследует обманщицу. Так и читателю ни к чему понимать технику стиха, отвлекаясь от главного. Здесь требуется пояснение. Мнимо раненая птица не притворяется раненой. Просто в ее поведенческом репертуаре есть такая программа — изображать калеку. Программа эта, насколько я понимаю, врожденная, она приводится в действие определенной сигнальной ситуацией. Хотя пернатые обладают интеллектом (иные — порядочным), изображение из себя калеки происходит без участия ума. Точно так же поэтика Слуцкого не была, я думаю, основана на разумном выборе и трезвом расчете. Она, включая скрытопись, просто соответствовала творческому естеству поэта. Писать стихи, щеголяя великолепием художественных средств, Слуцкий просто не мог бы, хотя у многих стихотворцев это получается. Скажу так: явность приемов была этически неприемлемой для его эстетики. В принципе скрытопись так же доступна анализу, как нейрофизиологические механизмы ковыляющего полета. Неявные приемы, пусть не так легко, как явные, можно выявить, — были бы мягкие нравы и какой-никакой профессионализм. Но именно этого не хватало недоброжелателям Слуцкого. Не видя, но ненавидя, как за забором пес, он в наилучшем виде облаял меня, понес. Моталась цепная злоба, тяжелой цепью звеня. Не видя — глядела в оба, облаивала меня. Облаивала, обливала презреньем через забор, горела и не истлевала, наверно, горит до сих пор... Конечно, отрицание стихов, написанных нестандартно, не всегда сводилось к “облаиванию через забор”, то есть к нежеланию прочесть, вчитаться. Иным критикам поэта просто не хватало культуры признать “не мое” объективной ценностью. Такой, пыхтя, бежал за мнимо слабеющей птицей, пытаясь накрыть ее своей дурацкой шляпой и уговаривая себя, что этой калеке небес сроду не видать, потому что она и рифмовать-то толком не умеет. Плата за мастерство. *** Вот стихотворение “Память”. Оно из первого сборника поэта, который так и назывался — “Память”. С него, увидевшего свет в 1957 году, началась череда обвинений в бесчувственности и немузыкальности. Стихотворение естественно делится на три части, прочитаем первую: Я носил ордена. После — планки носил. После — просто следы этих планок носил. А потом гимнастерку до дыр износил И надел заурядный пиджак. А вдова Ковалева все помнит о нем, И дорожки от слез — это память о нем, Столько лет не забудет никак! И не надо ходить. И нельзя не пойти. Я иду. Покупаю букет по пути. Конечно, если заранее вбить себе в голову, что стихи должны (обязаны!) содержать яркие образы, звучные рифмы, свежие метафоры и глубокие мысли, то здесь поживиться нечем. Глубокомыслием не пахнет, образов и метафор не видно, рифма наибеднейшая. Про чувства лирического героя ни слова. Единственный восклицательный знак выпадает из ряда, — подозреваю, что его поставил редактор В.Сякин, чтобы было не так пресно. Хорошо. Теперь забудем про априорное. Уместен ли лирический герой? Из сорока стихотворений сборника восемь начинаются местоимением “я”, и это всегда “я” в прямом смысле слова. “Я на медные деньги учился стихам”, “Я рос в тени завода”, “Я засветло ушел в политотдел”, “Я говорил от имени России” и так далее. Можно не сомневаться, это он, Слуцкий Б.А., а никакой не лирический герой, говорил от имени России, он стоял “перед шеренгами неплотными, рассеянными час назад в бою”. “Я” это “я”. Существенно. Перечитаем отрывок еще раз, медленно. О движении времени, как и о чувствах, вроде бы не сказано ни слова. Но отчего мы физически чувствуем его державный шаг? “Я носил ордена”. Две стопы, шесть слогов стихотворного текста. “После — планки носил”. Еще две стопы, слегка удлиненные паузой, которую велит сделать тире. Первые послевоенные годы — годы ношения орденских планок — были для демобилизованного целой эпохой: ищи, солдат, собственное место в новой системе координат. Планки имели сигнальное значение, по ним узнавали своих. Скажем, только общая планочка позволяла обнять друг друга тем, кто уцелел при штурме Кенигсберга. Или при обороне Ленинграда. Даже мы, юнцы, умели наметанным глазом вмиг отличить добытую в бою серенькую, с голубым перехватом, планочку от почти такой же, но с желтым перехватом, которую можно было заработать подальше от окопа. Вот так... Следующая эпоха — уже четыре стопы. Время утяжеляется, становится все менее орденоносным, все более будничным. И вот волна времени набегает в последний раз. Длительность стихотворного периода снова удваивается, теперь на него уходят целых две строки. Впрочем, не совсем целых, восьмая стопа отсутствует, строка резко оборвана. Выходит — стоп, приехали. В заурядном пиджаке, уравнявшем ветерана великой войны с прочими согражданами, собираемся к вдове Ковалева. Это только часть поэтических средств, которыми выражена картина перехода из победного сорок пятого в послевоенную жизнь. Отметим: ничто не названо — ни год, ни эпоха. Движение времени передано простыми реалиями собственного будничного облачения, а пуще — музыкой стиха. Наряду с удлинением периодов здесь работает состыковка повторных ладов: Следыыы.. До дыыыр... Носил — носил — носил — износил — надел... Изощренное мастерство. А что на поверхности? — бедная рифма, нуль патентованных средств. И ведь невозможно подставить на место бедной рифмы богатую — структура развалится, музыка умрет. А для вдовы Ковалева время не двигалось. Про это тоже не сказано в лоб, а много ли нужно, чтобы читателю самому понять, когда и отчего оно остановилось? И не надо ходить. И нельзя не пойти. Я иду. Покупаю букет по пути. Всё, первые десять строк позади. И что, что-нибудь непонятно? Вы считаете, что надо было объяснить, почему нельзя не пойти? Нет, вы так не считаете. Вы тоже, наверно, пошли бы навестить вдову погибшего фронтового друга и купили бы по дороге цветы. Спасибо. Но тогда нам с вами придется осознать, что самое трудное у нас впереди. Ковалева Мария Петровна, вдова, Говорит мне у входа слова. Ковалевой Марии Петровне в ответ Говорю на пороге: — Привет! — Я сажусь, постаравшись к портрету спиной… Сколько уже лет прожито со стихотворением “Память”, а все не умею прочесть это место невозмутимо. Представляю, как обливался тут слезами суровый Слуцкий. А что делать, не поплачешь — не напишешь. Он и не скрывал, что плачет, когда пишет. Не он один такой. Я сажусь, постаравшись к портрету спиной, Но бессменно висит надо мной Муж Марии Петровны, Мой друг Ковалев, Не убитый еще, жив-здоров. И в этой части стихотворения (условной, конечно, части) нет речи про переживания. Можно не проверять — дальше автор тоже не уронит себя отвлеченными понятиями, обозначающими названия чувств. Он вообще не говорит лишнего, и это тоже скрытый знак мастерства. Как описан разговор у входа? Мария Петровна говорит слова. Какие? Предполагается, что читатель не дурак и сообразит, какие слова произносятся в этой ситуации. Точно так же нормальному человеку не нужно объяснять, почему, придя к вдове погибшего товарища, норовишь сесть к его портрету спиной. Не будем читать до конца. Кому это генетически чуждо, тот все равно ничего не поймет, а кому захочется, тот найдет, прочитает и, надеюсь, полюбит. *** Говоря о мастерстве, следует сразу оговориться, что поэтика Слуцкого, обладая некоторыми индивидуальными чертами (приоритет этического над эстетическим, скрытопись), вместе с тем жестко ограничена рамками литературной традиции, которую более или менее точно называют школой Хлебникова. Многое встает на место, если уяснить это обстоятельство. Скажу для примера, что было бы напрасным трудом искать в огромном стихотворном наследии поэта такие стихи, посредством которых он излагает некоторую позицию, доносит мысль, идею. Нет у Слуцкого таких стихов, ибо в рамках школы Хлебникова запрет на это наложен самим механизмом поэзии. Сознаю, что выражение “механизм поэзии” заставит многих покривиться. Куда красивше говорить о тайне поэзии, о том, что стихи не сочиняются, а диктуются поэту откуда-то свыше. Ну, красивше. Я тут не вижу противоречия. Мне тоже кажется, что стихи диктуются, но, на мой взгляд, это явление входит в механизм поэзии и доступно анализу: диктует-то ведь не ангел небесный, а актуальная стиховая ситуация. Притом даже исчерпывающий анализ не отменяет тайны. Ведь механизмы поэзии неисчерпаемы, а проанализировать мы можем только то, что уже написано. Как, посредством каких новых средств напишутся будущие стихи, — тайна, не поддающаяся разгадке. Идеализируя, можно сказать, что в русской словесности ХХ столетия работали два фундаментальных механизма поэзии. Рубеж между ними удобно провести по такому признаку, как статус мысли. Один механизм характеризуется тем, что мысль претекстуальна — она предшествует стихотворному тексту. Другой — тем, что мысль посттекстуальна — она родится из текста. В первом случае поэт поначалу загружается мыслью (не обязательно собственной), а затем подбирает к ней слова, чтобы выразить ее эуфонично, гармонично — “поэтично”. В ХIХ веке так писать стихи не считалось зазорным, о чем свидетельствует известная декларация кн. Вяземского: “Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе моем хочу сказать то, что хочу сказать”. В ХХ веке признаний такого рода уже, кажется, не найти, но механизм исправно работал — и даже в развернутой форме, когда исходно пишется прозаический план стихотворения. (С этого, по рассказам поэта Н.Старшинова, начинала работу над новым стихотвореньем Юлия Друнина.) Для другого механизма характерна обратная последовательность. Процесс похож на рождение кристалла в насыщенном растворе. Исходно сознание поэта загружено небольшой словесной затравкой. На ней с помощью фонетических, смысловых и иных скрепов монтируются другие слова, которые, войдя в состав текста, сами начинают вытаскивать из словаря пополнение, и в ходе такой самоорганизации словесного материала рождается мысль. Бродский, который называл такой процесс “самодвижением речи”, дал образец анализа в известной статье о стихотворении Цветаевой. Понятием “школа Хлебникова” пользовалась уже Цветаева, относившая к школе себя и любимых современников — Маяковского, Пастернака. На самом деле механизм самоорганизации стиха существовал у нас еще в фольклоре. Мне повезло найти красивый пример самоорганизации у Баратынского [См.: Сухарев Д. “Семантику выводим из поэтики”, или Самодвижение жизни и речи. Беседу вела Т.Бек. // “Вопросы литературы”, 1996, № 3]. Но все же в отечественной письменной поэзии это завоевание ХХ века. Я несколько упростил различия между двумя механизмами поэзии, сведя дело к статусу мысли. На самом деле различия всеохватны. С равным правом можно было бы говорить о статусе темы, образа, частных художественных средств. Вот немного примеров. В паре “мысль” и “мыс” слова близки по созвучию. Их можно зарифмовать, и точка. Но Слуцкий, вытянув из звуковой связи смысловую (что характерно для школы), идет еще дальше и строит на этой основе метафору. Мускулы мыслителю нарастил Роден, опустить глаза заставил. Словно музыка сквозь толщу стен, словно свет из-за тяжелых ставен, пробирается к нам эта мысль. Впрочем, каждый мыслит как умеет. Гений врезывает мысль, как мыс, в наше море. Потому что смеет… И опять: налицо мощно свинченный текст: стартовый дуплет МУСКУЛЫ-МЫСЛьУ, сквозная ось ударных сти-сти-ста-сте-ста, музыка в основе метафоры, — но присутствие сильной руки аккуратно затушевано, а на поверхности читателю подсунута до смешного убогая рифма “умеет — смеет”. Или такое: Нахлобученная, как пилотка на сократовский лоб волны, прямо вниз уходит подлодка, в зону сумрака и глубины… Из пары похожих слов, “подлодка” и “пилотка”, Слуцкий вытягивает метафору, а она тащит за собой то, что называют темой, даже мыслью стихотворения: как недурно бывает порой залечь на дно, отключив телефон — утопив перископ. Многие занимаются тем, что украшают стихи метафорами и сравнениями, но как по-разному это делают поэты! Вспомним любимые образцы другой поэтики: То, что мы зовем душой, Что, как облако, воздушно И блестит во тьме ночной Своенравно, непослушно Или вдруг, как самолет, Тоньше колющей булавки, Корректирует с высот Нашу жизнь, внося поправки… А.Кушнер Вспомним прославленные метафоры Олеши и Катаева. Совсем другая кухня — игра умища, зырк очей, и цирк, и пиршество речей. Слуцкий метафору не любил, пользовался этим тропом редко — когда деваться было некуда, когда метафора сама наводилась самосближением слов, как у собратьев по школе: “...и подползают поезда / лизать поэзии мозолистые руки”. Метафора для Слуцкого — слишком явный, слишком “поэтичный” прием, что противоречит его поэтике, то есть этике. Его стезя была иная: Не торопясь вязать за связью связь, на цыпочки стиха не становясь, метафоры брезгливо убирая... *** В понимании механизма поэзии Слуцкого ошибаются, как мне кажется, даже его поклонники. То они говорят о серьезности тем, которые-де поэт берет для своих стихов, отчего стихи становятся значительными. То о мыслях, кладущихся поэтом в основу его произведений. Я уже заметил, что все здесь совсем не так. Осталось аргументировать сказанное разбором. Почти любое стихотворение Слуцкого позволяет приблизительно реконструировать происхождение темы и мысли. Беру для этого рядовую вещь — не из лучших, но и не самую неудачную. Тан да Туган Тан-Богораз да Туган-Барановский. Тан да Туган. Туган да Тан. Все это — дальше эпохи барокко, в мареве — как половецкий стан. Все это было. Было и сплыло. Сгинуло, будто свеча оплыла. Тана ли мощь, Тугана ли сила, Тана дела и Тугана дела. Только в душе, как бубенчик серебряный, что почему-то в торгсины не сдан, треплется, плещется, мотается медленно: Тан да Туган, Тан да Туган. Стихи лучатся печалью, но сразу и не скажешь, о чем они. Понимать смысл начинаешь по мере вчитывания, вслушивания в текст. При этом обнаруживается, что смысл таков, что его невозможно пересказать. Невозможно или крайне трудно. Да, конечно, что-то такое вспоминается, проходили, попадались эти имена, но очень давно. В детстве? В университете? Были, были такие деятели, но — когда? Перед войной? До революции? Политики? Ученые? Или один политик, а другой, кажется, ученый? Мирно угасли? Уничтожены? Или один сам усоп, другого расстреляли? Не помню, не знаю, я был малолетний. Вот торгсины помню, вернее, один торгсин на углу Петровки и Столешникова. А про этих деятелей ничего сказать не могу. Какая мощь? Какая сила? Но неуловимое, невыразимое и есть содержание стихотворения — его тема, его, если угодно, мысль. Отсюда и печаль. От смутного сознания, что люди, личности, персонажи истории, гремевшие когда-то, каких-нибудь два-три поколения назад, забыты, забыты безвозвратно, и имена их нам с вами уже ничегошеньки не говорят. А вытянута эта тема, сотворено это содержание из перезвона двух забавно похожих имен. Кого только нет в наигорчайшем мартирологе начала ХХ столетия, а вот попались под руку две фамилии, сопряглись в бренькающем перезвоне и потянули за собой все остальное. Остальное же, что ни говорите, всего лишь дело техники. Технические приемы в этой вещи, как вообще у Слуцкого, преимущественно скрытые. Задержу внимание на нескольких, которые были им особенно любимы. Слуцкий охотно скрепляет стиховую ткань соседством слов, которые, будучи похожими в иных отношениях, различаются позицией ударения. Здесь: сплЫло-оплылА. В отличие от классической рифмы, звуковая близость таких слов не бросается в глаза, а свою связующую функцию они выполняют. Музычка! Протопочи, мужичка, про свои привычки! И как панна — поведи плечами про свои печали! Помните: было это и в стихотворении о цепной злобе пса-критика: облАивала, обливАла... Смысловой связи между этими фонетическими близняшками кот наплакал, но Слуцкий ее виртуозно извлекает из ресурсов языка: она (злоба) облаивала, обливая презрением. Вот еще несколько примеров — из стихов на смерть жены. (Не будем отчаиваться оттого, что о высоком, трагическом и низком, техническом приходится говорить одновременно; в творческом процессе одно неотделимо от другого, за что и приходится в конечном счете расплачиваться). Жена умирАла и умерлА — в последний раз на меня поглядела, — и стали надолго мои делА, до них мне больше не было дЕла... Из другого: Мой товарищ сквозь эту потерю прошел лет пятнадцать назад, и он вспомнил, как выход нашел: — ТелевИзор купи, — говорит, — телевИзор и сиди вечерами, вперив в него взОр, словно ты в доме отдыха ревизОр или провинциальный провИзор. Кроме подчеркнутых мной достаточно явных средств укрепления ткани, здесь же находим потаенное единение слова “вперИв” с разноударной парочкой “провинциАльный провИзор”. А на поверхности, о чем можно бы уже не говорить, читатель обнаруживает рифму “нашел—прошел” и сиротливое наречие “назад”, зарифмовать которое поэту (шутка), по-видимому, не хватило техники. О близком приеме, тоже фольклорного происхождения, писала в уже цитированной статье “Расшифруйте мои тетради…” Татьяна Бек: “Поэт с будетлянской настойчивостью любил сталкивать однокоренные слова, тем самым их остраняя и смысл укрупняя”. Ей вторил поэт Александр Аронов: “Прорывая ткань покрова, ритма, рифмы, мастерства, вдруг просвечивает Слово через темные слова. Рыба прорывает сети, прорываясь до реки, потому что рифмы эти, как и ритмы — пустяки. Что за странная лексика: “прорывает... прорываясь”? Ощущение мускульного усилия, работы по добыванию тяжелого минерала правды” [Аронов Александр. Власть стиха. // “Московский комсомолец”, 1987, 24 июня]. Концентрация однокоренных слов, переносы ударения, — этому, как и многому другому, Слуцкий учился у фольклора, о котором знал не понаслышке. Из рабочей тетради Слуцкого. “Украинский крестьянин, сочинивший четверостишие о казаке, не только дерзко изменял ударения, не только дал глубокие рифмы и т.д., но дерзнул и на то, чтобы ласкательный, уменьшительный суффикс, естественный в слове “дiвчинонька” (девченушка) и в определении этой “дiвчиноньки” — “чорнобривенька”, употребить и в слове “война”. “Вiйнонька”, то есть войнушка, войночка! Так сказать, подчинить любви войну даже в грамматическом отношении. Был ли в те времена на Украине книжный поэт, равный ему по таланту и дерзости? Не было” [Слуцкий Борис. “А вдруг найдется нота громовая?” // “Литературная газета”, 1986, 3 сентября]. Далее хочу привлечь внимание к слову “торгсины”, вернее, к тому факту, что это слово выполняет в стихотворении несколько функций. Во-первых, оно знак эпохи, ушедшей навсегда. Расшифровывалось так: ТОРГовля С ИНостранцами. В магазинах системы “торгсин” можно было сдать государству уцелевшие ценности (помню, мои родители сдали ложки) и на вырученные деньги купить что-то заграничное — то ли тряпье, то ли жратву. Во-вторых, торгсины здесь работают на создание безотчетного представления об истаивающей памяти, и в этой функции они сочетаются с почему-то еще не сданным серебряным бубенчиком. Наконец, слово “торгсины” скрытно свинчено с именем “Туган” (т-г-н) и тем укрепляет структуру. Придание слову множественных функций — черта развитой поэтики; у Слуцкого это сплошь и рядом. Кому это интересно, пусть попробует самостоятельно разобраться, какие нагрузки несет слово “барокко”, которое в стихотворении прикидывается всего лишь вялой рифмой к “Барановский”. К излюбленным приемам Слуцкого относятся и тройные повторы, как в случае “треплется, плещется, / мотается медленно”. Иногда (как здесь) они применялись для усиления стиха синонимами, в других случаях — для рассмотрения предмета с разных сторон, для упрочения строфы... Можно сказать, что Слуцкий, подобно Богу из поговорки, просто любил троицу. Две строфы из еще одного стихотворения на смерть жены. Ночью по нескольку раз прислушивался: спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль? Не было в длинной жизни лучшего, чем эти жалость, страх и любовь. Чем только мог с судьбою расчитывался, лишь бы не гас язычок огня, лишь бы еще оставался и числился, лился, как прежде, твой свет на меня. Здесь же находим знакомую разноударность: чИслился-лИлся. Прием использован с исключительной деликатностью, он совершенно незаметен, а между тем слово “лился”, участвуя и в тройном повторе ударного “ли” (лишь-лишь-лился), оказывается важным связующим элементом для материала, из которого сложилась строфа. Теперь, когда мы уяснили, по каким правилам притягивались друг к другу слова и каким способом возникло содержание в стихотворении “Тан да Туган”, посмотрим, как легко все это свести на нет. Для этого нужно всего лишь прочитать стихотворение иначе — как деловую прозу, содержание которой исчерпывается словарными значениями и логическими связями слов. Именно так многие люди, в том числе, увы, литераторы, читают стихи. При таком прочтении стихотворение приобретет иной смысл (если это можно назвать смыслом), его можно будет переложить другими словами, даже на другом языке. Выяснив с помощью энциклопедического словаря, что М.И.Туган-Барановский (1865—1919) был одним из видных представителей так называемого (да, да, так называемого) легального марксизма, и немного поднатужившись, мы, даст Бог, сумеем сформулировать, какой теме поэт решил посвятить это произведение и какую мысль о легальном марксизме он попытался выразить. А поэзии не будет. Не будет поэзии. Так что разговор о механизме поэзии окажется ненужным. *** Тем не менее продолжу долдонить свое. Так вот, возвращаясь к механизму, посредством которого сработаны стихи Слуцкого, хочу сказать, что в нем есть как общее, так и частное. Про общее для школы Хлебникова я коротко сказал. Сказал и про некоторые общие черты поэтики Слуцкого — про приемы, которые он особенно любил и часто применял. Вместе с тем в стихотворной технике Слуцкого есть такое, что уникально для какого-то одного стихотворения. Но и в этих случаях прием остается в рамках школы. Так, в стихотворении “Тане” боль по ушедшей, утаенная в словах, прорывается стоном гласных. Этот стон, этот сдержанный вой, обозначившись в первой строфе, достигает высшей силы во второй: е-е-е — а-а-а, е-е-е — а о-о-о — е-е, о — е-е-е-е-е е-е-е Неправдоподобно: восемь слогов подряд звучит единственная гласная — полузакрытое “е”. Мучительное, сдавленное. Это высший пилотаж, о чем ни один читатель не должен даже подозревать. И ни к чему ему знать, чем оплачиваются такие стихи. Заденут душу — и спасибо. Могут не задеть, ведь напрямую, словами, о боли не сказано ни слова. (Для такого читателя Слуцкий останется бесчувственным.) А собирать слова вокруг затравочного сочетания из двух имен, похожих фонетически и зрительно, как в стихотворении “Тан да Туган”, это случай частный, но не уникальный. Вспомним, что с того же начинались приведенные выше метафоры. И в цитированном стихотворении “Пес за забором” все началось, скорее всего, с пары “не видя — ненавидя”: одно из слов навело возле себя другое, похожее, после чего круг лексических и сюжетных возможностей резко сузился, так что дальнейшее могло писаться как бы автоматически, под диктовку. Вот навскидку еще несколько названий: “Джинсы и дилижансы”, “Не солонина силлогизма...”, “Отечество и отчество”, “Мариетта и Маргарита”... И все же это пусть похожие, но единичные случаи, а стихов у Слуцкого тысячи. Значит, были другие способы движения от слова к теме. Их много, ибо здесь значимы все свойства слова — от словарного до несловарного значения, от звучания до начертания, от числа букв до связанных со словом ассоциаций. Все работает на создание смысла, все помогает рождению темы. Это только кажется, что тема лежит на поверхности. На самом деле, пока нет подходящих слов, нет и темы, какими бы сильными ни были побудительные мотивы. Скажем, для Слуцкого очень многое значили имена Михаила Кульчицкого, Павла Когана, других погибших на войне друзей его литературной юности. Но ни верность дружбе, ни горечь потери, ни готовность снова и снова напоминать людям о дорогих товарищах недостаточны. Все это необходимо, но в этом нет ответа на вопрос, о чем и каким быть стихотворению. Ответ извлекается из работы со словом. Павел Коган. Что извлечь из вчитывания, вслушивания в это имя, что приходит на ум при его повторении? Приходит пустяк — наблюдение, что оно четко уложилось в две стопы хорея. Немного, но и немало. Павел Коган, это имя уложилось в две стопы хорея. Пока всего лишь зафиксировано сделанное наблюдение. Но с этим можно работать дальше. Это уже какая-никакая структура. Есть за что зацепиться, и очевидны возможности для расширения плацдарма. Павел Коган, это имя уложилось в две стопы хорея. Больше ни во что не уложилось. “Уложилось — не уложилось”. Это больше, чем структура, — противопоставление. Чего чему? Не уложилось, не поместилось, не влезло... Из литературы, из окопа вылезала эта голова. Ну вот, дело сдвинулось. Дальше будет легче. В итоге работы родилось большое стихотворение. А началом, затравкой было всего лишь имя — две стопы хорея. У поэтов принято обижаться, когда им говорят, что они занимаются игрой в слова. Я не вижу здесь причины для обид. Поэзия и есть игра в слова. Просто эта игра кровавая. За стихи памяти Тани Слуцкий заплатил остатком здоровья, одиноким и безлитературным остатком жизни. А так все правильно: игра. *** Давно это было, году в 57-м или около того, — Слуцкий пришел к нам в университет на лито. Собирались мы в помещении вузкома комсомола за длинным столом, предназначенным для более серьезных дел, чем наши легкомысленные литературные собрания. Вид у Слуцкого был, однако, самый деловой, он сел во главе стола и велел: “Читайте”. Мы оробели, но прочитали по стихотворению. По кругу, как положено. Слуцкий молча и так же мрачно выслушал. Поразмышлял немного. Может быть, обдумывал программу. А скорее, ему нужна была пауза. — Лошади умеют плавать, — вдруг сказал он пресным голосом. Таким голосом и с таким выражением лица уместнее было бы объявить, что лошади кушают овес. — Но — не хорошо. Недалеко. “Глория” по-русски значит “слава”. Это вам запомнится легко. Я уже знал эти стихи, уже любил. Но на лице у сидевшего напротив изобразилось недоумение: это — поэзия?! Парень только что поступил на геофак, приехал издалека, пробовал сочинять по-русски и на своем родном белорусском. Между тем Слуцкий продолжал ровным протокольным голосом: Шел корабль, своим названьем гордый, Океан старался превозмочь. В трюме, добрыми качая мордами, Тыща лошадей топталась день и ночь. И так до самого конца великого стихотворения. Без эмоций. Без аффектации, завываний, шаманства, даже без подъема голоса. До самых последних слов: “Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли”. Все-таки. Белорус поднялся со стула, снова сел, встал, его колотило. “Я не понимаю, — повторял он, мучительно поворачивая голову из стороны в сторону, ища то ли помощи, то ли сочувствия. — Я не понимаю”. Он что-то хотел объяснить о себе, но не умел. Его колотило, а он не понимал, в чем дело. Не знал, как это назвать. Погибли кони — эко диво, в Белоруссии погиб каждый четвертый человек, в каждой семье погибли, а тут лошади, но стихотворение и не взывало страдать по этому поводу, хотя и коней все-таки жалко, так и сказано. Вот и все. Всего-то. Главное, не было в стихотворении ничего такого, чем должна пробирать настоящая поэзия. Ни звуков сладких, ни молитв. Даже образов не было, а ведь объявлено, что образы — основа основ. Колотило против правил. *** …Говорили: непохож! Хорош — этого никто не говорил. Собственную кашу я варил. Свой рецепт, своя вода, своя крупа. Говорили, чересчур крута. Как грибник, свои я знал места. Собственную жилу промывал. Личный штамп имел. Свое клеймо. Собственного почерка письмо. Есть вариант последнего трехстишия: Собственную жилу промывал. Личный штамп имел. Свое клеймо. Ежели дерьмо — мое дерьмо. Тоже красиво. 1987—2002 “Вопросы литературы”, 2003, № 1 http://magazines.russ.ru/voplit/2003/1/suh.html