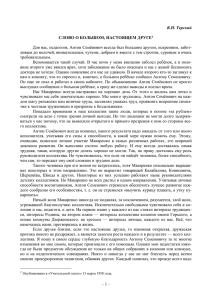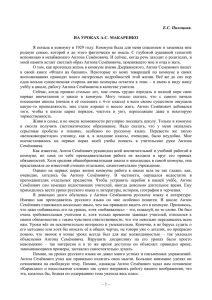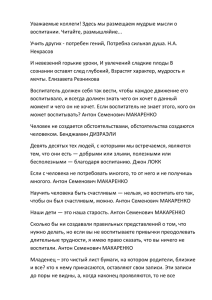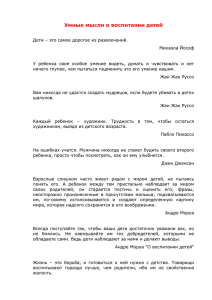Воспоминания о А.С.Макаренко - А.С.Макаренко, электронный
реклама
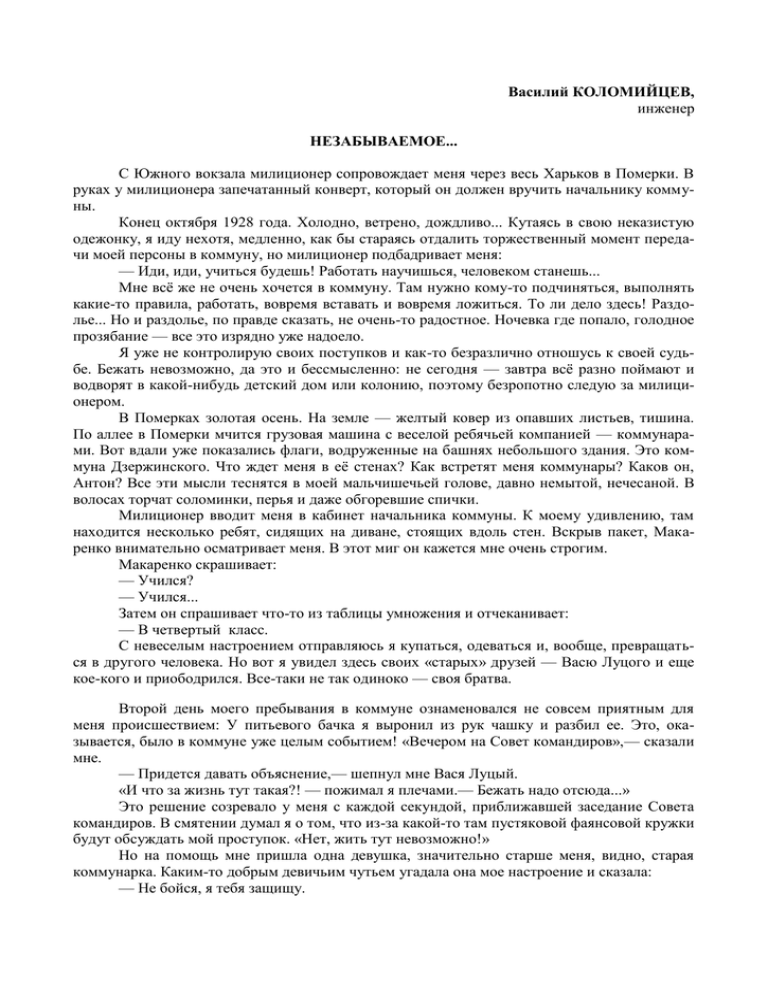
Василий КОЛОМИЙЦЕВ, инженер НЕЗАБЫВАЕМОЕ... С Южного вокзала милиционер сопровождает меня через весь Харьков в Померки. В руках у милиционера запечатанный конверт, который он должен вручить начальнику коммуны. Конец октября 1928 года. Холодно, ветрено, дождливо... Кутаясь в свою неказистую одежонку, я иду нехотя, медленно, как бы стараясь отдалить торжественный момент передачи моей персоны в коммуну, но милиционер подбадривает меня: — Иди, иди, учиться будешь! Работать научишься, человеком станешь... Мне всё же не очень хочется в коммуну. Там нужно кому-то подчиняться, выполнять какие-то правила, работать, вовремя вставать и вовремя ложиться. То ли дело здесь! Раздолье... Но и раздолье, по правде сказать, не очень-то радостное. Ночевка где попало, голодное прозябание — все это изрядно уже надоело. Я уже не контролирую своих поступков и как-то безразлично отношусь к своей судьбе. Бежать невозможно, да это и бессмысленно: не сегодня — завтра всё разно поймают и водворят в какой-нибудь детский дом или колонию, поэтому безропотно следую за милиционером. В Померках золотая осень. На земле — желтый ковер из опавших листьев, тишина. По аллее в Померки мчится грузовая машина с веселой ребячьей компанией — коммунарами. Вот вдали уже показались флаги, водруженные на башнях небольшого здания. Это коммуна Дзержинского. Что ждет меня в её стенах? Как встретят меня коммунары? Каков он, Антон? Все эти мысли теснятся в моей мальчишечьей голове, давно немытой, нечесаной. В волосах торчат соломинки, перья и даже обгоревшие спички. Милиционер вводит меня в кабинет начальника коммуны. К моему удивлению, там находится несколько ребят, сидящих на диване, стоящих вдоль стен. Вскрыв пакет, Макаренко внимательно осматривает меня. В этот миг он кажется мне очень строгим. Макаренко скрашивает: — Учился? — Учился... Затем он спрашивает что-то из таблицы умножения и отчеканивает: — В четвертый класс. С невеселым настроением отправляюсь я купаться, одеваться и, вообще, превращаться в другого человека. Но вот я увидел здесь своих «старых» друзей — Васю Луцого и еще кое-кого и приободрился. Все-таки не так одиноко — своя братва. Второй день моего пребывания в коммуне ознаменовался не совсем приятным для меня происшествием: У питьевого бачка я выронил из рук чашку и разбил ее. Это, оказывается, было в коммуне уже целым событием! «Вечером на Совет командиров»,— сказали мне. — Придется давать объяснение,— шепнул мне Вася Луцый. «И что за жизнь тут такая?! — пожимал я плечами.— Бежать надо отсюда...» Это решение созревало у меня с каждой секундой, приближавшей заседание Совета командиров. В смятении думал я о том, что из-за какой-то там пустяковой фаянсовой кружки будут обсуждать мой проступок. «Нет, жить тут невозможно!» Но на помощь мне пришла одна девушка, значительно старше меня, видно, старая коммунарка. Каким-то добрым девичьим чутьем угадала она мое настроение и сказала: — Не бойся, я тебя защищу. Вечером меня вызвали на Совет командиров. Вся процедура обсуждения оказалась, в общем, не такой уж страшной. Просто ребята говорили, что в коммуне чашки бить нельзя — ведь все вещи здесь наши коммунарские. Но моя спасительница честно сдержала свое слово и пришла мне на помощь, сказав: — Я видела, как Вася разбил чашку. Он нечаянно её выронил из рук. Ребята великодушно простили мне разбитую чашку, и я остался в коммуне. Вскоре мне пришлось изменить свое мнение о Макаренко. Я убедился, что он вовсе не такой сердитый, каким казался вначале. Правда, мне это стало понятным значительно позже. Антон Семёнович никого к себе особенно не приближал, но и никого не отдалял. Он умел держать ребят на почтительном расстоянии от себя и в то же время никогда не был для них чужим человеком, запросто беседовал, шутил, смеялся, но в душу к себе, как говорится, никого не пускал. И всё же он был для всех нас очень близким человеком. С ним было тепло, спокойно, а главное, всегда интересно. Антон Семёнович вечно был полон новых идей, а нам, мальчишкам, ведь это только и нужно было! Очень близко я узнал Макаренко в драматическом кружке. Антон Семёнович сумел увлечь меня любительскими спектаклями. Он писал пьесы, сатирические обозрения, скетчи и даже частушки, сам ставил наши спектакли, причем тратил на это много времени. Не было ни одного выходного дня, когда Антон Семёнович не репетировал бы с драмкружком. У харьковских коммунаров и по сей день сохраняется фотоальбом о жизни дзержинцев. На одном из снимков Антон Семёнович запечатлен с группой драмкружковцев; в числе «артистов» нахожу и себя... Снимок этот многое мне напомнил... В бытность свою командиром отряда я часто сталкивался с Антоном Семёновичем по самым различным вопросам и каждый раз получал от него четкие, вразумительные, исчерпывающие ответы или указания. Впрочем, лишь один раз Макаренко отказался ответить на мой вопрос, и случай этот и по сей день остался для меня загадкой. Дело было вечером, коммунары разошлись по спальням. Как и обычно, Антон Семёнович делал обход. В нашей комнате группа ребят безуспешно решала тригонометрическую задачу. Когда на пороге спальни появился Макаренко, я спросил, как нужно её решить. Макаренко ответил: — Я двадцать пять лет назад это изучал. Сейчас я в десять раз хуже тебя знаю этот предмет... Возможно, Антон Семёнович действительно к тому времени забыл тригонометрию, возможно, спешил закончить вечерний обход и решил отделаться от моих приставаний, а быть может, (от Макаренко скорее всего можно было этого ожидать!) он хотел, чтобы мы сами решили задачу. Во всяком случае, я как-то мало верю в то, что Антон Семёнович «поотстал» в тригонометрии. Он хорошо знал программный материал рабфака и в случае отсутствия преподавателя математики мог его заменить. Каждый колонист и коммунар в своих рассказах об А.С. Макаренко обязательно подчеркивает его скромность. Об этом рассказывают подчас удивительные вещи, но и они меркнут в сравнении с действительным положением вещей. Мне несколько раз пришлось лично убедиться в щепетильности и личной нетребовательности руководителя коммуны. Нас кормили очень хорошо. Пища была вкусная, калорийная, обильная. Но где и как питался Макаренко, мы не знали. В нашей столовой он не ел, из кухни ему пищу на дом не носили, продуктов со склада не получал. Жил Антон Семёнович со своей старенькой матерью здесь же, на территории коммуны. Она и готовила нехитрый обед на маленькой печурке. Мы, группа мальчишек, часто забегали к ней днём в отсутствие Антона Семёновича, чтобы помочь нарубить дров или ещё что-нибудь сделать. Старушка нехотя и опасливо давала нам поручения. И она и мы понимали, что если узнает об этом Антон Семёнович,— будет сердиться. Однако через некоторое время мы стали здесь уже своими людьми, и мать Антона Семёновича разрешала нам входить в комнаты. Жил Антон Семёнович скромно. Я, как сейчас, во всех деталях помню его чистенькую квартирку, с крашеными полами, двумя простыми кроватями, белоснежными занавесками на окнах, венскими стульями с плетеными соломенными спинками. В комнатах было много книг, все они были аккуратно расставлены по полкам и этажеркам. Проникнув в квартиру Антона Семёновича, мы обычно умолкали и останавливались у порога, затаив дыхание — так здесь было тихо и необычайно чисто. Мать Антона Семёновича никогда не появлялась на территории коммуны, мы ни разу не видели её в наших корпусах, спальнях или столовой. Наши же визиты к ней она держала в строжайшем секрете. Антон Семёнович и не догадывался о нашей дружбе. Каково же было его удивление, когда он как-то услышал, как его мать назвала меня по имени. Он недоуменно взглянул на меня»; и взгляд этот как бы выражал: «Смотри, какой близкий друг нашелся! Васей его величают». Я немного смутился, но меня подбодрили добрые старушечьи глаза. Говоря о скромности Макаренко, я не могу не рассказать и о таком эпизоде. Я уже говорил, что Макаренко, как мы его ни уговаривали, принципиально никогда не соглашался кушать вместе с нами, но был всё же случай, когда мы настояли, чтобы Антон Семёнович сел в столовой с нами за один стол. Радостные, ликующие, мы ждали, что Антон Семёнович пообедает наконец с нами, но этого не произошло. Макаренко как-то застенчиво, не как «хозяин» коммуны, а как гость, густо посыпал маленький кусочек черного хлеба солью и поднялся из-за стола. — Ну, как же это, Антон Семёнович? — запротестовали мы. — Не могу. Некогда, спешу,— сказал он и покинул столовую. Дело тут, конечно, не в занятости Макаренко. Нужно было хорошо знать его, чтобы понять значение происшедшего. Коммунары же хорошо знали Антона Семёновича и по достоинству оценили его поведение. Даже самый неотесанный и грубоватый из нашей братии и тот не выдержал и вслух, на всю столовую произнес. «Вот это человек, да... что и говорить!» Мы, жившие с ним бок о бок, знавшие весь его трудовой день, видевшие его с утра до вечера, просто диву давались: когда только Антон Семёнович успевал писать книги, а также пьесы для нашего драмкружка! На плечах Антона Семёновича лежало много всяких административных дел, он руководил педагогами, разбирался в куче ежедневных историй, обид, ссор и недоразумений, возникавших в большом и сложном коллективе, находил время для бесед с коммунарами, для приема иностранных туристов и зарубежных рабочих делегаций, для поездок в город, где на совещаниях ему приходилось отражать яростные атаки своих неугомонных противников. И все же, несмотря на свою огромную занятость, он не прекращал своего литературного труда. Во время нашего знаменитого «марша 30-го года» Макаренко ни разу на всем протяжении пути не ехал, а несмотря на свой возраст, неутомимо шагал вместе с нами. Едва мы, утомлённые, запыленные, делали привал, как Антон Семёнович вынимал из своей походной кожаной сумки записную книжку и начинал тут же что-то писать. Вокруг шум, гам, смех, шутки, а Антон Семёнович как бы выключился. Глухо покашливая, куря одну папиросу за другой, он продолжает писать. Уже потом, спустя много лет, читая его литературные произведения, мы поняли, что рождались они в гуще жизни, буквально у нас на глазах. Лето у Макаренко было всегда хлопотливым, трудовым, беспокойным — что-то обязательно строилось, что-то закупалось, что-то ремонтировалось, а тут еще наши походы или поездки на юг или по Волге, они тоже доставляли Антону Семёновичу немало забот, тревог, волнений. Ведь он отвечал за каждого из нас! Я думаю, что многие коммунары и по сей день хорошо помнят знаменитую пропажу нашего чемодана-сейфа во время поездки коммуны из Сталинграда в Новороссийск. Мы везли с собой два чемодана: в одном были все наши личные деньги — зарплата, во втором — списки коммунаров, в которых значилось, каким «капиталом» владел каждый из нас. Вор, к нашему счастью, схватил по ошибке чемодан со списками, деньги были целы. Я и еще четыре коммунара на ходу соскочили с поезда и начали поиски чемодана и вора. Вся коммуна поехала дальше и ждала нашего возвращения на одной из станций. Поиски ни к чему не привели. Мы возвратились без чемодана. Возникла проблема: как установить, кому же сколько денег причитается? Антон Семёнович спокойно отдал распоряжение: обойти всех коммунаров и записать сумму, которую укажет каждый. Какой же будет итог? При гробовом молчании шла эта перепись. Сосредоточенным и настороженным был Макаренко. Мы знали, что это спокойствие — внешнее, ведь сейчас каждый коммунар держит экзамен на честность. Вот опрос закончен. Подбивается итог. И вдруг взрыв изумления: у нас не только нет недостачи, у нас еще, оказывается, есть лишние деньги! Никто из коммунаров не назвал ни одной лишней копейки... Улыбается Макаренко. Улыбается вся коммуна. Все облегченно вздохнули, каждый смотрел друг другу в глаза прямо, открыто, честно. Антон Семёнович вытирает на лбу капельки пота, как-то по-детски счастливо комкает свой белоснежный платок. Что же будем делать с лишними деньгами? Этого вопроса никто не ставит, но Антон Семёнович читает его в глазах каждого. Зная наше увлечение футболом, Макаренко неожиданно произносит: «На остальные деньги купим футбольные мячи!» Снова взрыв изумления. Никто не ожидал от него такой щедрости. К слову, этот подарок Макаренко впоследствии принес нам много славы. Наша коммунарская футбольная команда играла в Тбилиси, Горьком и других городах с сильными командами и не знала проигрыша. В отпуск Антон Семёнович уходил обычно зимой, справившись предварительно со всей летней строительно-ремонтной кампанией. Как правило, свой отпуск Макаренко проводил в Москве. Но там он тоже не отдыхал, продолжал писать свои произведения, бывал в издательствах, читал корректуру своих книг. Переставал ли он в это время думать о коммуне? Нет. Макаренко не только вёл деловую переписку и телефонные переговоры со своими заместителями, но и отвечал на письма коммунаров. Для каждого из нас было большой честью получить личный ответ от Антона Семёновича, поэтому мы все писали ему в Москву. Можно себе представить, какую обширную корреспонденцию получал он в столице! Но ни одно наше письмо не оставалось без ответа, Макаренко отвечал каждому, этим он учил нас учтивости, вежливости, внимательности. В своем письме я поздравил Антона Семёновича с днём рождения и с чисто детским любопытством задал ему вопрос: что нового он видел в Москве? И вот вскоре пришёл ответ. Антон Семёнович поблагодарил за поздравление и подробно описал одну московскую новинку — снегоуборочную машину. «Представляешь,— писал он,— машина имеет две большие лапы, которыми загребает снег...» Это, как и другие его письма, все мы с интересом читали вслух. Макаренко писал об очень увлекательных вещах, он знал, чем нас можно заинтересовать. Макаренко поставил перед собой задачу: подавляющему большинству коммунаров дать среднее образование. Многим он помог поступить в институт. Макаренко очень переживал, если видел, что коммунар выходит в жизнь без среднего образования. Он не презирал, не обижал такого человека, но весьма огорчался за него. Антон Семёнович заботился о том, чтобы каждому коммунару, поступившему в институт, оказывалась материальная помощь в течение всего периода учёбы. Таково было решение Совета командиров, и оно выполнялось неукоснительно. Получал такую помощь и я, когда учился в Киевском энергетическом институте. Эта помощь еще больше, роднила с коммуной. Каждый денежный перевод как бы олицетворял трогательную, сердечную заботу Антона Семёновича о своих питомцах. Думая о годах учёбы в институте, я неизменно вспоминаю случай, связанный с переездом Макаренко из Харькова на работу в Киев. Однажды Антон Семёнович, встретив меня на улице, поинтересовался моей учёбой, жизнью, попросил заходить к нему. Шли дни, недели, но я не приходил к Антону Семёновичу — не хотелось отрывать его от дел, как-то неловко было беспокоить его. И вот, снова встретив меня, Макаренко строго спросил: — Ты почему не приходишь?! — Занятия, Антон Семёнович, загружен, — ответил я. — Чтобы каждую субботу заходил,— приказал Макаренко таким тоном, словно я попрежнему всё еще был коммунаром. Но приказ — есть приказ, да еще приказ самого Антона Семёновича! И несмотря на свою занятость, я стал аккуратно каждую субботу приходить к Антону Семёновичу. Он очень радушно, гостеприимно встречал меня, проявлял настоящий отеческий интерес к моим занятиям. Я чувствовал, как он от души радовался, что я успешно овладеваю профессией инженера. Хотелось учиться лучше, скорее пойти на самостоятельную работу, чтобы трудом своим, всей своей жизнью оправдать надежды Антона Семёновича. Часто бывает так, что выбор профессии превращается в семье в сложную проблему: волнуются отец и мать, озабочены родственники, сам юноша или девушка ломают голову — «Кем быть?», «Куда пойти?», «Какую выбрать себе в жизни специальность?» А каково-то было нашему Антону Семёновичу? Ведь у него-то «семейка» была немалая! И обо всех Антон Семёнович тревожился, о жизненном пути каждого из нас беспокоился... В конечном счёте весь благородный труд А.С. Макаренко сводился к одному: сделать из нас полезных граждан социалистического общества. А сделать это можно было, лишь вооружив нас нужными знаниями, дав в руки полезную профессию. Мне пришлось воспитываться у Макаренко в течение нескольких лет. И я могу сказать из личных наблюдений, что вопрос выбора профессии для каждого из нас по-настоящему захватывал Антона Семёновича. Антон Семёнович никогда не навязывал воспитаннику его будущую специальность. Очень осторожно он выявлял те или иные склонности юноши или девушки, стараясь уточнить, к чему у них тяга — к технике, естествознанию, литературе, искусству... Для проявления наших дарований и наклонностей и в колонии, и в коммуне были созданы исключительно благоприятные условия: производственные мастерские, много самодеятельных кружков, наличие преподавателей различных дисциплин и ремесел. Как-то само собой получалось, что ребята стремились именно туда, где был простор их дарованиям. Я лично не знаю случая, чтобы Антон Семёнович препятствовал воспитаннику заняться любимым делом. Таких случаев, по-моему, не знают и другие колонисты и коммунары. Даже тогда, когда Макаренко видел, что кто-то из нас берется не за свое дело, он проявлял известный такт и выдержку и говорил об этом, не обижая воспитанника. Макаренко, очевидно, считал, что жизнь вскоре сама покажет, кто прав. Когда же способности того или другого колониста или коммунара уже со всей определенностью выявлялись, Антон Семёнович крепко поддерживал воспитанника, вселяя в него глубокую веру в собственные силы и возможности. И тогда Макаренко не стеснялся даже в присутствии гостей громко говорить: «А вот наш будущий конструктор!», «Этот будет летчиком...», «Это — будущий врач». Говорил же так Антон Семёнович лишь тогда, когда твердо знал, что выбор профессии в данном случае уже определился. И нужно было видеть в этот момент лицо воспитанника, склонившегося над моделью самолета или станка! Оно сияло радостью. Ведь сам Антон Семёнович (да еще в присутствии гостей) поддержал его заветные мечты. Макаренко был осторожен, когда видел, что воспитанник лишь ощупью подходит к выбору профессии, и решителен, когда знал, что выбор уже внутренне сделан, а сейчас требуется его крепкая и надежная макаренковская поддержка! Проницательность Антона Семёновича в этих вопросах была исключительной. Вот один характерный пример. Была у нас в коммуне Дзержинского воспитанница Антонина Торская. После окончания рабфака вздумалось ей почему-то идти учиться в Московский институт физкультуры, хотя до того времени особенного интереса к этому вузу она и не проявляла. Как же поступил Антон Семёнович? Стал ли он уговаривать Торскую бросить мысль об институте физкультуры? Начал ли разубеждать Тоню и предлагать ей идти в другой вуз? Вовсе нет. Макаренко совершенно не препятствовал девушке идти туда, куда её влекло. Но, может быть, Антон Семёнович проявлял при этом определенный риск,— ведь неудачный выбор профессии мог искалечить жизнь девушке?.. Опять-таки нет. В том-то и дело, что Антон Семёнович хорошо знал каждого своего воспитанника. Отлично изучил он способности и характер Тони Торской. Поэтому он не боялся её разочарования, Макаренко знал, что не такой характер у Торской, чтобы она растерялась! В том, что А.С. Макаренко именно так и думал, мы находим подтверждение в одной записи Антона Семёновича, которая была опубликована спустя много лет после нашего ухода из коммуны. Запись эта касается Тони Торской. Антон Семёнович занёс к себе в тетрадку такие строки: «Торская. Хорошие способности... Идет в институт, не руководствуясь особенной преданностью к физкультуре. В данное время ей просто интересно, чему её там научат. В этом отношении она не сможет очутиться в тяжелом положении: не понравится в этом институте, перейдет в другой, заранее уверенная, что с пути не собьется и что из неё выйдет полезный человек. Можно быть уверенным, что никаких неприятных осложнений в её жизни не будет». Антон Семёнович правильно охарактеризовал Торскую. Именно такой и был у неё характер. Как вдумчивый педагог, он правильно предвидел и её жизненный путь. Насколько известно мне и живущим в Харькове другим коммунарам, Антонина Торская в жизни не растерялась и с пути не сбилась, хотя институт физкультуры действительно бросила. Сейчас она живет и работает в Киеве, имеет семью. Случай с Антониной Торской, может быть, и не массовый. Не так уж часто Макаренко позволял себе пускать вопрос выбора профессии на самотёк. Но я заговорил об этом потому, что он свидетельствует об умении Макаренко-педагога изучать характеры своих питомцев. Это умение было одной из отличительных черт талантливого педагога. В этом я убедился и на себе, и на судьбе многих моих друзей-коммунаров. Словно птенцы, разлетались мы из родного гнезда. Как добрый отец, Антон Семёнович напутствовал нас в начале нашего самостоятельного пути. И так получалось у Антона Семёновича, что каждого из нас он подводил к этому старту относительно подготовленным. Вступая в большую жизнь, воспитанники чувствовали себя уверенно, знали, какой дорогой нужно идти, какую специальность следует выбрать. Когда я стараюсь уяснить себе, в чем секрет педагогического мастерства Антона Семёновича, то нахожу на свой вопрос множество ответов. На этот вопрос нельзя ответить сразу и коротко. Макаренко был в педагогике чудесным организатором, волевым и находчивым человеком. Но ища ответ на свой вопрос, я каждый раз невольно думаю о том, что Антон Семёнович окружал себя педагогами-энтузиастами, хорошо его понимавшими, хорошо уяснившими себе задачи работы в детском учреждении не совсем обычного типа. Любой служащий или рабочий в колонии или коммуне превращался под руководством Антона Семёновича в педагога, в друга детей. Много лет прошло с тех пор, как мы покинули стены коммуны Дзержинского, но и по сей день воспитанники, живущие в Харькове, встречаются со своим старым другом, доцентом педагогического института Евгением Сильвестровичем Магурой, работавшим у нас заведующим рабфаком. Без колебаний пришел он в коммуну. В то время наша страна уже знала о колонии имени Горького, о благородной работе А.С. Макаренко, и Е.С. Магура всей душой потянулся к новому делу. И он не ошибся. В коммуне, как и в свое время в колонии, царила удивительно радостная и бодрая атмосфера. Здесь всё было основано и держалось на глубокой вере в преобразующую силу дружного трудового коллектива, на высоком доверии к человеку, на требовательности к нему. С первых же дней на рабфаке Евгений Сильвестрович был восхищен педагогическим мастерством Макаренко. И хотя враги коммунистической педагогики сумели к тому времени опутать имя А. С. Макаренко клеветой, пытаясь дискредитировать опыт колонии и коммуны, Е.С. Магура чутьем старого учителя понял всё значение педагогического подвига Антона Семёновича. Однажды на выпускном вечере рабфаковцев Макаренко сказал: — Вот и еще одна стайка наших птенцов выпорхнула из гнезда... Прожить бы нам с вами, Евгений Сильвестрович, ещё четверть века, увидели бы мы, кем стали наши хлопцы! Ведь перед ними открыты все пути-дороги... У макаренковцев, живущих в Харькове, в первый же послевоенный год возникла замечательная традиция проводить встречи, на которых каждый из них рассказывает о своей жизни, работе, семейных делах, планах. На эти по-настоящему волнующие свидания «ребята» (многим из них уже по сорок и больше лет!) часто приглашают Евгения Сильвестровича Магуру. Ему, другу Макаренко, довелось четверть века спустя увидеть то, о чём мечтал Антон Семёнович. Жизнь каждого питомца колонии и коммуны является как бы торжеством всей педагогической работы Макаренко, подтверждением правильности его методов воспитания. Многие колонисты и коммунары проявили в годы Великой Отечественной войны подлинный героизм, а в послевоенный период самоотверженно трудятся на самых различных участках народного хозяйства. Макаренко завёл одну интересную традицию, существовавшую в колонии, а затем в коммуне. На общем собрании ребят председатель обычно говорил провинившемуся: «Выйди на середину! Стань смирно и давай объяснение, как и что!» Когда сейчас горьковцы и дзержинцы собираются вместе, кто-нибудь обязательно произносит в шутку эти слова. И тогда кто-то выходит «на середину» и рассказывает о себе, о своей жизни. И снова звучит задорный, дружный смех, снова, как когда-то в Куряже или Померках, сыпятся шутки, каламбуры, и всё это живо напоминает пропитанную здоровым юмором атмосферу горьковской колонии или коммуны имени Дзержинского. В Харькове живёт несколько героев книг Макаренко. На заводах этого города работают воспитанники Макаренко мастера Зинаида Носик, Федор Шатаев, Елена Пихоцкая, Федор Заика, машинист Михаил Долинный, гравер Андрей Мельник. На наши традиционные встречи являются бывшие горьковцы и дзержинцы — художник Георгий Камышанский, хозяйственник Александр Стегний, артистка Клавдия Борискина, горист Василий Шапошников. Бывшие колонисты и коммунары — харьковчане—переписываются и встречаются с горьковцами и дзержинцами, живущими в самых различных уголках страны. Пишет нам один из главных героев «Педагогической поэмы» Семён Афанасьевич Калабалин (по книге — Карабанов), работающий заведующим детским домом под Москвой. Время от времени навещает Харьков врач из Комсомольска-на-Амуре Николай Флорович Шершнев, один из первых горьковцев, образ которого Макаренко вывел в «Педагогической поэме» под именем Вершнева. Нет нет, да и заглянет в Харьков кто-нибудь из тех, о ком писал Антон Семёнович в своих талантливых книгах. И тогда встрепенется дружная макаренковская братия, и вмиг, как по цепочке, один другого оповещают: «Сегодня вечером собираемся...» Однажды вместе с Евгением Сильвестровичем Магурой возвращались мы после очередной встречи воспитанников Макаренко в Доме учителя. Магура долго шёл молча, а затем сказал: — Эх, поглядел бы сейчас на всех вас Антон Семёнович!.. Вот бы радость ему была... Хороших людей воспитал Макаренко. Публикуется по «Удивительный человечище». – Харьковское книжное издательство, 1959.,– 159 с.
![Макаренко, А. С. Педагогическая поема [Текст] / А.С. Макаренко](http://s1.studylib.ru/store/data/002077615_1-36607b6785c768e022136c35cc34287e-300x300.png)