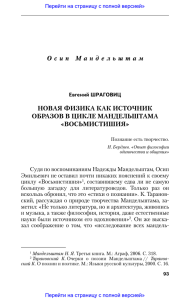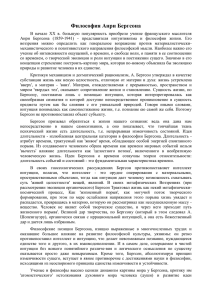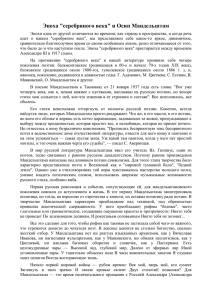Начинаю я с печального признания, что
реклама
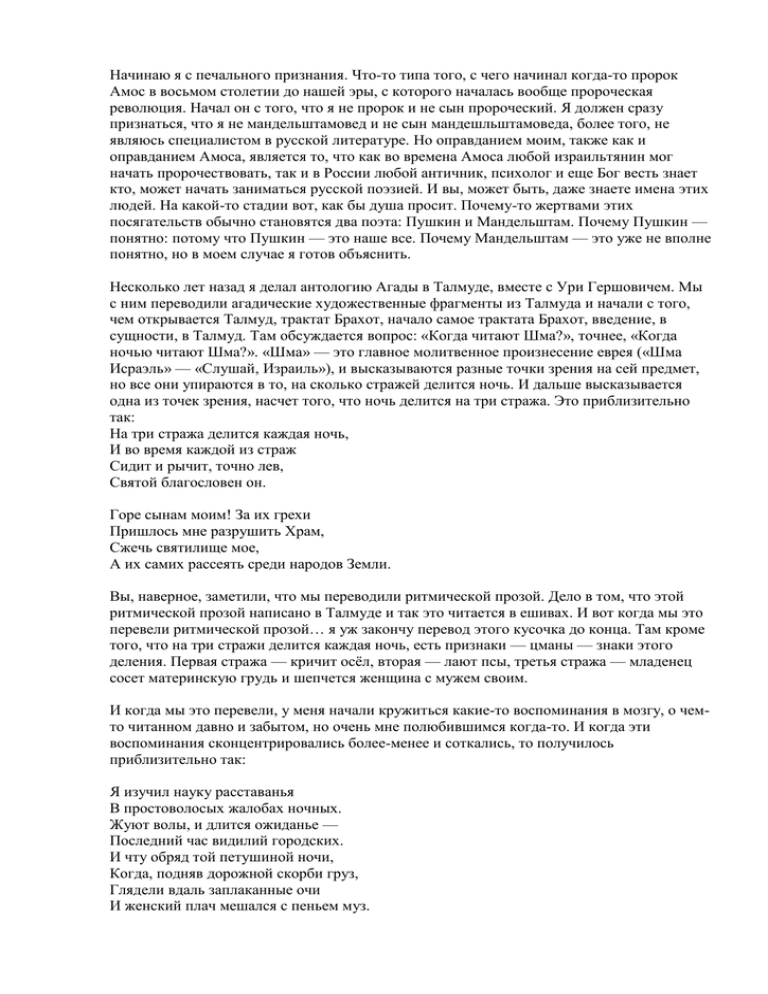
Начинаю я с печального признания. Что-то типа того, с чего начинал когда-то пророк Амос в восьмом столетии до нашей эры, с которого началась вообще пророческая революция. Начал он с того, что я не пророк и не сын пророческий. Я должен сразу признаться, что я не мандельштамовед и не сын мандешльштамоведа, более того, не являюсь специалистом в русской литературе. Но оправданием моим, также как и оправданием Амоса, является то, что как во времена Амоса любой израильтянин мог начать пророчествовать, так и в России любой античник, психолог и еще Бог весть знает кто, может начать заниматься русской поэзией. И вы, может быть, даже знаете имена этих людей. На какой-то стадии вот, как бы душа просит. Почему-то жертвами этих посягательств обычно становятся два поэта: Пушкин и Мандельштам. Почему Пушкин — понятно: потому что Пушкин — это наше все. Почему Мандельштам — это уже не вполне понятно, но в моем случае я готов объяснить. Несколько лет назад я делал антологию Агады в Талмуде, вместе с Ури Гершовичем. Мы с ним переводили агадические художественные фрагменты из Талмуда и начали с того, чем открывается Талмуд, трактат Брахот, начало самое трактата Брахот, введение, в сущности, в Талмуд. Там обсуждается вопрос: «Когда читают Шма?», точнее, «Когда ночью читают Шма?». «Шма» — это главное молитвенное произнесение еврея («Шма Исраэль» — «Слушай, Израиль»), и высказываются разные точки зрения на сей предмет, но все они упираются в то, на сколько стражей делится ночь. И дальше высказывается одна из точек зрения, насчет того, что ночь делится на три стража. Это приблизительно так: На три стража делится каждая ночь, И во время каждой из страж Сидит и рычит, точно лев, Святой благословен он. Горе сынам моим! За их грехи Пришлось мне разрушить Храм, Сжечь святилище мое, А их самих рассеять среди народов Земли. Вы, наверное, заметили, что мы переводили ритмической прозой. Дело в том, что этой ритмической прозой написано в Талмуде и так это читается в ешивах. И вот когда мы это перевели ритмической прозой… я уж закончу перевод этого кусочка до конца. Там кроме того, что на три стражи делится каждая ночь, есть признаки — цманы — знаки этого деления. Первая стража — кричит осёл, вторая — лают псы, третья стража — младенец сосет материнскую грудь и шепчется женщина с мужем своим. И когда мы это перевели, у меня начали кружиться какие-то воспоминания в мозгу, о чемто читанном давно и забытом, но очень мне полюбившимся когда-то. И когда эти воспоминания сконцентрировались более-менее и соткались, то получилось приблизительно так: Я изучил науку расставанья В простоволосых жалобах ночных. Жуют волы, и длится ожиданье — Последний час видилий городских. И чту обряд той петушиной ночи, Когда, подняв дорожной скорби груз, Глядели вдаль заплаканные очи И женский плач мешался с пеньем муз. Кто может знать при слове "расставанье", Какая нам разлука предстоит, Что нам сулит петушье восклицанье, Когда огонь в акрополе горит, И на заре какой-то новой жизни, Когда в сенях лениво вол жует, Зачем петух, глашатай новой жизни, На городской стене крылами бьет? Кроме того, что и там и здесь имеются три стражи — «вигилии» на латыни; и там, и здесь имеются три знака. Только в Талмуде это: кричит осёл, лают псы — первые два знака и третий — женщина кормит младенца и шепчется со своим мужем. Здесь тоже три знака: здесь волы жуют, здесь петух кричит и женщина плачет. Но в общем, когда я об этом всем рассказал Аверенцеву, он мне сказал, что это все полная ерунда потому, что, ну подумаешь, вигилии — ночные стражи. Кто не пишет, кто не писал о вигилиях в те времена? На самом деле, никто не писал. Что самое страшное, из поэтов не писал об этом даже тот поэт, от которого, собственно, Мандельштам и позаимствовал тему этого стихотворения и название. Название его «Тристиа» — скорбь, или скорбная элегия, как обычно это переводят. И заимствованно это из скорбных элегий Овидия. А именно, из того места элегии, где Овидий рассказывает о печальной ночи, когда он прощается со своей семьей перед тем, как его пошлют в ужасное далекое место, нынешний черноморский курорт Томэн. И вот, по зимнему морю, он в конце декабря собирается туда плыть. Ему, естественно, ужасно грустно, но там нет вигилий, там нет крика петуха, там, естественно, нет волов — в общем, практически ничего нет кроме скорби, конечно, и общего настроения. Кроме того, есть прямое указание Мандельштама о том, что он взял это из Овидия. Оно присутствует в эссе «Слово и Культура». Он пишет буквально следующее: «Да, старый мир не от мира сего, но он жив более чем когда-либо. Культура стала церковью. У нас не еда, а трапеза. Воду в глиняных кувшинах мы пьем как вино. Христианин, а теперь всякий культурный человек христианин, не знает только физического способа голода только духовной пищей: для него и слово — плоть, и простой хлеб — веселье и тайна». Это он пишет во время гражданской войны, когда все ужасно, все меняется, и почему-то пишет про вигилии, про тристии, по Овидию, но Овидий совсем не писал о конце мира. Вот это переживание конца мира, которое пытается выразить Мандельштам, используя название овидиевских элегий — у Овидия этого ни в коем случае нет. У Овидия есть ночь, последняя ночь. Точнее даже время, последнее время. Взяв все это выражение латинское «последнее время», Мандельштам заявляет, что последнее время — это на самом деле апокалиптическое время, это время конца старого мира. Наступает новый мир. И тут же вырисовывается источник этого стихотворения. Источник этот, на самом деле, только частично Овидий, а другой своей частью это попросту Новый Завет. И ровно там мы встречаем и вигилии, мы встречаем там и тристии, мы встречаем и петуха, и волов, и сами знаки. То же самое, что в талмуде Семан («семан» — это испорченное греческое слово «сонаим» — знак). Знак этот действительно на последней страже увидели пастухи, когда поняли, что родился Мессия и отправились его приветствовать. Значит это знак. Другие знаки. Жующие волы. Все знают из иконографии с изображением вертепа, а также поэзии, из стихов, в частности, Бродского и Пастернака, что жующие волы — это непременный атрибут в яслях, причем у Мандельштама «в сенях лениво вол жует» вполне читается, что в яслях жует. Петух. Откуда взялся петух тоже приблизительно понятно, но для этого надо понять, откуда взялись тристии. И вигилии и тристии встречаются ровно в одном и том же месте в Евангелие, когда описывается последняя ночь Иисуса, действительно последняя ночь, в Гефсиманском саду, и во время этой ночи он говорит своим ученикам: «Вигилитатэ» — «Бодрствуйте», отсюда вигилии. Несколько раз это произносится в разных вариантах (вигиляре), он от них требует бодрствовать, и это бодрствование. И отсюда в современной католической литургии имеются вигилии — которые есть бодрствование на вечере в ночь перед праздниками большими, поэтому это, попросту говоря, оттуда. И там же он заявляет, что душа моя печальна — «тристесес», «я печалюсь» и это слово «тристии» произносится опять же несколько раз. Ну а дальше, естественно, кричит петух. Он кричит трижды прежде, чем апостол Петр предает его. То есть практически все совпадает, источник, по всей видимости, всего этого и есть, только источник латинский. Из латинского текста Евангелия Мандельштам берет свои аллюзии, что и не удивительно, посколько в 1910 году он пишет: «…и слова евангелической латыни наплывают как ночной прибой». То есть перед нами, в сущности, толкование Нового Завета через Овидия или толкование Овидия через Новый Завет. Что представляет собой, в сущности, прием христианской экзегезы, равно как и прием еврейской экзегезы, когда один текст трактуется через другой. И когда я дальше начал смотреть стихи Мандельштама, смотреть глазами уже действительно специалиста в еврейской и христианской экзегезе, я обнаружил, что они очень легко читаются, то есть элементарные приемы еврейской и христианской экзегезы там прослеживаются. Причем, мало того, что приемы прослеживаются, способы экзегезы — прослеживаются их штампы, какие-то вот известные связи. Если принято у христианских экзегетов связывать такой-то стих, допустим, пророков с таким-то стихом Торы, Пятикнижия Моисеева, то они и связаны Мандельштамом. То есть это то, что известно каждому начинающему экзегету. Почему-то это известно и Мандельштаму. Тогда я начал задавать себе вопрос, а как же это могло быть? Естественно, Мандельштам не выучил никогда иврит. Он начал учить его в детстве, но так и не выучил. Он не получил богословского образования, но были некоторые обстоятельства. Кроме того, что он знал языки и читал в подлиннике, точнее в латинском переводе, Библию, он мог читать и Талмуд, и Библию, и христианскую экзегезу и на немецком, и на французском совершенно спокойно, и на латинском, конечно. Кроме этого, его папа, Эмиль Мандельштам, учился в берлинской «Хохшуле», «Рабинеше Хохшуле», то есть в раввинистической, реформистской школе в Берлине. Не кончил, правда, не получил смихи, точнее говоря, и ушел в коммерцию, что, мы знаем, бывает часто. Уж о чем он там говорил своему сыну, и как он рассказывал ему о Талмуде, тем более о самом начале Талмуда — мы не знаем. Мы знаем жалобы другого великого еврея, жившего тогда же абсолютно, что и Мандельштам: «Папа, ты меня ничему не научил из того, что знаешь». А папа этого великого еврея тоже учился в раввинской семинарии, только в Вене. Это был Кафка. Что было неправдой. Папа чему-то научил, потому что, если мы откроем, например, роман Кафки «Процесс», то это самый талмудический роман из всех романов двадцатого века, просто там идут талмудические притчи косяком. Поэтому существует некоторая возможная презумпция семейных разговоров. Кроме того, с 1910 года Мандельштам усиленно посещает религиозное философское молодежное общество, является ближайшим другом Каблукова — секретаря этого общества. Что изучали, какую экзегезу, какое толкование Библии изучали члены этого общества на своих заседаниях, вероятно, можно узнать по архивам, раскопавши протоколы этого общества. Я этого делать не буду, так как я уже сказал, что это не моя специальность. Но что-то такое, вероятно, могли изучать. И вот, исходя из этих возможных фактов, давайте посмотрим, как строилась поэзия Мандельштама ровно в те самые годы, когда он увлекался религиозной философией в 1910 году, например. В 1909 — 1910 годах. И мы начнем с первого сборника Мандельштама, и с первого же стихотворения этого сборника. Сейчас это стихотворение не стоит первым. Во втором издании Мандельштам его отнес немного назад, но первоначально оно стояло первым и называлось «Дыхание». Сейчас оно идет без названия. Я думаю, что все здесь сидящие эти стихи знают — они безумно известны. Дано мне тело — что мне делать с ним, Таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, Неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновения стекает муть, Узора милого не зачеркнуть. Это называлось дыхание, причем вначале было не «дано мне тело…», а немного иначе в первом издании, но потом появилось «дано мне тело…». Но, в общем, когда мы читаем: «Дано мне тело — что мне делать с ним, Таким единым и таким моим? За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне благодарить?», — сразу всплывает очевидная абсолютно аллюзия, очевидная аналогия: дано мне тело — кем дано, кого благодарить? Особенно когда мы дальше читаем: «…я и садовник, я же и цветок…», что уже просто цитата. Цитата приблизительно такая: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Вдул — живой, дышать и жить. Буквально дословно. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». И так далее. То есть он там, собственно говоря, был садовником и был же и цветком. С этим понятно — перед нами Адам. Собственно тема Адама в это время занимала Мандельштама. Ровно в том же сборнике «Камень» мы читаем стихи о Нотр Даме: «Как некогда Адам, распластывая нервы, Играет мышцами крестовый лёгкий свод…», — и так далее. Теперь вся эта интонация благодарения, когда Адам благодарит Бога за то, что он дал ему тело. Эта интонация, в общем, принадлежит псалмам. И, более того, есть псалом, который считается в христианско-еврейской традиции написанным Адамом об Адаме, Адамом о себе. Причем безумно известен этот псалом, и я его чуть-чуть зачитаю. Это 139 псалом. 1 Господи, ты испытал меня и знаешь 2 Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали; 3 иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе; … 11 скажу ли: Может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? 12 но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день (как тьма, так и свет); 13 ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. 14 Славлю Тебя — потому что я дивно устроен; Дивны Дела Твои — и душа моя вполне сознает это. 15 Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы; 16 зародыш мой видели Очи Твои; в Твоей Книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Значит, как бы, Адам благодарит Бога за то, что тот дал ему тело. И в этом адамовом псалме, в благодарении Адама, вот вы видите, присутствуют такие слова: «скажу ли: Может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит Тебя, и ночь светла, как день (как тьма, так и свет)». В христианской экзегезе есть стандартный прием — начиная с псевдооригена, то, что приписывается Оригену — богослову и философу, на самом деле ему не принадлежит. Но это тоже довольно древнее толкование и потом повторяется из раза в раз. Что имеется в виду в этом месте этого псалма? В этом месте этого псалма имеется в виду Иосиф библейский, которого его хозяин Патифар посадил в темницу (дословно это слово в русском переводе присутствует), но Иосиф был там не один — Бог был с ним. Таким образом, связывается благодарение Адама за то, что он был сотворен, и было тело ему дано, с тем, что Иосифа посадили в темницу, и Иосиф там был не один. Естественно, мы вспоминаем: « В темнице мира я не одинок…». Что значит — я не одинок? Может со мной приятели, друзья, хорошая компания? Вовсе нет. Это, по всей видимости, Господь был с ним. А если кто-то сомневается, в таком восприятии Иосифа Мандельштама, то надо смотреть, что он сам говорит, и что ровно тогда, когда он писал эти стихи, он писал еще другие стихи: Отравлен хлеб, и воздух выпит: Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать. Именно в этот момент, он воспринимал себя Иосифом или «проданным в Египет», или «посаженным во тьму». Но во тьме он не один, «в темнице мира я не одинок», потому что Бог с ним. И таким образом связывается псалом с повествованием об Адаме. Теперь, в этом сборнике есть и другие стихи, которые к этим стихам, казалось бы, не имеют никакого отношения, но написаны они тогда же ровно, в 1910 году. Это три стихотворения. Два из них в самом сборнике, и одно в этот сборник не вошло. Во всех трех стихотворениях имеется один и тот же образ — глинистый омут, вязкий омут, в котором тонет герой этого стихотворения. Причем все три стиха воспринимаются мандельштамоведами в одном ключе: речь идет о еврейской судьбе бедного мальчика, которого затягивает его еврейский омут, а он хочет из этого омута вырваться и, с другой стороны, он по нему немножечко ностальгирует. И вот стихи эти звучат приблизительно так. Первый из них довольно известный. Из омута злого и вязкого Я вырос, тростинкой шурша, И страстно, и томно, и ласково Запретною жизнью дыша. И никну, никем не замеченный, В холодный и топкий приют, Приветственным шелестом встреченный Коротких осенних минут. Второе стихотворение я читать не буду. Просто скажу его название — «В огромном омуте прозрачно и темно». Третье стихотворение, не вошедшее в сборник, тем не менее безумно известное именно как одно из наиболее важных в его понимании собственного еврейства. В этом стихотворении он практически отождествляет себя с Иисусом, который, как вы знаете, тоже был евреем. И это звучит так: Неумолимые слова… Окаменела Иудея, И, с каждым мигом тяжелея, Его поникла голова. Стояли воины кругом На страже стынущего тела; Как венчик, голова висела На стебле тонком и чужом. И царствовал, и никнул Он, Как лилия в родимый омут, И глубина, где стебли тонут, Торжествовала свой закон. То есть везде этот самый омут несчастный, глубина, которая торжествует свой закон и еще, вдобавок, еврейство. Вот эти психоделические мотивы фрейдистские давно были замечены. Почему-то не заметили, по крайней мере, я нигде не нашел, что это, попросту говоря, псалом. Причем два даже псалма. Ну, я вам читаю, а вы сами узнаете. Сначала псалом 69: 2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей]. 3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. 9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, 10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня; 15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод; («…и глубина, где стебли тонут…» — да?) 16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. 22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Те, кто читал Новый Завет, помнят, кому дали в пищу желчь и напоили его уксусом. Иисуса на кресте. То есть этот стих традиционно считается относящимся к Иисусу. Мандельштам здесь ничего не придумал. Мало того, в Евангелии от Иоанна цитируются другие строки того же псалма: «ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;» То есть это христологически «…и чужим я стал для братьев моих…» — опять, мотив Мандельштама, отвращение от своего еврейства опятьтаки присутствует и в псалме, отвращение от своей семьи. Иисус, отвращенный от своей семьи, от своих, так сказать, родственников. Все тут есть. Но есть и второй псалом. Это псалом сороковой, где опять абсолютно тот же омут вязкий, но немножко более оптимистический: Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои. То есть, опять в двух псалмах — мотив вязкого омута, в который поглощается главный герой, который соотносится с Иисусом, который ссорится со своими родственникамиевреями. Но в этом сороковом псалме есть еще такая штука, сейчас я прочту эти строки: Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. То, что я прочел, это дословный перевод с иврита и так это в синодальном переводе Библии, который переведен с иврита в данном случае. В греческом тексте того же псалма — Септуагинте — там это звучит иначе. Там не «ты открыл мне уши…», а там переведено: «Ты дал мне тело». И мало того, что ты дал мне тело, объясняется, зачем ты мне его дал. Объясняется уже в толковании этого места из псалма, которое есть в послании евреев новозаветных, которое приписывается апостолу Павлу, но ему не принадлежит. Сочинил его какой-то александрийский еврей в начале века, но это каноническое новозаветное послание. И там говорится приблизительно следующее: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть Господь отказывается от жертвоприношений в храме. Вместо этого он дает мне тело. «Ты дал мне тело, чтобы я пошел и исполнил волю твою» — то есть принес это тело в крестную жертву, вместо козлов и быков. И баранов. То есть вопрос Мандельштама: «Ты дал мне тело. Что мне делать с ним?» — он имеет довольно четкий ответ. Пойди и принеси его в жертву. Он недаром спрошен. Что, кстати говоря, с Мандельштамом, в конечном счете, и произошло. То есть, мы видим, что Мандельштам, в сущности, по всей видимости, знал вот этот вот ход от сорокового псалма к посланию евреев и что все четыре стихотворения: и «Дыхание» так называемое, и три стихотворения, в которых упомянуты эти два псалма, — они связаны между собой, плюс связаны еще с библейским пониманием творения Адама, плюс связаны еще с библейским повествованием об Иосифе. То сеть перед нами, в сущности, набор экзегетических ходов. Он может показаться сложным. На самом деле это, как говорится в Талмуде, пшита — элементарно. Это вещи, которые, как я уже сказал, элементарны и известны каждому начинающему экзегету. Вот эти ходы, которые я изложил — это известные вещи. Значит, у Мандельштама они фигурируют. И дело даже не в том, что Мандельштам мог это знать, а мог и не знать. Он, в сущности, единственный, из известных мне поэтов, занимался экзегетой в стихах. Такого не бывает. Аллюзирование на стихи, на те или иные тексты, цитирование скрытое тех или иных текстов в стихах. Мы можем все что угодно найти, но вот целенаправленную экзегезу. Я, по крайней мере, у других поэтов не знаю. Теперь, если мы вернемся к тому же самому замечательному стихотворению «Дыхание»: «Дано мне тело. Что же делать с ним? Таким единым и таким моим?» — вот что мы не найдем в Библии — «таким моим». И даже в русском языке не найдем. Что значит «такое мое тело»? Откуда «мое тело»? И где мы это найдем? И сделаем это довольно быстро. Найдем мы это выражение буквально на каждой странице трактата философа, который Мандельштам знал наизусть, с книжкой которого он ехал в Петербург, но по дороге книжку украли. Его звали Анри Бергсон. Бергсон — лауреат нобелевской премии за литературу, между прочим, 1929 года, великий философ, который, как и Мандельштам, был в Вене. И в отличие от Мандельштама, который время от времени писал о своем еврействе, Бергсон вплоть до тридцатых годов о своем еврействе не писал, избегал этой темы. Философ этот происходил из старого хасидского рода. Его предок когда-то был очень богатым евреем, и ему принадлежала значительная часть предместья Варшавы — Праги, и он, как мне рассказала Виктория Валентиновна Мочалова, которая здесь сидит, за свои деньги похоронил и дал пособие раненным после зверской резни, которую Суворов в 1794 году учинил в этом предместье Варшавы, подавляя восстание Костюшко, в котором участвовали евреи, целая кавалерийская часть еврейская. Потомки этого самого Шамуэля Сбытковера, они со временем приобрели имя Бергсон. Сначала, Бэргсон, потом Бергсон. В результате родился этот замечательный французский философ Бергсон, который далее вступил в родственные связи с французским же великим писателем Марселем Прустом. Марсель Пруст частично так же был евреем, на которого чрезвычайно подействовала философия Бергсона, что доставило Прусту некоторые неудобства, потому что ему каждый раз приходилось оправдываться от этого влияния. Какое все это имеет отношение к Мандельштаму? Ну, кроме того, что тема тела, моего тела. «Мое тело» — это слова, которые встречаются на каждой странице трактата Бергсона «Память и материя». Впервые в европейской философии из этого трактата тема тела, не вообще тела, а моего тела, становится одной из основных в европейской философии двадцатого века, пока не находит свое блестящее завершение в писаниях Мишеля Фуко. И об этом обычно пишут, что Бергсон начал, а Фуко закончил. Кроме этого есть еще многочисленные, достаточно частые ссылки и признания самого Мандельштама в своем бергсонианстве. При этом они взаимоисключающие. Еще раз повторю, что Бергсон вплоть до конца тридцатых годов о своем еврействе не писал. Мандельштам был крещеным евреем и тоже не очень любил писать о своем еврействе, но почему-то писал о еврействе Бергсона. Писал следующим образом: «Современная философия в лице Бергсона, чей глубоко иудаистический ум одержим настойчивой потребностью практического монотеизма, предлагает нам учение о системе явлений и так далее», — это у нас в статье «О природе слова». И дальше, в той же самой статье он пишет: «Эллинизм — это система, в бергсонском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя». Значит, кто же такой Бергсон? Он еврей или он эллинист? Он одержим иудаистической идеей или он отвергает иудаизм? Ибо нет больших врагов, чем иудаизм и эллинизм, о чем в этой же статье пишет Мандельштам. За иудаизмом — страшный хаос, за эллинизмом — быт и устойчивость. Вот, прежде чем мы будем отвечать на эти вопросы, посмотрим, как отзывается Бергсон в стихах Мандельштама. И посмотрим на то, что Мандельштам цитировал время от времени из Бергсона. Это известно. Об этом писали. Просто невозможно не писать, потому что в своей прозе Мандельштам говорит о Бергсоне, и в воспоминаниях говорят о его любви к Бергсону. Но обычно видят эти цитаты там, где они абсолютно очевидны, как допустим, когда он в прозе пишет о веере. А веер, это бергсоновский образ. А вот другой образ, который не образ, а попросту говоря толкование. Но вообще я говорю не об образах, которые Мандельштам откуда-то заимствовал, я говорю о толковании текстов. Один из самых загадочных текстов Мандельштама — это его так называемые, написанные в тридцатые годы, восьмистишия. Они постоянно расшифровываются, и расшифровки, на мой взгляд, абсолютно дикие. Поскольку никто не исходит из презумпции, что Мандельштам толкует какие-то тексты, то дальше остается только вырывать из этого текста Мандельштама какие-то отдельные слова и привязывать их к чему угодно: то к Гумилеву, то к Брюсову, то к Пушкину, то еще к чему-то в этом роде. А они никак не связываются между собой, то есть все рассыпается просто на части. Вот возьмем девятое восьмистишие: «Скажи мне, чертежник пустыни, Арабских песков геометр, Ужели безудержность линий Сильнее, чем дующий ветр? — Меня не касается трепет Его иудейских забот — Он опыт из лепета лепит, И лепет из опыта пьет» Уже совсем непонятно, о чем речь идет. Понятно, что иудейские заботы, но с чего бы здесь иудейские заботы. Чтобы понять, о чем эти стихи, надо взять самую известную книгу Бергсона и в этой книге Бергсона прочесть следующее: Бергсон говорит о двух типах закономерностей. Одна закономерность — это закономерность геометрическая, то есть, просто все выстроено в виде треугольников, квадратов, и мы можем все просчитать с помощью математики. Другая закономерность — органическая, креативная, и в ней ничего не понятно, но она все равно есть. То, что мы называем ее случайностью — это просто результат того, что мы закономерности не понимаем, и мы берем и приписываем этой случайности, как говорят теперь, теорию конспирации. То есть пытаемся за ней найти какой-то заговор, либо всемирного сионизма, либо империализма, либо коммунизма. И Бергсон об этом пишет приблизительно так: «Но когда я на глаз вычерчиваю на песке основание треугольника и начинаю строить два угла при основании, я достоверно знаю и понимаю, что если эти два угла равны, то стороны тоже будут равны. Я знаю это гораздо раньше, чем выучил геометрию». «Скажи мне чертежник пустыни, арабских пустынь геометр…». Почему на песке чертятся эти линии? Чего ради — арабские писцы? На песке они чертятся у Бергсона, и на песке они чертятся у Мандельштама по той простой причине, что ровно так чертили древние греки, у них не было ни компьютеров, ни грифельной доски. И об это пишет сам Бергсон в своем трактате. Есть известная переписка, фиктивная конечно же, Платона по поводу его визита к сицилийскому тирану Дионисию младшему, когда весь воздух во дворце Дионисия был насыщен песком до такой степени, что, пытаясь обратить Дионисия в свою философию, они все время чертили тросточкой на песке. И вот они чертят это все на песке, поэтому чертежник пустыни. А дальше: «Ужели безудержность линий сильнее, чем дующий ветр?» «Когда механическая сила ветра срывает с крыши черепицу и кидает ее мне на голову, то есть совершает то, что сделал бы злой гений, строивший козни против моей личности…» и так дальше. Геометр — ветр. Ветр этот срывает с крыши черепицу и кидает ее на голову человека. Откуда эта самая черепица может появиться? Что это за демон такой у Бергсона, который обрушивает на голову? А мы знаем, как этого демона зовут. Его зовут Сатана. И он договорился об этом с Богом в книге Гелла. «И вот большой ветр пришел из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли». И в книге Иона мы читаем так же: «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась буря, и корабль был готов разбиться. Когда же взошло Солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову его». Вот это вот библейская книга Ионы, она читается на Йом-Кипур и завершает собой, вы можете догадаться какие дни, ямим нураим на иврите — страшные дни, или, в русской традиции, дни трепета. И тут мы вспоминаем, что написано в тех же стихах: «трепет его иудейских забот». И что же это за трепет иудейских забот? Библейская книга Ионы с его ветром читается на Йом-Кипур и тогда же произносится знаменитый Киюл — песнопение, сочиненное по преданию раби Амноном из Майнца в XIII веке. Есть очень красивое трагическое предание, как ему отрубили руки и ноги, и вырвали язык. И вот там написано: «трепеща, поведаем о святости сего дня, кому жить, а кому умереть, кому в преклонных летах, а кому безвременно, кому при пожаре, а кому утонуть, — как Ионе, да? — кому от меча, кому от дикого зверя». Встает вопрос: имел ли ввиду сам Бергсон, которого здесь, очевидно, толковал Мандельштам (Мандельштам, очевидно, здесь берет один из кусочков Бергсона и его почти дословно прочитывает, то есть это такая маленькая цитатка), имел ли Бергсон при этом в виду этот трепет? У Бергсона-то трепета нет. У Бергсона нет Аравийских песков. То есть, пески есть, но они не Аравийские. То есть, всех этих намеков на книгу Гелла и на книгу Ионы у Бергсона нет. Мандельштам вкладывает библейские и синагогальные мотивы в Бергсона. У самого Бергсона, вполне возможно, ничего этого и не было. Он толкует Бергсона через Библию, или Библию — через Бергсона, обзывая при этом Бергсона евреем и говоря об его иудаистическом уме. Так, что «трепет его иудейских забот», чуть не оказывается трепетом самого Бергсона. Получается какая-то странная традиция от Бергсона к Мандельштаму: один еврей называет другого еврея евреем, тогда как ни первый, ни второй, в сущности, себя евреями публично не называют. А если мы вспомним еще и третьего еврея, то получится совсем странно. Этот третий еврей писал стихи об облаках: «Ах, кроме ветра нет геометра в мире для вас!» Ветер — геометр. И дальше идет почти полный пересказ следующего уже восьмистишия. Это стихи Бродского «Облака». Бродский аллюзирует в своем стихотворении «Облака» на стихотворение Мандельштама. Сразу скажу, что к еврейской тематике это никакого отношения не имеет, это имеет отношение к приверженности Бродского к Мандельштаму. Он безумно любил Мандельштама, и, в общем, строил себя в значительной степени под Мандельштама. Есть предисловие Бродского к английскому переводу стихов Мандельштама, где он говорит приблизительно следующее: «Представьте себе, что вы еврейский мальчик, и вы живете в огромном имперском городе, и у вас в ушах звуки ямбов и перед вами великолепная имперская архитектура и гигантские пространства». И дальше, на протяжении этого предисловия, Бродский, очень оживленно, без ссылок на Бергсона, обсуждает бергсоновскую тему времени и пространства, почти дословно воспроизводя Бергсона, «Творческую революцию», ту самую книгу, которую цитировал Мандельштам. Причем у него пространство выступает врагом Мандельштама-еврея, потому что Мандельштам, он живет в качестве еврея в истории, а пространство — это русское имперское пространство, которое враг Мандельштама. У Бергсона это немного иначе, но видимо, так понимает Бергсона Бродский. Можно усомниться в том, что Бродский читал Бергсона, но чтобы эти сомнения развеялись, надо обратиться к стихам самого Бродского. У Бродского есть абсолютно прекрасная поэма «Вертумн». Герой это поэмы, Вертумнус — римский бог смены времен года. Бродский как бы встречается с этим Вертумном еще в Ленинграде, во время своей юношеской поры, когда ходит в Эрмитаж. Там у них происходит такой роман некоторый, потом он его теряет из виду, потом он с ним опять встречается, с Бродским, ставшим уже американским гражданином. И пока он еще был юношей, Вертумн нес его на крыльях в Италию, и в последствии они как бы встречаются в этом идеальном италийском пейзаже, и там мы находим у него следующие вещи. Этого я уже не могу наизусть никак читать, так как это белый стих. «Лопатками, как сквозняк, я чувствую, что и за моей спиною теперь тоже тянется улица, заросшая колоннадой, что в дальнем ее конце тоже синеют волны Адриатики. Сумма их, безусловно, твой подарок, Вертумн. Если угодно — сдача, мелочь, которой щедрая бесконечность порой осыпает временное. (Время и вечность, бесконечность и сдача от размена того и другого — вот это вот мелочь.) Отчасти — из суеверья, отчасти, наверно, поскольку оно одно — временное — и способно на ощущенье счастья» Далее Вертумн, который призван отвечать за смену сезонов, совершенно перепутал валюту. То есть мы знаем, что происходит, особенно по этой зиме, всемирное глобальное потепление. Бродский хотя и умер задолго до этой зимы, он все-таки все это испытал на себе. Теперь он пишет: «Ты тоже, увы, навострился пренебрегать своими прямыми обязанностями. Четыре времени года все больше смахивают друг на друга, смешиваясь, точно в выцветшем портмоне заядлого путешественника франки, лиры, марки, кроны, фунты, рубли». То есть, опять тот же самый образ времени, которое меняется на вечность, и получается вся эта мелочь и фиг знает что. И это один из самых известных и самых поэтичных образов Бергсона из «Творческой революции». Опять-таки мне придется читать. Бергсон рассуждает о Платоне. Он пишет о поэтичнейшем образе Платона, о том, что время есть не что иное, как отражение вечности. В платоновском учении все, что мы видим, все, что перед нами, есть отражение неких идей, существующих там. Там существует вечность, а перед нами здесь существует время — ее отражение. И время разменивается на вечность мелкой монетой, но до конца разменять нельзя. Итак, философия Платона устанавливает между вечностью и временем то же отношение, что существовало бы между золотой монетой и разменивающей ее мелкой монетой. Настолько мелкой, что в то время как золотая монета разом покрывает долг, выплата этой мелкой монетой может продолжаться бесконечно. И все же долг останется непокрытым. Это и выражает Платон на своем величественно прекрасном языке, когда говорит, что Бог, не имея возможности сделать мир вечным, дал ему время — подвижный образ вечности. Казалось бы, Бродский, попросту говоря, цитирует Бергсона и ссылается на Бергсона. Казалось бы — потому что между Бродским и Бергсоном стоит Мандельштам. Два стихотворения Мандельштама, написанные, опять-таки, в молодости, в том же самом сборнике «Камень», значит очень известные стихи, и то, что там присутствуют образы Бергсона: вечность, время и вот эта вот мелочь — это давно было уже замечено. Целый день сырой осенний воздух Я вдыхал в смятеньи и тоске. (он в Париже хочет поужинать) Я хочу поужинать, и звезды Золотые в темном кошельке! И вот он входит в тот самый кабак, в котором он собирается поужинать, и там непонятные отношения с администрацией, и все это кончается воплем: «Разменяйте мне мой золотой!». Есть еще другое стихотворение Мандельштама того же времени: «Нет, не луна, а светлый циферблат». Приблизительно на ту же самую тему. Как я уже сказал, современные исследователи заметили, что там образ Бергсона, но сам Бродский, если бы он читал только стихи Мандельштама, и не читал ни современных исследователей, ни Бергсона, никогда бы не вытащил всю эту идею в том размере, что он вытащил, и не изложил бы в своих стихах. Потому что у Бродского, это гораздо более полная, это классическая идея Бергсона, а у Мандельштама только слабая аллюзия. То есть Бродский толкует Бергсона через Мандельштама. Он и Мандельштама читал, и там есть образ Мандельштама, он и Бергсона читал. Он толкует один текст через другой. Когда происходит все это толкование — оно не просто толкование экзегетическое, которое должно отразить подкованность автора и даже не аллюзия толкователя на современные ему события и на свои собственные душевные переживания. Оно в некотором роде есть цепь традиции. Этой цепью, этим толкованием, с точки зрения Мандельштама, Бергсон связан с Библией; с точки зрения Бродского, Мандельштам связан с Бергсоном; а с нашей точки зрения, Бродский связан с Бергсоном и Мандельштамом. Выстраивается некая последовательность толкований. То, что в трактате Мишны «Перке а’вот» называется некой последовательностью передачи Торы. Господь передал Тору Моше на горе Синай, Моше передал Тору старейшинам, старейшины передали… ну и так далее, и тому подобное. Только это не религиозная традиция, это не традиционно еврейская традиция, то есть она традиционно еврейская традиция в том смысле, что у евреев разные традиции, в том числе и такая. Светская еврейская традиция, в которой ищется та самая Тора, та самая основа, через которую можно передавать свою культуру. И этой основой может оказаться мальчик Мотл Шалом Алейхема, это уж совсем просто. И дальше будут толкования на мальчика Мотла, и толкования на толкования мальчика Мотла, и все мы будем считать, что мы евреи потому, что мальчика Мотла мы читали в детстве и толкования на него тоже. А может быть это Бергсон, который для евреев в первой половине двадцатого века был неким светочем в философии, для евреев, ориентированных на французскую культуру, а для евреев, ориентированных на немецкую культуру — другой философ, тоже еврей, и тоже долгое время о своем еврействе ничего не писавший. Был Герман Коен — глава марбургской школы. И дальше следует толкование на Германа Коена, и толкование на толкование Германа Коена, и в этой череде оказываются люди просто свое еврейство отрицавшие, типа уже Пастернака и Ольги Фрейденберг. Тем не менее, в этой цепочке они идут за Германом Коеном... Вот собственно и все, что я сегодня хотел рассказать в этом своем непрофессиональном рассказе про Мандельштама. Спасибо. Я прошу прощения, что я не отвечал на вопросы по ходу лекции, но мне это действительно было сложно. Вопросы: Вопрос: «В какой момент Мандельштам крестился и почему?» Ответ: «В какой момент… Если я не ошибаюсь, это 1909 год. Может быть, и ошибаюсь, я не помню точной хронологии. Мандельштам крестился, когда выяснилось, что денежки у папы кончились. Папа его был недоучившимся раввином, как вы знаете, он не получил смиху. Он стал коммерсантом по коже, коммерсантом не очень удачливым, и денежки кончились. А среди русских евреев богатых была традиция, поскольку там была процентная норма и их не брали в университеты сверх этой нормы, то состоятельные евреи посылали своих детей учиться во всякие приличные места за границей. Мандельштам проучился семестр во Франции, где и слушал Бергсона в Эколь Нормаль. Там деньги кончились, и надо было поступать в России в Санкт-Петербуржский университет. И на эту тему ему, так или иначе, пришлось креститься, но поскольку, опятьтаки, в этой ситуации еврей выпендривается, а он был в этом смысле типичный еврей, то он не крестился в православие. Он крестился в лютеранство. И вроде бы уже христианин, и под процентную норму не попадает, и с другой стороны, все-таки, не такой как все».