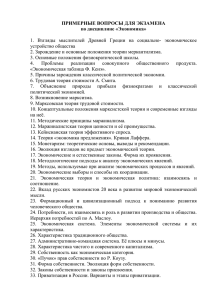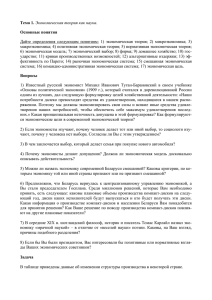Полный тескт публикации - Экономика. Социология. Менеджмент
реклама
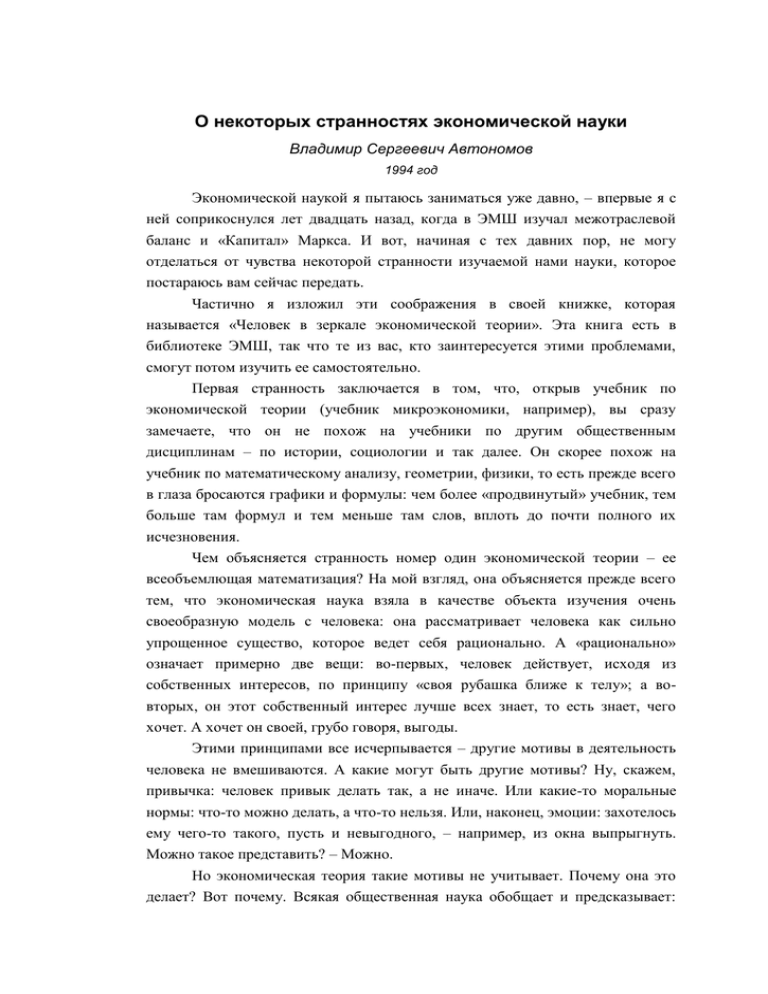
О некоторых странностях экономической науки Владимир Сергеевич Автономов 1994 год Экономической наукой я пытаюсь заниматься уже давно, – впервые я с ней соприкоснулся лет двадцать назад, когда в ЭМШ изучал межотраслевой баланс и «Капитал» Маркса. И вот, начиная с тех давних пор, не могу отделаться от чувства некоторой странности изучаемой нами науки, которое постараюсь вам сейчас передать. Частично я изложил эти соображения в своей книжке, которая называется «Человек в зеркале экономической теории». Эта книга есть в библиотеке ЭМШ, так что те из вас, кто заинтересуется этими проблемами, смогут потом изучить ее самостоятельно. Первая странность заключается в том, что, открыв учебник по экономической теории (учебник микроэкономики, например), вы сразу замечаете, что он не похож на учебники по другим общественным дисциплинам – по истории, социологии и так далее. Он скорее похож на учебник по математическому анализу, геометрии, физики, то есть прежде всего в глаза бросаются графики и формулы: чем более «продвинутый» учебник, тем больше там формул и тем меньше там слов, вплоть до почти полного их исчезновения. Чем объясняется странность номер один экономической теории – ее всеобъемлющая математизация? На мой взгляд, она объясняется прежде всего тем, что экономическая наука взяла в качестве объекта изучения очень своеобразную модель с человека: она рассматривает человека как сильно упрощенное существо, которое ведет себя рационально. А «рационально» означает примерно две вещи: во-первых, человек действует, исходя из собственных интересов, по принципу «своя рубашка ближе к телу»; а вовторых, он этот собственный интерес лучше всех знает, то есть знает, чего хочет. А хочет он своей, грубо говоря, выгоды. Этими принципами все исчерпывается – другие мотивы в деятельность человека не вмешиваются. А какие могут быть другие мотивы? Ну, скажем, привычка: человек привык делать так, а не иначе. Или какие-то моральные нормы: что-то можно делать, а что-то нельзя. Или, наконец, эмоции: захотелось ему чего-то такого, пусть и невыгодного, – например, из окна выпрыгнуть. Можно такое представить? – Можно. Но экономическая теория такие мотивы не учитывает. Почему она это делает? Вот почему. Всякая общественная наука обобщает и предсказывает: обобщает поведение различных людей и предсказывает, как они могут себя вести в дальнейшем. Но для того, чтобы обобщать, надо, чтобы было что-то общее. А для того, чтобы предсказывать, должно быть что-то предсказуемое. Именно для этих целей весьма удобно представить себе человека таким вот просто устроенным. Если мы представим себе, что люди действительно всегда умело стремятся к своей выгоде, то мы можем строить относительно их поведения более или менее надежные прогнозы. К тому же, это интуитивно не слишком далеко от истины. По крайней мере, мы наверняка можем сказать: если у человека есть выбор между тем, чтобы производить какую-то вещь, которая приносит ему прибыль, и другую вещь, которая прибыли не приносит, то он выберет первое. Если же мы начнем учитывать при рассмотрении какие-то привычки, эмоции и так далее, нам будет очень трудно работать. Придется строить многофакторную модель, где действуют и собственный интерес, и какие-то иные факторы, и очень трудно будет рассчитать, какие из них действуют сильнее, какие слабее и каким будет результат. Поэтому гораздо проще представить себе, что человек – это простая машина, которая стремится к собственной выгоде и стремится к этому наиболее разумным, рациональным путем. Собственно говоря, человек, который одним из первых придумал так упростить модель человека, и стал отцом экономической науки. Это был Адам Смит, который в 1776 г. выпустил книгу «Богатство народов». Именно благодаря модели «экономического человека», описанной в этой книге, оказалось возможным создать специализированную экономическую науку, которой раньше не было. (Сам Адам Смит был профессором «моральной философии»: так раньше называлось примерно то, что сейчас включают в себя все общественные науки, то есть это было всеобъемлющее понятие.) И вот Адам Смит решил упростить представление о человеке, прежде всего о человеке-производителе. Производитель решает, что ему выгоднее делать, в какой отрасли ему работать, чем ему заниматься и так далее. Но правомерен ли такой образ человека, который все время думает только о своей выгоде? Могу сказать по себе: в юности мне был очень несимпатичен этот образ. Но впоследствии я начал ловить себя на мысли, что человек действительно всегда взвешивает, что ему выгоднее. Это проявляется даже, казалось бы, в не совсем экономических решениях: направо пойти или налево, сходить на лекцию или пропустить, – человек всегда выбирает способ поведения, который ему приносит наибольшую выгоду, исходя из своих представлений о том, что для него хорошо и что плохо. Так что этот принцип, который получил название предпосылки «экономического человека», действительно многое объясняет. Многое, но не все. В книге Джона Стюарта Милля – великого экономиста и философа – есть очень любопытное рассуждение. Он излагает экономическую науку по Смиту и потом говорит: «А всегда ли можно приложить эту самую экономическую науку, ко всем ли сферам экономической деятельности?» – Нет, не ко всем. Вот, например, к оптовой торговле можно, потому что там действуют люди рациональные – профессионалы, которые закупают, перепродают, ищут своей выгоды, вычисляют свою прибыль, конкурируют между собой. Поэтому к оптовому рынку можно применить выводы экономической науки: например, об образовании цены. А к розничному рынку – нельзя, потому что потребители, как говорит Милль, часто озабочены какими-то другими вещами. Например, потребителю может быть неудобно искать вещь подешевле: он приходит в магазин и спрашивает, сколько она стоит, – ему называют какую-то цену. Потребитель считает, что ему неудобно торговаться, особенно с незнакомым продавцом, что это как-то мелочно, и в результате покупает вещь за ту цену, которую ему назвали. Он не станет искать эту вещь в других магазинах, чтобы найти тот, где можно купить дешевле. Или он может просто не знать, где эта вещь продается дешевле, потому что у него нет времени на поиски более дешевого товара. Поэтому и получается, что на один и тот же товар могут быть разные цены, что мы сплошь и рядом видим в наших коммерческих киосках и магазинах. А экономическая наука обычно исходит из того, что на один товар должна быть одна и та же цена, – по крайней мере, когда рынок пространственно ограничен и не составляет большого труда сделать шаг к соседнему продавцу. Так что уже во времена Милля (а книга его вышла в свет в 1848 г.) экономисты понимали, что упрощенная модель экономического человека объясняет далеко не все. Джон Стюарт Милль еще очень мягко обошелся с этой моделью, а у нее были и гораздо более серьезные и активные оппоненты, – например, в Германии, где вообще начисто отвергали какой бы то ни было экономический расчет. Немецкие ученые говорили, что Смит все это выдумал применительно к англичанам, что это англичане такие эгоисты, а вот немцы всегда думают о других, о государстве, они религиозные люди, и для них вся эта экономическая наука не годится. Так что зарождающаяся экономическая наука с трудом пробивала себе дорогу. Но все-таки преимущества упрощенного представления о человеке давали себя знать, и уже у Давида Рикардо, которого считали главным продолжателем дела Смита, заметна тенденция превращения экономической науки в логическую. Если вы когда-нибудь будете читать Смита (а я, кстати, советую вам, это чтение очень интересное), то вы обратите внимание, как много у Смита исторических и прочих подробностей. Там есть сведения о том, как было устроено древнеегипетское общество, о кастах, о торговле, о дальних странах, множество наблюдений над жизнью, – все это у Смита перемежается с тем, что мы привыкли называть экономикой. У Рикардо этого нет. Вся «лирика» остается за бортом, а в книгу входят уже только логические выводы. У Рикардо уже не человек, а сам капитал «ищет» наиболее выгодные сферы приложения. Экономическая наука, таким образом, становится безличной. А там, где есть логика, естественно, есть возможность и для применения математики. И в трудах Рикардо, и в работах многих других экономистов XIX в. обращает на себя внимание то, как иногда трудно передать словами какую-то идею, которую можно было бы совершенно запросто выразить с помощью формул. Вот, например, всем известное понятие эластичности спроса. Достаточно сказать, что эластичность спроса на какой-то товар по цене меньше единицы, и вы сразу ясно представляете себе, что это за товар. Но экономисту, который должен был все это передать словами, необходимо было потратить примерно полстраницы на описание спроса на такой товар. Поэтому напрашивается вывод, что после «логизации» экономической науки произошла ее математизация. Но она произошла не сразу, критическим этапом стали 70-е годы XIX века, в которые произошла так называемая маржиналистская революция. Почти одновременно в трех странах: в Австрии, во Франции и в Англии вышли три книги: книга Джевонса «Теория политической экономии», книга Вальраса «Элементы чистой экономической теории» и книга Карла Менгера «Основание политической экономии». На русский язык единственной из этих книг пока переведена книга Карла Менгера (и она тоже есть в библиотеке ЭМШ). Если Смит, Рикардо, Милль говорили о рациональном производителе, а потребителя считали человеком, подвластным настроению и привычке, то маржиналисты распространили рациональность и на сферу потребления. Человек, решая, покупать ему товар или не покупать, рассчитывает или «взвешивает» выгоду, которую получит от приобретения этого товара, и то, что он при этом потеряет. Например, если босой человек покупает одну пару обуви, то вероятно, что полезность этой пары перевешивает для него расходы, которые связаны с ее покупкой. Возможно, что так же будет и при покупке Эластичность спроса по цене: изменение величины спроса, приходящееся на единицу изменения цены (в долях единицы; может также измеряться в процентах) – Прим. ред. второй пары обуви за ту же цену – предположим, в праздничные дни наш герой может ходить в одной паре, а в будни – в другой. Но если он будет покупать дальше, то выгода от следующей – скажем, седьмой по счету – пары наконец станет меньше, чем неприятные ощущения от расставания с деньгами. Таким образом, потребитель купит то количество обуви, которое для него оптимально. Заметьте: если Рикардо и Смит говорили, что человек просто ищет, где лучше, то маржиналисты уже исходили из того, что человек стремится достичь максимальной выгоды из всех возможных состояний. А если мы говорим о том, что человек стремится и действительно достигает оптимума, то мы можем применить к его поведению целый класс ситуаций из математики, который связан с нахождением экстремума. Это дает возможность для математизации экономической науки, что явилось большим прогрессом в точности и строгости анализа. Но здесь есть одна опасность, которая связана с тем, что при этом мы слишком отрываемся от действительности. Когда Смит, Рикардо и другие предполагали, что человек всегда стремится только к своей выгоде, это уже было некоторым отрывом от действительности, – тем, что в науке называется абстракцией. Но здесь отрыв становится несколько больше, потому что мы предъявляем повышенные требования к рациональности людей, которые в таком случае должны знать все возможные варианты и безошибочно выбирать из них наилучший. Есть и другое, на первый взгляд незаметное, но существенное допущение, которое мы делаем, рисуя хорошо вам знакомые кривые спроса и предложения. Когда мы переходим от таблички, куда заносим отдельные значения цен и величин спроса (то есть от отдельных точек на графике) к гладкой, непрерывной кривой, мы неявно предполагаем, что товар обладает бесконечной делимостью, то есть что можно покупать сколь угодно маленькие его количества. А это не всегда соответствует действительности. Именно поэтому, например, один из первых маржиналистов – Менгер – вообще не применяет математики. Вся его книга, как ни странно, написана словами, хотя она маржиналистская. Ну, предположим, Менгер не очень хорошо знал математику, – он был по образованию юристом. Но возьмем Маршалла, который был одним из лучших математиков в Кембридже. Так вот Маршалл считал, что математика должна «знать свое место», она должна присутствовать в сносках или иллюстрациях, но не должна подменять собой экономическую теорию. Действительно, в книге Маршалла «Принципы экономической науки» все диаграммы, которые он первый начал активно внедрять в экономическую науку, содержатся в сносках, а формулы вообще есть только в приложениях. Вальрас поступил более радикально – его книга действительно больше похожа на трактат по алгебре. Интересно, что в дальнейшем развитие экономической науки пошло не по Менгеру и не по Маршаллу, а скорее по Вальрасу. Формализация и математизация стали основным магистральным путем развития экономической науки. И при этом возникают такие ситуации, когда экономисты следуют именно математической, а не экономической логике. Например, почти сто лет экономисты стремились наиболее кратко и изящно доказать, что кривая спроса имеет отрицательный наклон, хотя этот факт всем интуитивно ясен. Иногда получается, что экономическая наука действует как такса, которая роет норку. Она углубляется, входит в азарт и выкапывает огромнуюогромную нору, забыв, что там было раньше. Иногда экономисты ведут себя точно так же. Допустим, есть некоторая экономическая проблема, она некоторым образом решается, но затем экономисты увлекаются тонкостями анализа и начинают строить предположения, – что если форма функции будет не такой, а другой, и так далее. Однако чем сложнее модели, тем с большей осторожностью надо их применять, потому что у них может быть больше скрытых допущений. Еще одна аналогия. Экономист, пытаясь применить свою технику, свои математические инструменты анализа, напоминает человека, который где-то потерял монету, но ищет ее под фонарем, потому что там светлее. Он знает, что поведение человека не описывается максимизацией полезности, но поскольку он знает, что делать с поведением, которое ей описывается, то он сначала «ищет под фонарем», предполагая, что максимизация имеет место. А потом он говорит: для того, чтобы чуточку отойти от фонаря, надо ослабить эту предпосылку, а чтобы подальше отойти от фонаря, надо ослабить другую предпосылку… Проблема здесь одна: количественное удаление от фонаря – то есть от принципа максимизации – может стать качественным, и тогда наша теория бесполезна. Это вполне универсальный алгоритм экономического анализа. То же самое видим в связи с проблемой неопределенности. Традиционная экономическая теория не самого продвинутого уровня предполагает, что человек обладает полной и бесплатной информацией, которая ему нужна для принятия оптимального решения. Но на практике так бывает крайне редко, и мы имеем дело с ситуацией неопределенности. Экономисты выходят из положения, пытаясь подменить неопределенность каким-то видом определенности. Они, например, говорят, что человек не знает точно, какой результат принесет его поведение, но зато он знает распределение вероятностей всех исходов. Почему же все-таки в настоящее время значительная часть экономической науки представляет собой прикладную математику? Помимо удобства искания под фонарем можно выделить и некоторые другие факторы: например, легче учить учеников по неоклассическим учебникам с диаграммами и задачами – они позволяют, в частности, дозировать сложность изложения. Наконец, такого рода экономическая наука действительно удобнее для экономистов-профессионалов. Есть такая хорошая книжка Томаса Куна, называется «Структура научных революций» (не знаю, есть ли она в библиотеке ЭМШ, но, по моему мнению, должна быть). Томас Кун говорил о том, как происходит прогресс в науке: есть какая-то теоретическая система, которую мы принимаем, она называется парадигма. В рамках этой парадигмы люди занимаются так называемой «нормальной» научной деятельностью, например, применяют эту теорию к каким-то новым массивам данных – скажем, какую-то потребительскую функцию, полученную для США, испробуют на Берегу Слоновой кости. Вот это есть типичная «нормальная» наука. А меняются эти теории-парадигмы тогда, когда накапливается критическая масса ошибок – явлений, которые эта парадигма не объясняет. Тогда и происходит научная революция, сбрасывается старое, появляется новое, и начинается «нормальная» научная деятельность в рамках новой парадигмы, как у нас. Вы того времени не застали, но многие из присутствующих здесь его хорошо помнят: раньше надо было объяснять все явления действительности в терминах, которые придумал Маркс сто лет назад. Это было очень трудно, но экономисты старались. Теперь все похоронили марксистскую парадигму, и у нас парадигма неоклассическая, так что мы с вами пытаемся все объяснять в терминах неоклассических. Это типичная «нормальная» наука. И вот выясняется, что нормальная наука, которая не выходит за рамки, принятые в научном сообществе, очень хорошо развивается именно в рамках математизированной неоклассической теории. А почему? – Потому что для исследования такого типа моделей не нужно никаких фактов. Это очень удобно: вы можете, не выходя из своего кабинета, исследовать свойства какой-то кривой при некоторых изменениях факторов – для этого не надо ни статистики, ни каких-либо наблюдений над реальной действительностью. Нобелевский лауреат Василий Леонтьев проводил исследование статей в американском журнале “American Economic Review”, и выяснилось, что больше половины всех статей в этом журнале – а это первый американский экономический журнал, журнал Американской Экономической Ассоциации – не содержит никаких фактов, а только математические модели, которые углубляют модели, уже существовавшие ранее. Таким образом, существует возможность «делать» науку без фактов. Это и есть вторая странность экономической науки, на которую я хотел обратить внимание. По этому поводу сейчас очень сильно бьют в колокола крупнейшие экономисты – Морис Алле, тот же Леонтьев и другие. В их публикациях содержатся сетования на то, что у экономистов нет вкуса к работе с фактами, что они могут прекрасно существовать, не сталкиваясь с ними. У вас не должно создаться впечатление, будто я считаю, что математика в экономике неуместна – это было бы совершенно нелепо и глупо. Не только потому, что вслед за этой лекцией у вас будут две лекции по математике, но и потому, что применение математики – это действительно гигантский прогресс анализа, гигантское повышение точности высказываний. Математика дает нам язык, на котором мы можем высказывать то, что не можем высказывать словами, а также мощные орудия исследования. Но надо быть очень осторожным, чтобы математика не стала самозначащей, не стала методом, который совершенствуют ради него самого. Ну и, наконец, третья странность, тесно связанная с первыми двумя: раз может быть наука без фактов, то совершенно понятно, что такая наука с трудом применяется в практике – в бизнесе, скажем. Действительно, у нас часто возникает путаница по поводу того, что же такое экономическая наука: многие считают, что экономическая наука – это наука о том, как управлять фирмой или как помочь предпринимателям. Считают, что если вы экономист, то вы обязаны знать, как проводить маркетинговые исследования и так далее, и тому подобное. А это на самом деле не так. Экономическое знание в целом разделяется на две очень важные части: это собственно экономическая наука и управленческие дисциплины (маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет и другие). У вас вчера были две лекции по маркетингу, лекции по рекламе. Эти дисциплины не входят в экономическую науку в том смысле, в каком она понимается на Западе. Их изучают на специальных факультетах – в школах бизнеса. Получается, что экономическое знание делится на две неравноценные части: первая часть – это наука, но не совсем экономическая, а вторая часть – экономическая, но не наука. То, что на Западе считается экономической наукой, – это наука, которая уже чуточку оторвалась от экономики. А то, что считается управленческими дисциплинами, которым учат на специальных управленческих факультетах – это экономическая, но в общем-то не наука. В прошлом году в Москве проходила конференция Мировой экономической ассоциации, и я был на секции, посвященной высшему экономическому образованию. Там были два интересных доклада: Кеннета Эрроу – наверное, самого великого экономиста наших дней, нобелевского лауреата, – и Марка Блауга – наверное, самого великого историка экономической мысли. Эрроу и Блауг были поставлены во главе комиссии, которая проверяла результативность экономического образования. Члены этой комиссии ходили по потребителям, по фирмам, по тем местам, где работают экономисты-практики после окончания университета, и спрашивали: «Какого вы мнения о выпускниках экономических факультетов?» И Блауг, и Эрроу в один голос сказали, что, услышав этот вопрос, бизнесмены просто выходили из себя от ярости: «Ах, эти экономисты! Они не знают ничего о реальной действительности, они только модели умеют строить! Они и того не знают, и сего не знают...». Реакция была всюду однозначной: практики болезненно реагировали на вопрос о качестве образования, полученного выпускниками экономических факультетов. Существует также вражда между преподавателями экономических и управленческих дисциплин. Я на себе это почувствовал, когда в Канаде изучал управленческие дисциплины. Мы посещали лекции для канадских студентов, и когда мы представлялись как «экономисты», на лицах преподавателей и студентов было написано нескрываемое пренебрежение. Экономисты презирают менеджеров за то, что их дисциплины не теоретичны, а менеджеры презирают экономистов за схоластичность, за абстрактность. Конечно, надо признать, что материальный фактор играет здесь большую роль: преподаватель бухучета получает раза в два больше, чем преподаватель экономической теории. Но мы отвлеклись: вернемся к практическому применению экономической науки – такой абстрактной, оторванной от жизни и так далее. На мой взгляд, можно проранжировать все сферы человеческой деятельности по степени рациональности людей, действующих в этих отраслях. Есть такие отрасли, в которых экономическая наука – самая абстрактная – применяется конкретно и приносит большие деньги: например, сфера фондовых бирж, финансовых рынков. Люди, действующие на финансовых рынках, – это профессионалы из профессионалов, они действительно заботятся только о своем денежном выигрыше, они стремятся его всячески максимизировать, они как-то учитывают риски и так далее. Конечно, это сфера не для всех: хотя владеют акциями (в Америке, а не в Европе или Японии) многие, но торгуют на бирже только немногие. В том же самом университете Торонто все профессора, которые учили нас предпринимательству, маркетингу и финансам, на бирже не играли. При этом они говорили, что только 5% игроков выигрывают на бирже, а остальные 95% на ней проигрывают. Но вот к этим 5%, которые удачно играют на бирже, очень хорошо применимы самые что ни на есть теоретические экономические модели определения оптимального портфеля ценных бумаг. Здесь мы наблюдаем пример очень удачного слияния экономики и экономической теории. Что же касается других сфер, то там постепенно начинается удаление от этого идеала – идеала точности и рациональности, – там начинают все большую роль играть факторы традиций, морали и так далее. Здесь экономистам приходится активнее прибегать к междисциплинарному анализу, даже если это дает какой-то проигрыш в строгости. Что толку в строгой теории, если она не дает нам точных прогнозов! А если мы не будем учитывать важные, но внешние по отношению к теории факторы, то точных прогнозов не получим. Таким образом, я завершаю лекцию на следующей ноте: учить математику, конечно, надо, и очень тщательно – иначе вы просто не поймете современных экономистов, поскольку это язык, на котором они разговаривают. Но всегда необходимо быть осторожными в применении экономической теории, в применении современных математических моделей к экономическим явлениям: иногда бывает, что такое применение слишком оптимистично.