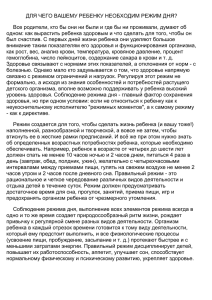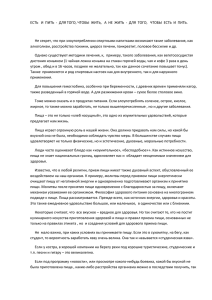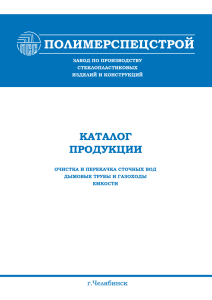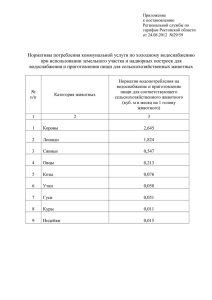Императив худого тела в современном массовом обществе и
реклама

Императив худого тела в современном массовом обществе и актуальные гастрономические стратегии. И.В. Сохань Гастрономические стратегии, безусловно, влияют на производство актуального стандарта телесности, который, традиционно, был выражен в рамках оппозиции «тело худое/тело изобильное», где, соответственно, худоба предполагала минимализм пищевого режима, а, тело изобильное — максимум потребления пищи. Сегодня эта оппозиция приобретает дополнительный смысл, связанный с актуальными обстоятельствами, и, учитывающий характерные для нынешнего цивилизационного состояния пищевые расстройства, которые отражают социальные и культурные риторики в отношении взаимосвязи потребляемой пищи и нормы тела — так, возникает оппозиция «тела анорексии/тела ожирения»1. Императив худобы, столь характерный для современного социокультурного дискурса, выражает не только категоричность эстетической ценности такого тела, но, имеет более глубокие причины — именно худое тело является как самым прекрасным объектом потребления, так и предпочтительной характеристикой самого субъекта, действующего в обществе потребления. Психоанализ пищевых расстройств (как наиболее представленная сфера исследований по проблеме анорексии/ожирения) предлагает следующую точку зрения на феномен лишнего веса – ожирение есть захваченность бессознательным. В то же время, в обществе массового потребления бессознательное уже конвертировано в товар – коммерциализированы все импульсы бессознательного, могущие стать любого рода желанием, которое, в свою очередь, будет обслужено рекламным дискурсом и экономическим конвейером. Поэтому, как отмечает Ж Бодрийяр, невозможно преодолеть нормативность худого тела — именно оно выражает свободу от бессознательного и одновременно является пространством инсталляции знаков-объектов общества потребления: «...мода может воздействовать на все — на противоположные явления, безразлично на старое и новое, «красивое» и «безобразное» (в их классическом определении), на моральное и имморальное. Но она не может воздействовать на различие толстого и худощавого. Здесь существует как бы абсолютная граница. Происходит ли это потому, что в 1 с дополнительными коннотациями, по сравнению с оппозицией «тело худое/тело изобильное». обществе сверхпотребления (продовольственного) стройность становится особым отличительным знаком?»2. Действительно, такая ситуация создает ряд противоречий в гастрономических стратегиях, которые обеспечивают подобную норму. Наиболее точным визуальным образом, иллюстрирующим современный идеал отношений человека и его пищи, является образ худой топ-модели с гамбургером в одной руке и кока-колой в другой — идеал малодостижимый, учитывая тип телесности, создаваемый фаст фудом. Ведь, традиционно, худоба обеспечивается минимумом еды — в то время как современное общество едой искушает и соблазняет, настаивает на активном потреблении пищи, и, особенно фаст фуда. Нормативным телом в такой ситуации выступает тело, принципиально не зависящее от пищи — оно остается тождественным себе (и своей антропологической истине), как в случае активного потребления еды, так и в случае отказа от ее потребления. Поэтому проблема телесной нормы связана с двумя вопросами: с вопросом предпочтительных гастрономических практик, поскольку только в них преодолевается граница между внешним (миром) и внутренним (внутрителесном пространством); и, с вопросом идентичности тела как выражающего антропологическую истину — когда человек тождественен себе, а не чему то или кому то другому? Последний вопрос совсем не праздный, т. к. фундаментальные бинарные коды пищи (пища свояпища чужая, пища каннибала — пища не каннибала, пища живых — пища мертвых и т. д.) как раз и связаны с желанием установить незыблемые границы между тем, что можно считать человеческим, и тем, что под это определение не подпадает. Но, как возможно телу оставаться независимым от пищи? Ведь телесная норма инициируется режимом потребления еды — минимальный режим формирует худое тело; сложнокодированная трапеза, включающая в себя гастрономические изыски и особые практики застольной коммуникации, конституирует, к примеру, тело элиты; плотная и обильная еда соответствует телесности человека, занимающегося тяжелым физическим трудом, и т. д. В каждом случае, сам акт питания предстает в качестве транслятора культурных норм, полагающий дистанцию между потребностью человека 2 Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр; Пер. с фр. Е.А.Самарской. — М.: Культурная революция, 2006. С.182. в пище и ее реализацией — потребностью в реализации бессознательного и сознательном структурировании этого процесса. Например, тучное тело ожирения рассматривается в психоанализе как захваченное эго-комплексом, когда потребности, прежде всего потребность в пище, требуют немедленной реализации, и не подлежат какой-либо переработке, отсрочке или купированию. При этом, любые попытки пищевых ограничений, которые действуют только на рациональном уровне, не выдерживают долгосрочного испытания временем, потому что, при любом ослаблении негативного3 контроля со стороны сознания, возвращение в исходное состояние захваченности бессознательным и спровоцированное им потребление пищи, происходит незамедлительно. В европейской культуре именно худое тело признавалось в качестве наиболее отражающего истину человеческого существования. Худоба — это отличие культуры от природы, маркер власти духа над плотью, признак тела, в котором живет душа; наконец, в гендерном аспекте, это прерогатива, специфика и красота именно женского тела. В III в. н.э. Порфирием был написан трактат «О воздержании от употребления в пищу одушевленных существ» (в более упрощенном переводе — «О воздержании от мясной пищи»), где, помимо всего прочего, идет речь о взаимосвязи тела, ума, души, и режима питания, предпочитаемого человеком. Аргументация, выдвигаемая философом, является первым опытом философского анализа пищевого режима и связанной с ним телесной нормы. Автор трактата предостерегает от невнимательного отношения к пище, т. к. она влияет не только на телесные параметры человека, но и на всю совокупность его характеристик — только максимально экономичный режим существования тела (т. е. минимум пищи) обеспечивает максимум духовной работы. Любые отклонения от этого идеального соотношения влекут процесс, который Порфирий называет превращением души в тело — так, аппетит инициирует такой режим потребления пищи, когда и происходит это превращение, в отличие от голода, которые и является единственно возможным сигналом к принятию пищи. Если прием пищи инициируется голодом, то человек ест столько, сколько ему необходимо для физического выживания, а не для удовлетворения эмоциональных и чувственных пристрастий, выражающихся в поиске дополнительных ощущений и наслаждения от 3 в случае жестких внешних ограничений, безусловно, негативного. пищи. Только простая пища подходит человеку, если он не собирается загрязнять свою плоть чужеродными ей значениями. Таким образом, излишки плоти, за рамками ее аскетического объема, отражают омертвевшую душу (оказываясь ее могилой), а появляются они в результате нарушения должного гастрономического режима — основываемого на аппетите, а, не как должно на голоде. Что же вовлекает душу в тело, в излишнюю материализацию? Порфирий вводит метафору колонии страстей, чужеродных душе, но посягающих на отчуждение ее онтологии для того, чтобы усиливать и распространять свое существование. И вот здесь, правильный режим питания, устанавливаемый разумно, может сберечь душу, сохранить ее связь с телом, при этом тело будет пребывать в чистоте, а душа, присутствуя в теле, одновременно — созерцать истинное бытие. Избыток питания делает душу ленивой, т. к. она перестает искать питания в уме — здесь мы видим фиксацию принципа, который прозвучал выше — тучное тело базируется на том, что источник питания как тела, так и души — это потребление пищи (обращение к миру эмпирическому, на «загрязняющем» свойстве которого настаивает Порфирий). Предполагается, что, обладатель худого тела рассматривает иные источники питания, стремясь к недостижимому идеалу ненуждаемости в пище материальной: «...если бы не нуждались в пище, то были бы счастливее...Душа в изобильной пище отдает телу всю себя. Если бы было средство против голода и жажды — все бы стали богами!»4. Таким образом, основа решения задачи приближения к образу божества — это телесная и душевная чистота, которые оказываются равноважными — тело не должно мыслится чем-то отдельным от всей антропологической тождественности, и не должно казаться чем-то менее ценным во всей структуре личности. Как уже было сказано, наилучшим для тела является голод, обеспечивающий минимализм плоти — именно усеченная плоть должна быть подлинным онтологическим пространством существования души, а, плоть, превышающая этот минимум, становится темницей для души. Не всякое тело является такой темницей, но тело излишествующее — тело с излишком плоти, который легко образуется при неправильном взаимодействии с окружающим миром посредством неверных гастрономических стратегий. Порфирий критически относится к любой еде, интенсифицирующей удовольствие и выходящей за рамки своего основного предназначения — утолять голод, но не удовлетворять 4 Порфирий. О воздержании от мясной пищи. Книга IV. Человек. - 1994. - № 5. - С. 87. имеющему тенденцию к расширению и усложнению аппетиту. Так материальный мир входит в человека и поселяется в нем — нарушая его телесную границу — там, где плоть превысила положенный ей минимум, она уже нарушает антропологическую норму, демонстрируя, что материя внешнего мира подавила человека, и он является ее носителем. Бинарность чистота-нечистота является не просто характеристикой пищи, она отражает онтологической статус телесности, которой пища помогает либо понизить, либо повысить. Эта бинарность — базовый конструкт для понимания стратегий гастрономической культуры, которая формирует определенный, характерный для данной социокультурной общности тип идентичности. Чистой будет являться пища, формирующая востребованные и оправданные культурными параметрами характеристики идентичности, грязной же — пища, которая, наоборот, привносит в телесную идентичность инородные ей значения. Чистота и грязь в понимании Порфирия связаны с истинным и ложным бытием, с миром иным, откуда происходит человек настолько, насколько он есть ум и душа, и с миром эмпирии, в который он неизбежно вовлекается неизбежности телесным потреблять пищу, существованием. загрязняющую Эта тело и неизбежность замутняющую сродни душу, вовлекающую человека в круговорот бренного бытия, чистота же души равна присутствию бога в ней, поэтому разная пища формирует и разного рода связи души и мира, в которых возможности этого контакта представлены двумя экстремальными точками — обжорством и голодом. Обжорство, то есть максимальная изобильность пищи, омертвляет душу, голод же ее оживляет — высвобождает потенциал истинного бытийствования. Впрочем, позиция Порфирия заключается в поиске умеренности такого типа, которая бы склонялась в сторону голода — то есть минимум питания. Философ не просто постулирует такое положение дел, он его объясняет — минимальное питание, получаемое от внешнего источника, заставляет душу искать недостающее, обращаясь в внутреннему источнику питания в себе — к уму. Чем больше пищи внешней, тем более утрачивается человеком способность питать самого себя своими внутренними благами, и, наоборот, необходимый минимум внешней пищи пробуждает в человеке стремление к своему внутреннему благу, которое он и есть — как его абсолютная цель. Следовательно, идеальный пищевой режим возможен как раскрытие внутреннего питания — питания души благом как источником истинной онтологии и антропологического совершенства. Это смешение с миром, в то же время не есть — это значит не смешиваться с миром, ибо смешение есть порча: «так и душа, если тело сухо и не напитано притоком чужой плоти, лучше управляет сама собой, не испорчена и более пригодна к пониманию»5. Итак, концептуальной характеристикой телесного является чистота — как высокая степень свободы от внешнего мира. Страх перед излишествующими гастрономическими практиками — это и страх перед ростом возможных перверсий — на языке Порфирия, страх перед взращиванием колонии страстей, гнездящихся в душе человека. Сущностно не причастные душе человека, они, тем не менее, воздействуют на нее, из потенциального состояния переходя в актуальное — посредством реализации страстей, в частности, гастрономической страсти. Предложенный Порфирием теоретический конструкт касательно истины человеческого существования, телесности человека и его пищевого режима, является уникальным для истории философской мысли, т. к., не получив рефлексивного продолжения в гуманитаристике, тем не менее, обладает большой эвристичностью для понимания процессов, связанных с трансформациями телесности, и сегодня. Идеал худого тела в качестве наиболее отражающего истину души обнаруживает себя в Средневековье, когда состоялось «...великое отречение от тела. Лозунгом монашеской духовности стало презрение к миру, понимавшееся прежде всего как презрение к телу»6. Если Порфирий еще говорит об эстетике тела, функционирующего в правильном пищевом режиме, свободного от страстей — его основные характеристики — чистота, символика белого цвета, минимальность как самой телесности, так и внешнего облика; то в Средние века эстетика тела трансформируется в презрение к телу, хотя оппозиция худой/толстый также остается актуальной, как отражающая специфику воздержания (поста)/обжорства. Ж. Ле Гофф замечает, что система бинарных оппозиций Средневековья включала в себя соответствующую ему телесную оппозицию — тела тощего и жирного, худого и толстого, соответственно — голода и кутежа, воздержания и обжорства. Худое тело менее всего, насколько это возможно для телесного, репрезентирует греховность, которая определяет природу человека, поэтому, все также, оказывается более ценным. Грех обжорства — грех, 5 6 Порфирий. О воздержании от мясной пищи. Книга IV. Человек. - 1994. - № 5. - С. 85. Ле Гофф Ж., Трюон Н. История тела в средние века / Жак Ле Гофф, Николя Трюон; Пер. с фр. Е. Лебедевой. — М.: Текст, 2008. – С. 23. творимый ртом, оказывался тождественным грехам, творимым другими частями тела — т. е. греху сексуальности. А, в современной же культуре худоба актуальна как раз по причине сексуализированности — худое тело выступает эротическим знаком, самым конвертируемым как в реальной экономической сфере, так и в когерентной ей экономике желания — его репрезентаций и коннотаций; чрезмерное пищевое потребление оценивается в качестве порочного, только если ведет к формированию ненормативного образа тела. Итак, основные риторики худого тела базируются на идеях его свободы от замутненности излишними значениями эмпирического мира, которые привносятся потреблением изобильной и сложной пищи; одновременно — пища простая и минимальный пищевой режим являются основой для бытийствования в теле, наиболее отражающем истину человеческого существования — худом теле. В XIX в. культурным императивом телесности становится именно худоба, приобретающая все более категоричные эстетические и статусные риторики, а также связывающаяся с обновленным идеалом женской красоты — в эпоху формирования буржуазии худая женщина тем самым демонстрировала свой (и супруга) высокий социальный статус, который позволял ей жить в праздности, в отличие от представительницы низшего класса, приговоренной к труду, чьи жизненные удовольствия включали в себя прежде всего пищу, а, не более утонченное и разнообразное потребление. Кроме того, худоба отражает способность психики к дифференциации реакций и эмоций — т. е. ту степень рефлексивности и чувствования, которая недоступна постоянно занятому физическим трудом человеку, предпочитающему, поэтому, все сводить на уровень соматического реагирования и трансформации — и, значит, есть, потреблять доступную пищу в рамках не отягощенной социальными условностями, допускающей дешевое изобилие, регламентации. Таким образом, худоба является своеобразным текстом тела, в котором записано множество устойчивых значений, устанавливающих отличие его носителя не только на телесном уровне, но и на всех прочих — социальном, культурном, ценностномировоззренческом, и, самое главное, в качестве наилучшей соотнесенности с идеальным антропологическим форматом. Современная массовая культура и общество массового потребления вознесло худобу на пьедестал возможных телесных идеалов, и перечислять причины этого — может быть целью отдельного исследования. Нас интересует то, каким образом усилившийся ригоризм худобы как предпочтительной телесной нормы связан с деконструкцией гастрономических практик. Выше уже было проанализировано, что актуальность худого тела выражала независимость и победу духа надо плотью, отражала минимализм осуществляемого пищевого режима и символизировала незапятнанность значениями эмпирического мира, который производит свой захват человеческой онтологии именно через искушение пищей. Эти риторики худого тела, продолжают действовать и сейчас, но приобретают и дополнительные коннотации. Деконструкция современной гастрономической культуры имеет множество последствий, который заключаются в следующем. Пища становится таким же знакомобъектом общества потребления, который активно производится в рекламном дискурсе, обрастая разного рода значениями, обеспечивающими его активное потребление. Может быть, ввиду изначальной первичности потребности в пище, она становится наиболее важным и предпочтительным объектом рекламной заботы, т. к. здесь эксплуатируется ее способность быть носителем смыслов, транслируя их непосредственно в телесное пространство, осуществляя запись в бессознательное. Так, потребитель подвергается отменному манипулированию — вообще, дисциплинирование посредством голода и нехватки еды было известно любой власти в любом обществе; но, сегодня, такое дисциплинирование осуществляется посредством изобилия, буквального принуждения к потреблению пищи. В этой ситуации способность оставаться худым достигается в результате двух стратегий сопротивления: первая касается отказа от навязываемого потребления вообще — воздержание не только в смысле традиционного воздержания от чрезмерного потребления пищи, но и способность отказаться от искушения дополнительными эффектами, носителем которых становится еда — здесь уже эксплуатируется не столько голод (в смысле различения голода и аппетита, предложенного Порфирием, и рассмотренного выше), сколько аппетит, модусы представленности которого могут быть весьма разнообразны. Пища, аппелирующая к эмоциям, гасящая стрессогенные реакции, ассоциирующаяся с праздником, преодолевающая трудности коммуникации, вовлекающая в дискурс молодежного потребления либо семейного счастья — отказ от искушения всеми этими эффектами выглядит особо трудным, и, когда он происходит, то становится особым маркером независимости и победы духа над плотью. Однако, это оказывается и отказом от ценностного подтверждения всего того, что так актуально в современном массовом обществе, поэтому вторая стратегия сопротивления предстает как самая сложная и почти невозможная для исполнения — она выглядит как способность потреблять, не претерпевая последствий такого потребления для тела. Онтологический ресурс тела должен перекрывать негативное воздействие внешнего, привносимого из окружающего мира. Такая ситуация возможна только для молодого тела, т. к., взрослея, человек накапливает результаты взаимодействия с окружающей средой и становится более от нее зависим. Недаром, продукция Макдональдс настолько ориентирована на молодых людей и детей, вовлекаемых в ее потребление как можно более рано, пока потенциал юного тела позволяет есть фаст фуд, не переживая сколько-нибудь серьезных и неотвратимых в ближайшем времени последствий. Однако, символизм юного стройного тела, активно потребляющего постоянно тиражируемую рекламным дискурсом быструю еду и остающегося независимым от нее — этот символизм взят на вооружение как наибольшая ценность, в которой зафиксирован новый тип власти духа над телом, когда оно остается тождественным себе, даже в ситуации бесконечного воздействия на него инородными загрязняющими значениями. Состав пищи сегодня также претерпевает сущностные изменения — так, что подвергаются сомнению некоторые устойчивые структуры гастрономической культуры, которая, традиционно, охраняла границы телесной нормы, с одной стороны, маркируя определенные виды пищи как дозволенные, связанные с поощряемым удовольствием; с другой стороны, отвергая неодобряемую еду, которая может рассматриваться в качестве угрозы телесной идентичности. И в том, и в другом случае предполагалось, что человек вооружен знанием о пище, которую он употребляет. Если культура одобряет определенные продукты, а также рецептуру их приготовления, то принятые гастрономические стратегии имеют непосредственное отношение и к формированию телесной нормы, чья семантика ясна и прозрачна. Пищевая индустрия со сложными технологиями видоизменила состав пищи — традиционные связи между природным составом продуктов, воздействием на них кулинарной обработки и конечным вкусом трансформировались до исчезновения гастрономической логики — нынче практически любой материальный реанимирующими субстрат значения может накопленной быть оснащен гастрономической вкусовыми памяти. кодами, Границы дозволенного/недозволенного в пище регулируются только возможностями пищевых технологий в деле создания и прививания многообразия вкусов материальному субстрату как к их носителю. В определенном смысле, возможности пищи быть эмпирическим носителем любых культурных значений здесь достигает чистоты и предела — природный субстрат может быть настолько очищен от своей изначальной детерминированности, что становится «нулевой» материальностью для тех значений, который может туда вложить вооруженная новейшими технологиями пищевая индустрия. В такой ситуации, исходя из базового тождества человека и его пищи (отраженного в дефинициях «человек есть то, что он есть»; «пища есть проникновение иного в тождественное»), можно утверждать, что возникает потребность в телесной норме с такой же «нулевой» материальностью — которая наиболее репрезентирована в худом теле. Свободное от всякой детерминации, оно олицетворяет молодость, когда индивид есть еще только возможность себя, всей той потенциальности, которая может сбыться, а может, и нет. Худое тело олицетворяет и способность к невосприимчивости влияния извне — в соответствии с игровым контекстом многочисленных стратегий индивидуации, которыми изобилует общество потребления, оно примеряет на себя их значения, не меняя свою «нулевую» модальность, играя со знаками, которые не становятся конститутивными для него. Именно поэтому, как было сказано в начале нашей статьи, Ж.Бодрийяр и отмечал, что мода не в состоянии преодолеть базовое для своего существования различие тела худого и тела толстого, т. к. только худоба является идеальным пространством игровой онтологизации бесчисленного множества знаковобъектов массового общества (тогда как телесная полнота выступает свидетельством того, что человек, излишне присутствуя в теле, демонстрирует «затопленность» своим бессознательным, не оставляя места ни для чего другого). Таким образом, телесная норма общества массовой культуры и массового потребления, тяготеющая к максимально худому телу, имеет и глубокие социально-исторические и культурные коннотации, но, и, связана с изменившимся характером современной гастрономической культуры, претерпевающей деконструкцию, и, несомненно, влияющей и на телесную норму, в производстве которой она участвует.