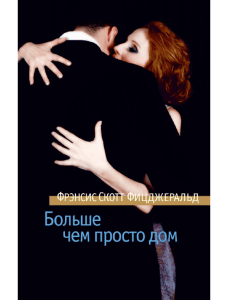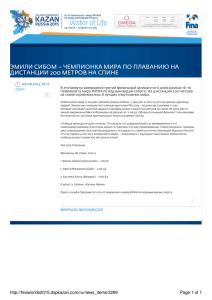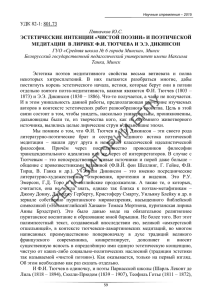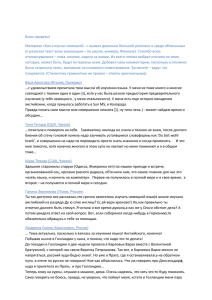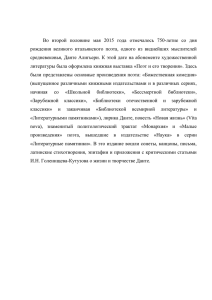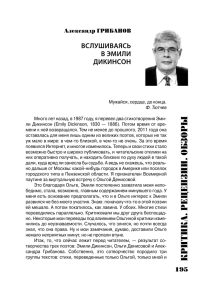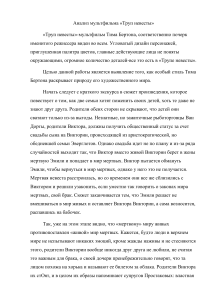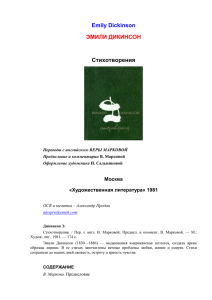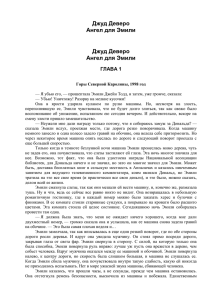Пятачков Ю. Дантовское визионерство как основа поэтических
реклама
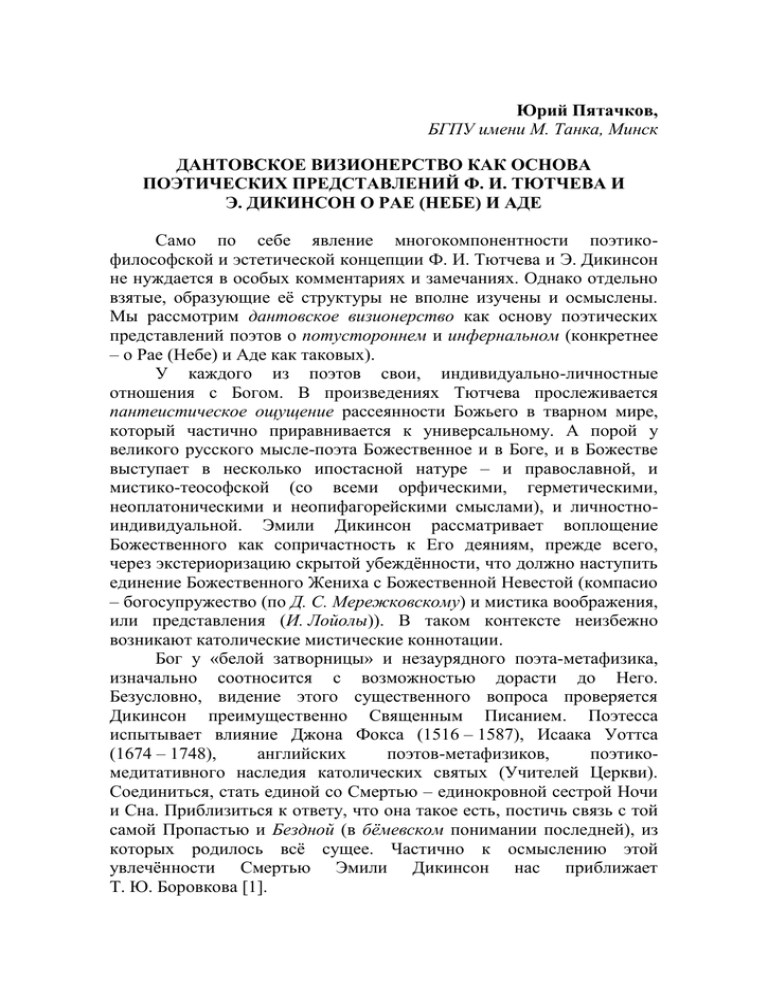
Юрий Пятачков, БГПУ имени М. Танка, Минск ДАНТОВСКОЕ ВИЗИОНЕРСТВО КАК ОСНОВА ПОЭТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Ф. И. ТЮТЧЕВА И Э. ДИКИНСОН О РАЕ (НЕБЕ) И АДЕ Само по себе явление многокомпонентности поэтикофилософской и эстетической концепции Ф. И. Тютчева и Э. Дикинсон не нуждается в особых комментариях и замечаниях. Однако отдельно взятые, образующие её структуры не вполне изучены и осмыслены. Мы рассмотрим дантовское визионерство как основу поэтических представлений поэтов о потустороннем и инфернальном (конкретнее – о Рае (Небе) и Аде как таковых). У каждого из поэтов свои, индивидуально-личностные отношения с Богом. В произведениях Тютчева прослеживается пантеистическое ощущение рассеянности Божьего в тварном мире, который частично приравнивается к универсальному. А порой у великого русского мысле-поэта Божественное и в Боге, и в Божестве выступает в несколько ипостасной натуре – и православной, и мистико-теософской (со всеми орфическими, герметическими, неоплатоническими и неопифагорейскими смыслами), и личностноиндивидуальной. Эмили Дикинсон рассматривает воплощение Божественного как сопричастность к Его деяниям, прежде всего, через экстериоризацию скрытой убеждённости, что должно наступить единение Божественного Жениха с Божественной Невестой (компасио – богосупружество (по Д. С. Мережковскому) и мистика воображения, или представления (И. Лойолы)). В таком контексте неизбежно возникают католические мистические коннотации. Бог у «белой затворницы» и незаурядного поэта-метафизика, изначально соотносится с возможностью дорасти до Него. Безусловно, видение этого существенного вопроса проверяется Дикинсон преимущественно Священным Писанием. Поэтесса испытывает влияние Джона Фокса (1516 – 1587), Исаака Уоттса (1674 – 1748), английских поэтов-метафизиков, поэтикомедитативного наследия католических святых (Учителей Церкви). Соединиться, стать единой со Смертью – единокровной сестрой Ночи и Сна. Приблизиться к ответу, что она такое есть, постичь связь с той самой Пропастью и Бездной (в бёмевском понимании последней), из которых родилось всё сущее. Частично к осмыслению этой увлечённости Смертью Эмили Дикинсон нас приближает Т. Ю. Боровкова [1]. О чём в целом дантова «Divina Commedia» (1307 – 1321) в общечеловеческом отношении? О том, что прожитому человеком всегда соответствует некий неизбежный морально-нравственный закон искупления. В итоге всепронизывающая христианская проблематика сводится к извечной триаде Тело – Душа – Дух, соотношению её структурных элементов в бытии, воздействию на сознание, подсознание и бессознательное. Всё в итоге всегда возвращает нас к единственной непостигаемой Тайне – Тайне Человека (как её определил страдалец земли русской Ф. М. Достоевский). «Divina Commedia» по глубинному содержанию и насыщенности колоссальной информацией нескольких эпох, есть весьма необычное универсальное видение, данное во сне наяву. Но у великого флорентийца онирическая визионерская составляющая перенесена в почти метафизическую реальность, противостоящую сну, но и не далёкую от видения. Сюжет «Божественной Комедии» некоторые исследователи связывают с литературно-философской повестью Авиценны «Живой, сын Бодрствующего» («Хай ибн Йакзан»). Всплывающая в этой связи универсальная фигура Авиценны (Ибн-Сины) совсем неслучайна. В указанной повести ещё Ибн Сина в аллегорической форме излагал учение об активном «уме» (аристотелевско-неоплатоническом нусе), который ведёт человека по пути познания высших абстрактных истин. Предметы физики и метафизики представлены в его сочинении в образе Космоса, по которому можно совершить мысленное путешествие. Космос делится на три мира: материальный мир (Запад), мир вечных несотворённых форм (Восток) и земной, физический мир во всём его материальном многообразии. Индивидуальная душа образует с телом единую субстанцию, обеспечивающую целостное воскрешение человека. Носителем же философского мышления выступает конкретное тело, предрасположенное к принятию разумной души. Постичь Абсолютную истину можно посредством интуитивного видения, которое предстаёт кульминацией процесса мышления. Вот такое видение и было дано. Данте Алигьери довольно определённо отмечает, почему его недостижимый Идеал – Беатриче – непременно вызывает у него ассоциации с Раем как чем-то возвышенным, одушевляющим и одухотворяющим. Ибо достигнутый им Идеал – Беатриче с её историей – конечно же, таков, несомненно, всегда возвышает надо всем, позволяет нечто понять, прояснить, дополнить к тому, что и так было очевидным. «С тех пор как я впервые увидал / Её лицо здесь на земле, всечасно / За ней я в песнях следом поспевал; / Но ныне я старался бы напрасно / Достигнуть пеньем до её красот, / Как тот, чьё мастерство уже не властно…» [2, с. 444]. Когда же таким открытием оказывается Любовь, проясняется всё из того, что доселе казалось тёмным. Любящий и любимый – как одно целое – дополняют и досказывают высокую толику Откровения именно в то Совершенное, что оказалось разрушенным после свершившегося грехопадения (первородного греха) человека. Чистая любовь – как бы необходимый шанс для него познать, что же это такое, это утраченное Совершенство. Мы не станем повторять дантовские небесные конструкты, которые он нам передаёт в напоминание о небесносферической структуре Рая. Мы посмотрим на сам поэтический взлёт мысли, которой эта архитектурная точность позволила передать и раскрыть именно как визионерский прорыв одного поэта, близкого в этой связи многим. Также примечателен у всех вместе взятых поэтов образ, ориентирующий нас на акт возможного познания этого высокого – всевечного и «божеско-всемирного» (по Тютчеву) – чуда Рая (прекрасных и кристально чистых Небес): образ Небесной Колесницы (аллюзия на ветхозаветную «Книгу пророка Иезекииля» очевидна). «…праведный собор / С отрадой обратился к колеснице; / Один, подъемля вдохновенный взор, / Спел: «Veni, sponsa, de Libano, veni!» – / Воззвав трикраты, и за ним весь хор… над Небесной Колесницей вдруг / Возникло сто… / Всевечной жизни вестников и слуг. / И каждый пел… / И, рассыпая вверх и вкруг цветы, / Звал… » [2, с. 293 – 294]. Сравним: у Ф. И. Тютчева – «живая колесница мирозданья» («Видение», 1828 – 1829), у Э. Дикинсон – «томящие перед окнами колесницы», «мир, как колесо», «колесо громов», «Квадрига Солнца». В контексте дантовских представлений находим у Ф. И. Тютчева онирическое видение: «…Земля зеленела, светился эфир, / Сады-лавиринфы, чертоги, столпы, / И сонмы кипели безмолвной толпы. / Я много узнал мне неведомых лиц, / Зрел тварей волшебных, таинственных птиц, / По высям творенья, как бог, я шагал…» [4, с. 84]. А у Эмили Дикинсон тоже в не менее метафизическом видении, читаем: «В компании высоких звёзд / Я отроду немела – / На их привет, на их вопрос / Молчала оробело. / Но звёзды мудрые меня / Грубьянкой не считали – / Они почтение всегда / В лице моём читали» [3, с. 125]. Указанный образ весьма близок тому, каким его понимает энциклопедист-учёный, врач и богослов Моисей Маймонид1 (между 1135 и 1138–1204) в труде «Путеводитель растерянных». В скорбной медитации 1870 года, написанной по дороге из Москвы в Петербург, Тютчев с весьма осознаваемой горечью Маймонид (в еврейской традиции – РАМБАМ) – крупнейший представитель блестящей плеяды средневековых мыслителей золотого века испанской, арабской и еврейской культуры. «Светоч поколений». 1 констатирует: «…и я теперь на голой вышине / Стою один, – и пусто всё кругом… / Бесследно всё – и так легко не быть! / При мне иль без меня – что нужды в том?..» [4, с. 349]. Для мастера тонкого намёка Небесное и Лазурное определяются в человеке, как раз способном к искренней Любви, к страданию во имя Любви, к священной жертве для любимого. Этой характерной чертой он определяет небеснолазурное в человеке, как таком, кто раз любит и любим, значит приближён к Богу и ничто никчёмное к нему не пристанет: «Всё в ней так искренно и мило, / Так все движенья хороши; / Ничто лазури не смутило / Её безоблачной души…» [4, с. 315]. Для великого поэта достаточно сочного и яркого штриха, чтобы обрисовать мистериальное в происходящем с нами, прежде всего, в «лунной сизой» Ночи, в киммерийских сумерках, когда человек обречён на со – единение с Высоким. Так что снова творимое на высоте он лишь намечает и уже затем развивает или, наоборот, отсылает нас к прежде обронённому им: «…И вот опять всё потемнело, / Всё стихло в чуткой темноте – / Как бы Таинственное дело / Решалось там – на высоте» [4, с. 312]. Однако в неуловимом и высоком в силу повседневности мы глубоко вкореняемся в мгновенных снах, убеждён Тютчев. Для каждого из тех, кто знает, они не более как связующие мосты между нами и всемерной вышиной: «…долго звук неуловимый / Звучит над нами, в вышине, / И пред душой, душой томимой, / Всё тот же взор неотразимый, / Всё та ж улыбка, что во сне» [4, с. 279]. Парадоксально точно ухвачено состояние невероятного блаженства, тишины и покоя, обретаемого нами во сне, подготавливающем нас к вечному ощущению-состоянию «мира высокого, мира духовного». Как раз в этом месте поэт подталкивает нас к извечному вопросу об улыбке Бога (смеётся ли Бог?). У Эмили Дикинсон в этом вопросе нет неопределённости: «…Улыбка тронула Уста / Господни – вслед за ним / Архангел усмехнулся – / И прыснул – Херувим…» [3, с. 65] и «…Мне бы улыбку – добрый сэр – / Продайте мне одну…» [3, с. 37]. Однако ж, из тютчевских медитаций всецело посвящена деятельному со-участию и со-единению с происходящим в горней вышине следующая: «Есть много мелких, безымянных / Созвездий в горней вышине, / Для наших слабых глаз, туманных, / Недосягаемы оне…» [4, с. 277]. И, повторим, у Эмили Дикинсон: «…звёзды мудрые меня / Грубьянкой не считали – / Они почтение всегда / В лице моём читали» [3, с. 125]. Поэтому только душе, вещей и открытой по натуре, дано созерцание этого нам неизведанного и тайного, ведь она «…бьётся на пороге / Как бы двойного бытия…» [4, с. 256], при этом, будучи «жилицей двух миров»: её День – «болезненный и страстный», а Сон (Ночь) – «пророчески-неясный, / Как откровение духов» (1855). Человек с его целым «миром в груди» всеобъятен, при этом же всегда на пограничье двух миров – принуждён избирать и избрать наконец свой – ему по душе. И в итоге: «…Лишь сердцем чистые, те узрят Бога!» [4, с. 243; «Памяти В. А. Жуковского», 1852]. Или, правильнее сказать, те узрят Бога, кто обрёл свой Идеал в заветной Любви, тогда и только тогда «Душа, душа, которая всецело / Одной заветной отдалась любви / И ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови!..» [4, с. 201] и «…Любовью воздух растворён…» [4, с. 195]. Тютчевские представления об этой Небесной Колеснице также весьма сложны, хотя всякий раз, как его посещает всё новое и более освежающее осознание сковывающего нас земного, какое не всякий преодолевает, тогда уж он снова и снова устремляется мыслью к животворной вершине, тут же предлагая своё видение её непорочного убранства: «…чувствую порой и я, / Как животворно на вершине / Дрожит воздушная струя, – / Как рвётся из густого слоя, / Как жаждет горних наша грудь, / Как всё удушливо-земное / Она хотела б оттолкнуть!..» [4, с. 199]. Все христианские смыслы великий поэт прозревает во всём прекрасно-чарующем нас (альпийские громады гор), что неимоверно скоротечно. Потому, какими бы чувствами и страстями ни было объято его естество в момент акта рождения поэтической импрессии, именно в них он, как во многом и Э. Дикинсон, видит необходимость, сказав, пробудить живое, трепещущее, дорогое. И таким оказывается во многом установление невидимого единства между нами здесь с незаметным присутствием там, на вершине неподдельной чистоты, к какой устремляемся. Ф. И. Тютчев как тайновидец много говорит о горнем пределе именно в симфонии античного и христианского представлений об Истине, какие для него органично дополняют одно другое. «…Кончив пир, мы поздно встали – / Звёзды на небе сияли… / …над этим дольным чадом, / В горнем выспреннем пределе / Звёзды чистые горели, / Отвечая смертным взглядам / Непорочными лучами…» [4, с. 171]. Как у непревзойдённого Данте, впитавшего любовь к тайноведенью в многочисленнейших противоречиях уже чего-то отходящего и тут же уже надвигающегося. Вера Эмили Дикинсон остаётся незыблемой, ибо для неё очевидно бессмертие души. Она понимает, что со Смертью начинается нечто новое, неизведанное и таинственное, но неизбежное. Поэтому, согласно «этой странной мисс», возможности Бессмертия как неизбежной категории существования в её концепции безграничны: светоносное познание чего-то высокого, что разлучает нас с низким и низменным привносит, очевидно, оптимистичную ноту в то, что жизнь Души безмерна и прекрасна. «Кончалась дважды жизнь моя – / И всё же ждёт душа – / Быть может, ей Бессмертье даст / Последний, третий шанс – / Сияющий, огромный Дар – / Такой, что слепнет взгляд. / Разлука – всё, чем грозен Рай, / И всё, чем славен Ад» [3, с. 243]. И вот эта оппозиция Высокого (Солнечного, Светлого) и Низкого (Пыльного, Затемнённого) выходит у неё непосредственно на ведущие позиции. Такого Небесного поэтический голос лирического дикинсоновского героя непрестанно желает, приоткрывая для нас во всё более новом свете. «Квадрига Солнца не слышней / В своём небесном беге, / Чем скрип катящейся в пыли / Немазаной телеги» [3, с. 241]. Согласно великой создательнице единого непревзойдённого в своём роде «Письма Миру», человеку необходимо «небесное родство», чтобы души листва как «просторный дом для певчих птиц», могла услышать шум ветров, которые, как голос труб, всегда её зовут под их высокий кров. Выстраиваемая ею лестница восхождения к этому «высокому крову» весьма важна для неё прежде, как нам представляется, с онтологической стороны. Она уже это проживает, ощущая, вчувствувуясь во всё, что нам здесь недоступно. От этого ей нестерпимо хочется ввысь, ведь человеку-творцу всегда не терпится знать, что же там, что же. «Не говорите мне про лес – / Моей души листва – / Просторный дом для певчих птиц / Небесного родства…» [3, с. 239]. Несомненно, ряд дикинсоновских представлений о Рае симптоматичен в связи с тем, каким мы его знаем у Данте: «…О божий блеск, в чьей славе я увидел / Всеистинной державы торжество, – / Дай мне сказать, как я его увидел! / Есть горний свет, в котором божество / Является очам того творенья, / Чей мир единый – созерцать его; / Он образует круг, чьи измеренья / Настоль огромны, что его обвод / Обвода солнца шире без сравненья…» [2, с. 446]. В представлении об адской Бездне они все более или менее солидарны. Ведь человек содержит в себе потенциально Ад и Небо (Рай). Отчего человеческая душа – это «центр Бога» и «центр природы», ибо сам теогонический процесс вечного рождения Божества, согласно Якобу Бёме, необходимо приводит к человеку, как внутреннейшему моменту самооткровения Бога [5]. Но какая атмосфера присутствия Высшего Духа сопровождает Рай? Что за дух тайны, там пребывающий, их очаровывает, пленяет и заставляет обращаться к нему снова и снова? Всё рвётся ввысь, оно и понятно: лишь в небе свободу можно обрести. «Как Шар Воздушный рвётся ввысь / В стремлении своём / Свободу в небе обрести / И свой летучий дом – / Так хочет Дух отвергнуть Прах…» [3, с. 235]. Всё оттого, прежде всего, что Дух стремится только к вышине. Это же Его предназначенье. И понятие духа здесь совсем не банально. Это и Дух человеческий, и Дух святой, и Дух всего живого, устремленного ввысь (и цветы, и птичий мир, и мир животных и насекомых). Весь Божий мир не может не носить в себе самом небесное и небесно-божественную пыль, поскольку «из мира в Вечность переход / Схож с детскою игрой…» [3, с. 225]. Потому игривицами Божьими, посредниками между Небом и Землёй, становятся птицы – «Космополиты туч и рощ… / …Они летят – куда хотят…» [3, с. 223]. При всём при этом, как мы видим, Эмили Дикинсон более озадачивает нас, нежели предлагает свои варианты решения. Нет, она не решает, ибо, видя проблему, приноравливается погружать её в не совсем обычный антураж, рождается очевидный парадокс. Поскольку парадоксальный – несколько противоречивый – взгляд сродни эксцентричному позволяет посодействовать рождению Истины. Так что в своём тёмном парадоксе Эмили Дикинсон заявляет: «Он ел бесценные Слова – / И Дух его окреп – / И он забыл, что плоть слаба, / Вкушая этот Хлеб, – / Нет, он не плёлся – раб Судьбы – / Вдоль вереницы дней – / Но, в книге крылья обретя, / Он воспарил над ней» [3, с. 221]. В этой органичной для неё связи она окрылена «чарами древними» и вдохновлена гармонией Небесных Сфер: «…с каких слетел он дальних Сфер – / С каких надлунных Гор – / Какие чары древние / В нём дремлют до сих пор…» [3, с. 217]. Наконец, всё напоминающее нам о неумолимости правильной жизни так или иначе отмечено Святым Духом, великий глас которого до сих пор звучит со страниц боговдохновенной Святой Книги (Библии). Для всех наших поэтов-медитативистов она возлежит во главе угла этих воззрений о Небе и Рае, а также о том, отчего столь жёсткая определилась в контексте библейских истин расстановка сил. Также, главное, как не поддастся греховной нашей природе, научившись противостоять ей Творчеством. «…В ней [Библии – Прим. автора] / Рай – счастливая обитель – / Дьявол – вторгшийся бандит – / Жадный негодяй – Иуда – / Храбрый трубадур – Давид – / Грех – влекущий смертных в бездну – / Где огонь со всех сторон…» [3, с. 211]. Что же, для Эмили Дикинсон вполне очевидно, что мистериальное ночное и онирическое, родственное непознаваемому инфернальному, принуждает Душу вспомнить о Боге. Вот так у неё от медитации к медитации непрестанное присутствие Небесного и Божественного, совершенно понятные ей, словно прекрасно известные по личному опыту: она убедительна именно потому, что говорит нам о насущном, не отвечая на это насущное, а реагируя на него и непрестанно – снова и снова – вопрошая. В этом отношении она несомненно в общих местах близка и даже родственна и Ф. И. Тютчеву, и Данте, ничуть не сторонясь того часто необходимого дальновидения и тайновидения, пронизывающих визионерство как основу тонких, кажущихся непроницаемыми миров, которые уже даны в Священном Писании. И этому священному, сокровенному и тайному каждый из них способен придать необычайно высокий, ещё недопонимаемый нами вполне смысл. Итак, тютчевское и дикинсоновское созерцание устремляется в те трансцендентальные дали, какие всегда человек признаёт личными и оттого, может, неоспоримыми. Именно здесь считаем необходимым сопоставление с описываемым стремлением у Данте, на которого ориентировались многие романтики с целью прояснения и понимания того сокровенного чуда, которое дал великий флорентиец, обретший свой идеал ещё в жизни. В общем, целесообразность постановки этих великих имён рядом оправдывается, когда мы понимаем, о каком идеале каждого из них неумолимо приходится говорить, обращаясь к визионерскому пласту их поэтического творчества. Это визионерское постижение признаваемого нами за идеал никак не ново. Потому особенно интересным представляется факт необходимости изучения этого визионерского исторического опыта. Литература 1. Боровкова, Т. Ю. Философско-религиозные искания в поэзии Эмили Дикинсон: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Т. Ю. Боровкова; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2012. – 23 с. 2. Данте Алигьери. Божественная Комедия / Данте А.; пер. с итал. М.Л. Лозинского. – Мінск: Маст. літ., 1986. – 575 с. 3. Дикинсон, Э. Стихи из комода / Э. Дикинсон; пер. с англ. Г.М. Кружкова. – СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. – 256 с. 4. Тютчев, Ф. И. Лирика / Ф. И. Тютчев. – М.: Эксмо, 2009. – 384 с. 5. Фокин, И. Л. Учение Якоба Бёме и немецкая философия и культура XIX века: дис. ... д-ра философских наук: 24.00.01, 09.00.03 / Иван Леонидович Фокин; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2011. – 334 с.