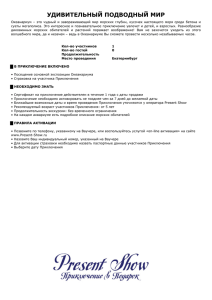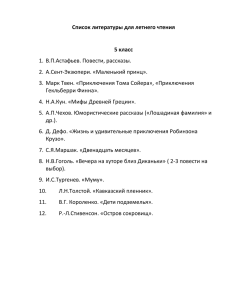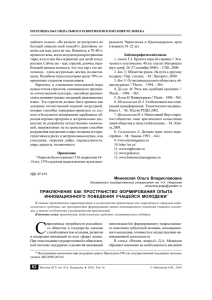А - Ruthenia
реклама
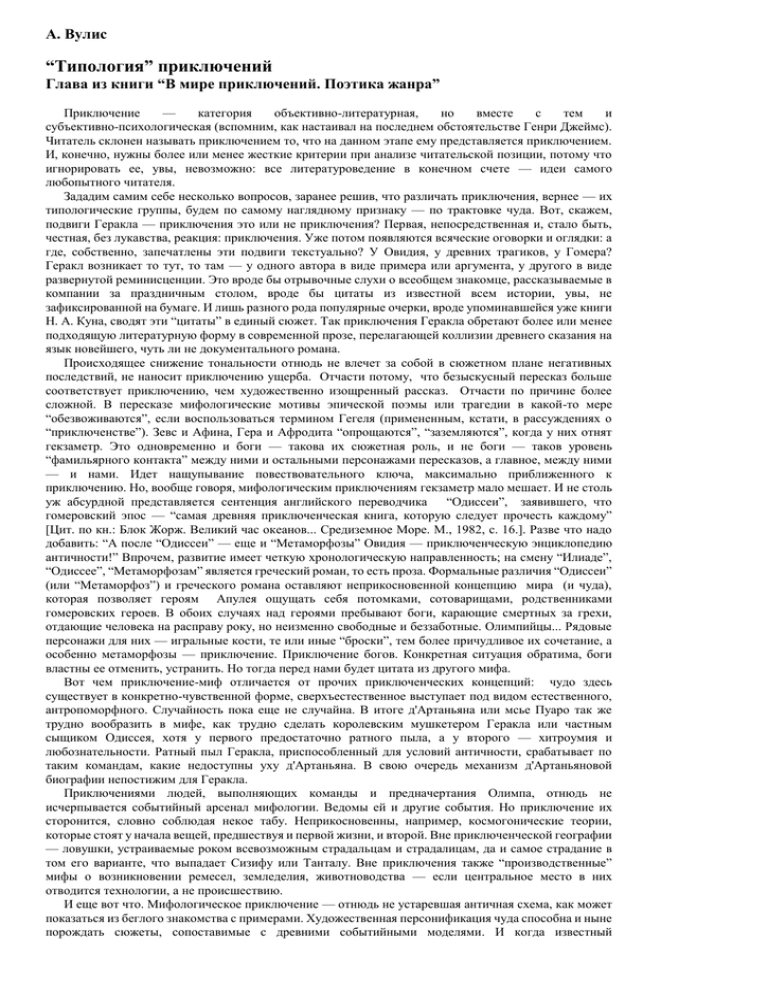
А. Вулис “Типология” приключений Глава из книги “В мире приключений. Поэтика жанра” Приключение — категория объективно-литературная, но вместе с тем и субъективно-психологическая (вспомним, как настаивал на последнем обстоятельстве Генри Джеймс). Читатель склонен называть приключением то, что на данном этапе ему представляется приключением. И, конечно, нужны более или менее жесткие критерии при анализе читательской позиции, потому что игнорировать ее, увы, невозможно: все литературоведение в конечном счете — идеи самого любопытного читателя. Зададим самим себе несколько вопросов, заранее решив, что различать приключения, вернее — их типологические группы, будем по самому наглядному признаку — по трактовке чуда. Вот, скажем, подвиги Геракла — приключения это или не приключения? Первая, непосредственная и, стало быть, честная, без лукавства, реакция: приключения. Уже потом появляются всяческие оговорки и оглядки: а где, собственно, запечатлены эти подвиги текстуально? У Овидия, у древних трагиков, у Гомера? Геракл возникает то тут, то там — у одного автора в виде примера или аргумента, у другого в виде развернутой реминисценции. Это вроде бы отрывочные слухи о всеобщем знакомце, рассказываемые в компании за праздничным столом, вроде бы цитаты из известной всем истории, увы, не зафиксированной на бумаге. И лишь разного рода популярные очерки, вроде упоминавшейся уже книги Н. А. Куна, сводят эти “цитаты” в единый сюжет. Так приключения Геракла обретают более или менее подходящую литературную форму в современной прозе, перелагающей коллизии древнего сказания на язык новейшего, чуть ли не документального романа. Происходящее снижение тональности отнюдь не влечет за собой в сюжетном плане негативных последствий, не наносит приключению ущерба. Отчасти потому, что безыскусный пересказ больше соответствует приключению, чем художественно изощренный рассказ. Отчасти по причине более сложной. В пересказе мифологические мотивы эпической поэмы или трагедии в какой-то мере “обезвоживаются”, если воспользоваться термином Гегеля (примененным, кстати, в рассуждениях о “приключенстве”). Зевс и Афина, Гера и Афродита “опрощаются”, “заземляются”, когда у них отнят гекзаметр. Это одновременно и боги — такова их сюжетная роль, и не боги — таков уровень “фамильярного контакта” между ними и остальными персонажами пересказов, а главное, между ними — и нами. Идет нащупывание повествовательного ключа, максимально приближенного к приключению. Но, вообще говоря, мифологическим приключениям гекзаметр мало мешает. И не столь уж абсурдной представляется сентенция английского переводчика “Одиссеи”, заявившего, что гомеровский эпос — “самая древняя приключенческая книга, которую следует прочесть каждому” [Цит. по кн.: Блок Жорж. Великий час океанов... Средиземное Море. М., 1982, с. 16.]. Разве что надо добавить: “А после “Одиссеи” — еще и “Метаморфозы” Овидия — приключенческую энциклопедию античности!” Впрочем, развитие имеет четкую хронологическую направленность; на смену “Илиаде”, “Одиссее”, “Метаморфозам” является греческий роман, то есть проза. Формальные различия “Одиссеи” (или “Метаморфоз”) и греческого романа оставляют неприкосновенной концепцию мира (и чуда), которая позволяет героям Апулея ощущать себя потомками, сотоварищами, родственниками гомеровских героев. В обоих случаях над героями пребывают боги, карающие смертных за грехи, отдающие человека на расправу року, но неизменно свободные и беззаботные. Олимпийцы... Рядовые персонажи для них — игральные кости, те или иные “броски”, тем более причудливое их сочетание, а особенно метаморфозы — приключение. Приключение богов. Конкретная ситуация обратима, боги властны ее отменить, устранить. Но тогда перед нами будет цитата из другого мифа. Вот чем приключение-миф отличается от прочих приключенческих концепций: чудо здесь существует в конкретно-чувственной форме, сверхъестественное выступает под видом естественного, антропоморфного. Случайность пока еще не случайна. В итоге д'Артаньяна или мсье Пуаро так же трудно вообразить в мифе, как трудно сделать королевским мушкетером Геракла или частным сыщиком Одиссея, хотя у первого предостаточно ратного пыла, а у второго — хитроумия и любознательности. Ратный пыл Геракла, приспособленный для условий античности, срабатывает по таким командам, какие недоступны уху д'Артаньяна. В свою очередь механизм д'Артаньяновой биографии непостижим для Геракла. Приключениями людей, выполняющих команды и предначертания Олимпа, отнюдь не исчерпывается событийный арсенал мифологии. Ведомы ей и другие события. Но приключение их сторонится, словно соблюдая некое табу. Неприкосновенны, например, космогонические теории, которые стоят у начала вещей, предшествуя и первой жизни, и второй. Вне приключенческой географии — ловушки, устраиваемые роком всевозможным страдальцам и страдалицам, да и самое страдание в том его варианте, что выпадает Сизифу или Танталу. Вне приключения также “производственные” мифы о возникновении ремесел, земледелия, животноводства — если центральное место в них отводится технологии, а не происшествию. И еще вот что. Мифологическое приключение — отнюдь не устаревшая античная схема, как может показаться из беглого знакомства с примерами. Художественная персонификация чуда способна и ныне порождать сюжеты, сопоставимые с древними событийными моделями. И когда известный современный фантаст Артур Кларк в “Космической одиссее 2001 года” строит свою гипотезу становления вселенной, он занимается мифотворчеством, хотя в то же время пишет “научную фантастику”. Кстати, самое название романа намекает на мифологическую тенденцию авторского замысла. Там, в мифе, вселенная перед героем как на ладони и даже внутренние связи просвечивают наружу, все “зачем?”, да “почему?”, да “каким образом?”, да “по какой причине?”. Чудеса оказываются запланированными мероприятиями, и каждая метаморфоза выглядит событием столь же обязательным, как моральное преображение преступника в плохом детективе. Но вот приключение иного, отнюдь не мифологического толка, сохраняющее за чудом ореол чуда, а поскольку такое невозможно без пиетета по отношению к тайне, то и тайне воздано должное и еще сверх того. Соответственно организована жизнь: сводчатые подземелья, о которых герой не знает или, наоборот, с ужасом узнает. Глухие стоны то ли узников, то ли даже заведомых покойников. Загадочные незнакомцы с их не менее загадочными целями. Непроглядный мрак как основной тон живописной гаммы. И, святая святых всей этой вакханалии ужасов,— привидения, олицетворение сверхъестественного, загадочного, иногда с разгадкой, подобно знаменитой женщине в белом, иногда же безо всяких рациональных истолкований, вроде столь же знаменитого Мельмота-скитальца. Привидение, остающееся для героя посланцем “оттуда”, потусторонним феноменом, апеллирует, согласно английскому литературоведению, к двум сильнейшим эмоциям: к страху перед непознанным и к жажде познания, возбуждая противоречивое и сильное эстетическое чувство, какого мифологическое приключение с его добросовестными однозначными тождествами смыслов вызвать у наблюдателя никак не могло. Необъясненное чудо, подкрепленное “авторитетом” магии и кабалы, а также сверхъестественных существ, вроде вампиров, становится характерным явлением предромантизма и романтизма. Англичане связывают с предромантическим готическим романом, прежде всего с “Замком Отранто” Хораса Уолпола, возникновение литературы ужасов. Необъясненное чудо развивается и по второй своей эмоциональной составляющей: ориентацией на любопытство героя и читателя вызвано успешное развитие научной фантастики. Здесь, правда, эффект “необъясненности” все реже предстает как замкнутая и немотивированная “необъяснимость”. Нет, объяснение возможно, но по тем или иным причинам, чаще всего художественным (динамика повествования и т. п.), не нужно. Наконец, иной раз “непогашенные загадки” в наш все постигающий и автоматизированный двадцатый век — это крик рвущейся ввысь человеческой души: “Есть еще белые пятна в атласах! Есть еще куда стремиться! Еще не все найдено — и, значит, не все потеряно!” Именно предромантизм и романтизм утверждают тип приключения, сопряженный с мотивами необъясненного чуда. Современный приключенческий роман сохраняет интерес к этой сюжетной конструкции, хотя ущемляет ее притязания на повсеместность. Помимо неразвитого у нас романа ужасов, немотивированное чудо фигурирует сейчас лишь в научной фантастике — иногда для стимуляции интеллектуальных усилий читателя и героя (Брэдбери, Шекли, Азимов), иногда как “кирпичик условности”, представительный элемент гипотетической вселенной, той, например, какую создают Стругацкие в “Пикнике на обочине”. “Зона” с ее жуткими страхами — вот характерный пример чуда без разгадки в современной фантастике. Необъяснимое чудо остается пока в нашем тексте еще и неназванным чудом. Будем именовать эту приключенческую модель легендой. Ведь генетически приключение-легенда наверняка связано с легендой — фольклорным жанром: “чудесные” сюжеты в романе — отзвук средневековой площади. Легенда, сточки зрения античности,— это миф без богов. Легенда, с точки зрения современности,— это детектив без разгадки. В мифе чудо воспринимается как нечто естественное, как “что в этом удивительного”, в легенде даже естественное — деталь фантасмагории. Совершенно иной этап и уровень взаимоотношений человека с действительностью (в частности, с другим человеком) открывает нам такое приключение, в котором чудеса вершит сам герой, причем и чудесами-то они больше представляются, чем являются: некоторый гиперболизм поступков — всего только очередной выпад против теории вероятностей. В мифе и легенде человек объектен, он — центр приложения высших сил, чего-то загадочного, что вознеслось над нами на недосягаемую высоту. А в “самостоятельном” приключении, авантюре, человек — Ланселот, Айвенго, д'Артаньян, Джим Хокинс, Исаев— активен, он выступает инициатором и творцом действия, объектен он лишь по отношению к своей воле (или своему капризу), которая в данном случае и есть правящая им высшая сила. В мифе или легенде человеку отводится роль грамматического дополнения, в авантюре он подлежащее. Отношения между героем и другими персонажами складываются преимущественно по формуле поединка, распространяясь и на обстоятельства. В романе путешествий герой воюет с обстоятельствами места, в фантастике — с обстоятельствами времени, в романе тайн — с обстоятельствами причины, в романе “чудаческом” — с обстоятельствами образа действия. Активность инициатора авантюры бывает самопроизвольной, но бывает и вынужденной, иначе говоря, этот герой не всегда задира или искатель приключений. На путь поединков и схваток его выталкивает противник: менгский незнакомец в “Трех мушкетерах”, Билли Бонс в “Острове сокровищ” или Николай Антонович в “Двух капитанах”. В смысле эмоциональных красок миф довольно однотонен. То же самое и легенда. А вот авантюра меняет свои “цвета” от приключения к приключению. В рыцарском романе нагнетание драматизма достигается посредством каталогизации: перечисляются удары, победы одних и, соответственно, поражении других. В запроектированной автором реакции наблюдателя должно господствовать бодрое “давай-давай” и “так его” из репертуара болельщиков, радеющих за свою футбольную команду, своего боксера, своего рыцаря. На такой отклик и рассчитывает наш д'Артаньян, герой приключения-авантюры. Лавры ему весьма по душе, хотя его внутреннее “я”, быть может, способно и на более возвышенные запросы, связанные с различными ситуационными и хронологическими вариациями понятия “рыцарская честь”. Авантюра типа “Дон Кихот — ветряные мельницы” (мы имеем в виду не столько сам роман Сервантеса, сколько некий эталон “чудаческого” приключения) выдержана в ином тоне. Избирательное нравственное чувство подсказывает нам несколько возможных оценок происходящего, ни одна из которых не прозвучит как “давай-давай”. При наиболее распространенном комедийном истолковании эпизода реакцией-доминантой станет ирония по адресу хитроумного идальго, но она может обернуться и болью за него, и насмешкой над рыцарством, и многим другим. Кстати, в этой авантюре появляется мотив мнимого чуда. И мы, читатели, в отличие от героя, видим, что оно — мнимое. Авантюра предполагает безукоризненно смелых, ловких и удачливых героев. Если действующее лицо нелепым образом уронит свое рыцарское достоинство (для более поздних времен эта ситуация точно характеризуется выражением “ударить лицом в грязь”), то изначально почитаемого лица уже не будет, появится объект всеобщего смеха. Такое случайное или (для кого-то) преднамеренное разоблачение заявленной поначалу претензии героя зачастую обращает авантюру в другую разновидность приключения— в анекдот, в “Кандида”, в “Тартарена из Тараскона”. “Потеря лица” может выпасть на долю главного героя, но может явиться участью кого-то другого, с кем этот герой борется. Феномен чуда здесь имеет место, но речь идет о чуде эстетического ряда: о метаморфозах персонажей на уровне читательского восприятия и т. п. Категория “приключение-анекдот” приблизительна, поскольку может, в конце концов, подойти ко всякой авантюрной ситуации, отмеченной комизмом, ко всякому смешному обороту действия. С некоторой натяжкой или вовсе без натяжки под рубрику анекдота вписываются курьезы, происходящие с Гулливером у великанов, кое-какие проделки Тома Сойера, аферы “благородных жуликов” О. Генри. Впрочем, по отношению к “чистой культуре” анекдота эти эпизоды — то же, что повествовательные фразы на фоне афоризма. Анекдот — это нечто закругленное и законченное, новеллистическое: приключения из “Декамерона”, андерсеновское “Новое платье короля”, комические интерлюдии в сквозном событийном потоке плутовского романа. А теперь— “Дон Кихот”. Дело в том, что эпизод с мельницами — это авантюра, но это еще и пародия на авантюру. Когда пародийное начало возьмет в поединке верх над всем остальным, когда донкихотские мельницы окажутся в потемкинских деревнях, а заблуждения Дон Кихота перейдут из самообмана в обман, мы столкнемся с новым типом приключения — мистификацией. Ее событийная конструкция повторяет авантюру. Можно было бы даже сказать, что эта вот конкретная мистификация и есть авантюра, если бы не одно весьма важное обстоятельство: в авантюру играет только главный герой, остальные персонажи ведут совсем другую игру, может быть, тоже имеющую право называться авантюрой, но с точки зрения внешней всем нам видимой авантюры,— антиавантюрную. Главного героя, будь то мистер Пиквик или Санчо Панса, облаченный полномочиями герцога, вежливо и для него самого незаметно берут под локотки и вовлекают в обман, об участии в котором он почти до самого финала не подозревает. Благодаря рокировке смыслов, действие приобретает превращенное или даже превратное значение, и мистификация в целом самоопределяется в ряду приключенческих моделей как жизненный эквивалент пародии. Характерно, что у англичан мистификация обозначается (в буквальном переводе) “практическая шутка”, “деловая шутка”, “житейская шутка”. В толковом словаре А. Хорнби это выражение paзъяснено так: “проделка над каким-нибудь человеком, имеющая целью сделать его смешным ”. Авантюра — мистификация наизнанку. Мистификация— авантюра наизнанку. В авантюре жизнь мистифицирует человека. Человек придумывает планы, жизнь их разрушает, человек питает надежды, жизнь их расстраивает, человек ждет, что его замыслы будут реализованы завтра, но назавтра еще глубже погрязает в неопределенности. Долго будет переходить инициатива из рук в руки, от героя к его противникам и наоборот, пока, наконец, победные лавры не увенчают его чело. В мистификации человека мистифицирует человек. Перед нами здесь два главных героя. Один воображает себя хозяином событий, тешит себя псевдополководческими представлениями об их развитии. Другой фактически является этим хозяином, занимая командную позицию на макушке холма и манипулируя поступками первого. Мистификатор принимает на день, на два, на год или еще на сколько-нибудь бразды правления чужой судьбой. Однако у этого самозваного Саваофа узкая специализация: как правило, розыгрыш подчиняет себе не всю жизнь мистифицируемого, а лишь одну ее линию. И затем самозванец в своем самозванчестве обнажен перед нами. Мы можем сочувствовать ему, как порой сочувствуем Остапу Бендеру (когда, например, он обводит вокруг пальца людоедку Эллочку или “Союз меча и орала”), но можем и осуждать, как осуждаем Джингля, издевающегося над бедным Пиквиком, как осуждаем жуликов, удовлетворяющих в обмане свою корысть. В авантюре судьба играет человеком, в мистификации — человек играет судьбой,— правда, не своей, а “посторонней”. Мистификация настолько близка к авантюре, что иногда может рассматриваться как ее оттенок, насыщенный комедийными тонами, а не как особая структура. Вспомним, например, как поданы у Дюма в “Графине Де Монсоро” мнимые приключения монаха Горанфло (то есть поступки, якобы совершенные им в пьяном виде). Приключение-мистификация эксплуатирует только одну разновидность комизма — пародийно-ироническую, с такими ее характерными приемами, как розыгрыш, двойничество и тому подобное, но зато уж, что называется, во всю катушку, от эпизода к эпизоду, на сквозном протяжении сюжета. Сложная субординация между отдельными повествовательными деталями создает смеховой эквивалент приключенческой напряженности, специфическая тайна безосновательной претензии раскрывается тоже специфическими средствами. В пример приведем О. Генри: путаницу, уравнивающую президента страхового общества с президентом банановой тропической республики. Сюжет по первому впечатлению авантюрный, и тайна его держится под натиском читательского любопытства, как хорошая средневековая крепость, до самого финала. Но вот ворота распахиваются, и тайна капитулирует, разрешаясь смехом, а не обычным для жанра удовлетворением любопытства. Приключение-анекдот использует все оттенки смеховой палитры, но зато композиционная раскованность и текучесть мистификации ему чужды. Обычно анекдот замкнут рамками эпизода, тяготеет к назидательности и структурно напоминает притчу, если не является и вовсе ее комедийной разновидностью. Андерсеновский голый король, например, или вольтеровский Кандид участвуют в событиях приключенческого анекдота, который может быть назван притчей. Ранний В. Шкловский указывает на самое очевидное различие между прямым показом приключения (какое мы имеем в авантюре) и “перевернутым”, обратным (какое возникает в детективе): “1) Можно вести рассказ так, что читатель видит, как развертываются события и как одно возникает за другим, причем обычно такое повествование будет идти во временной последовательности и без значительных пропусков... 2) Можно рассказывать так, что происходящее будет непонятно, в рассказе окажутся “тайны”, потом только разрешаемые. В качестве примера можно привести... романы Диккенса и сыщицкие рассказы”. [Шкловский В. Новелла тайн.— В кн.: Шкловский В. О теории прозы. М. — Л., 1925, с. 97.] Вывод, касающийся жанровых эволюций, гласит: “Романы с сыщиками, представляя из себя частный случай “романов преступлений”, возобладали над романом с разбойниками, вероятно, именно благодаря удобству мотивировки тайны. Сперва дается преступление как загадка, потом сыщик является профессиональным разгадчиком тайны”. [Там же, с. 99.] “Возобладали” — суждение конкретно-историческое, и оспаривать его бессмысленно, поскольку такие ситуации меняются. Но зато озорной “шкловский” контраст — литература сыщиков и литература разбойников — фиксирует реальное и длительное противоборство сюжетов “мускульных” и “аналитических”, начавшееся с изобретением детектива. Чудо детектива — в постоянно воскресающей молодости девиза “все, даже непознаваемое, познаваемо”, который торжествует там, где многие умники недоуменно пожимают плечами и как бы склонны, сдаваясь, поднять руки перед загадкой: “Чудо!” Словом, с приключенческой литературой активного действия соперничает в наши дни литература активной мысли, наиболее ярко представляемая детективом. Вообще говоря, детектив отнюдь не освобожден от действия, но оно здесь либо рефлектирующее, то есть действие “по поводу” другого, раннего действия, либо само это раннее, предшествующее действие, которое и присутствует-то в романе как объект исследования, препарат в пробирке, а не как развивающаяся жизнь. Вывернуть наизнанку результат того, что случилось, вывести из цифры уравнение, которое ее породило, из шахматной позиции предыдущие ходы, короче говоря, разгадать детективную тайну — такая задача требует ума, ума и ума. Потому что единственное оружие против тайны (если понимать ее рационалистически) — анализ. Под таким углом зрения детектив — своеобразный антипод авантюры. Или, иначе, авантюра ума в поединке с авантюрой действия. Скажем, человеку предлагают в конторе “Союза рыжих” работу — переписывание “Британской энциклопедии”, а затем газета печатает объявление о роспуске удивительной организации. По этой (или аналогичной) загадочной ситуации Шерлок Холмс реконструирует деятельность злоумышленника, иногда уже увенчавшуюся преступлением — есть труп и т. п.,— иногда же, как в данном случае, только близящуюся к финальному удару (ограбление банка с помощью подкопа — через подвальные владения доверчивого “рыжего”). Налицо авантюра с элементами мистификации: “Союз рыжих” как отвлекающий маневр, затем подкоп и, наконец, решающая схватка, в которой преступник терпит поражение. Вместе с тем эта авантюра представлена под видом совершенно непонятной истории о человеке, переписывающем “Британскую энциклопедию” за счет загадочных благотворителей из Сити. Разгадыванию непонятной истории посвящены разговоры и поступки всех видимых читателю действующих лиц на протяжении всего рассказа. Так что детектив в данном случае выступает не просто нейтральным “чехлом” авантюры, а средством ее выявления. Отмеряя разновидности приключений “количеством” и “характером” чуда, мы подчас пользовались этим критерием чересчур вольно (к примеру, чудо смехового или детективного разоблачения — это, разумеется, метафорическая натяжка, а не буквальная констатация необъяснимого феномена). Игнорировались другие признаки приключения — скажем, игра. Но, кстати, существует почти арифметическая зависимость между удельным весом в приключении чуда и игры — обратно пропорциональная. Чем больше “настоящего” чуда выпадает герою, тем меньше игры будет ему и окружающей его действительности отпущено. И впрямь: миф и легенда, то есть приключенческие формы, целиком зависимые от чуда, почти совершенно не знают игры. Напротив, авантюра и детектив “играют” при каждой возможности. Вот перед нами Легран Эдгара По, разыгрывающий как по нотам свою авантюру. Это именно авантюра. А теперь смотрите внимательней, герой по собственной инициативе и себе в удовольствие затевает игру. Со вполне реальным золотым вознаграждением к финалу, чем-то вроде приза за победу в шахматном матче. Суть этой игры двойственна: с одной стороны, жонглирование возможностью чуда (связь между золотым жуком и золотом), с другой стороны, поиски событийного алгоритма, упраздняющего чудо с помощью логических выкладок. Антураж легенды — камуфляж детектива, а вокруг блики и блестки мистификации. Программа авантюры в значительной мере связана с зашифрованным документом. Мотив перераспределения информации достигает почти детективной напряженности, как и у Жюля Верна в “Детях капитана Гранта” или Стивенсона в “Острове сокровищ”. Авантюра как бы распадается на две части. Сперва документ дозревает до своей сюжетной функции, а уже потом начинает управлять действием. Так игровой и информационный мотивы вытесняют чудо из повествования. В “Золотом жуке” Эдгар По экспериментирует с различными типами приключения на пространстве одной-единственной истории. Впрочем, все его новеллистическое наследие являет собой тот же эксперимент с крайностями в виде “легенд” (“Падение дома Ашеров”), детективов (“Убийство на улице Морг”, “Тайна Мари Роже”), мистификаций (“Сфинкс”, “Заживо погребенные”). У Гонкуров в “Дневнике” под 16 июля 1856 года записано: “По — это новое в литературе, это литература XX столетия: чудеса, обоснованные научно, художественное созидание с помощью A + В, литература в равной мере маниакальная и математически точная, воображение, исходящее из анализа. Задиг в роли судебного следователя, Сирано де Бержерак, прошедший выучку у Араго. И вещам отводится роль более значительная, чем живым существам. И Любовь, та, которую уже у Бальзака понемногу стали вытеснять деньги, — любовь отступает перед новыми источниками интереса. Словом, это роман будущего, призванный стать скорее историей того, чем занят мозг людей, нежели историей человеческого сердца”. Точность и прозорливость этой характеристики тем более поразительны, что подтверждаются не только судьбою Э. По в мировой литературе, но и судьбами самой мировой литературы. Поль Валери почти через сто лет после Гонкуров уже имел право говорить о многих ее направлениях, идущих от По. Одна черта По прошла все-таки мимо Гонкуров: в первом же своем рассказе он заявил себя продолжателем приключенческой традиции, ее теоретиком и модернизатором. То, что будет, возникло в нем как результат многократного усиления того, что было до него. Этого-то “было” как раз и недостает у Гонкуров, а без “было” По берется ниоткуда. Между тем По для приключенческой литературы — чрезвычайно важный этап: осознания и, главное, “очищения” закономерностей... Приключенческие модели в нашем понимании — специфические формы противоречий и конфликтов между человеком в апофеозе интеллектуальной и физической силы и миром в ореоле непостижимости и чуда. Отличаясь друг от друга, разные по типу приключения способны взаимодействовать в структуре одного произведения. Синтетичен отнюдь не один По. Вспомним, что даже классический, традиционный по форме до мозга костей Жюль Верн в тех же “Детях капитана Гранта” широко использует технику не родившегося еще детектива (бутылка с шифром, поиски капитана), анекдота и мистификации (Паганель), авантюры (в особенности — линия Айртона), словом, по части экспериментаторства как бы напрашивается в соперники самому непревзойденному Эдгару. Но, конечно, действие многих приключенческих романов или повестей совершается под знаком некой одной типологической доминанты. В “Трех мушкетерах” преобладает авантюра, хотя могут быть выделены элементы мистификации и анекдота, детектива и легенды. А в “Собаке Баскервилей” на авансцене, разумеется, детектив, хотя это место долго оспаривает у него легенда. Различая приключения по обстоятельственным признакам (чудо, игра и т. п.), мы постоянно имеем в виду соответствующие различия в самих героях. Герой мифа всегда пребывает в страдательной позиции, находясь под властью необъяснимого, которое он, впрочем, объясняет себе сам с помощью самой наглядной азбуки: он очеловечивает таинственное. В легенде герой обретает некоторую самостоятельность, поскольку необъяснимое в этом случае оказывается просто необъясненным. В авантюре герой, являвшийся прежде игрушкой в руках других, уже сам играет другими. Прежде точка приложения внешних сил, он сам стремится стать внешней силой, ищущей приложения. В анекдоте эти тенденции героя вырождаются, делаясь тщетными потугами. Декларированная сила обнаруживает свое бессилие. В мистификации герой, подстрекаемый неким провокатором, добродушным или злым, воображает, будто действует, но действует он лишь в той мере, как воображает. Иначе говоря, вызванные к жизни силы работают вхолостую, самоуничтожаясь в этом бесполезном акте. В анекдоте герой — своя собственная невольная игрушка. В мистификации — игрушка других, полагающая, что играет другими. В притче герой — иллюстрация идеи, о которой он не подозревает. Герой детектива, наблюдатель и аналитик жизненных процессов, стремится взнуздать внешние силы, необъясненные, дикие, сделать их покорными, наглядными, как 2 х 2 = 4. Но эти внешние силы —равнодействующая скрытых конфликтов, и, разгадывая их состав, их векторы, герой подминает под себя чужие замыслы, воли, характеры. Они теперь — функция его доказательств, его чуть ли не математических аргументов. Перед нами интеллектуальный вариант авантюры. Развитие человеческого общества вызывает необходимость новых сюжетных модификаций, новых типов приключения, о которых речь пойдет дальше. Однако в один логический ряд со старыми моделями эти новые ставить нельзя. Во-первых, они выделены по другим признакам, с иным основанием и носят преимущественно эмпирический характер. Во-вторых, они пользуются поэтикой старых сюжетов столь широко, что в структурном смысле подчас с ними полностью сливаются. В-третьих, с каждым годом все очевиднее обрисовывается такая особенность “новых” приключений: они отражают общие литературные процессы и тенденции, превращаясь, по существу, в аналоги, скажем, реализма или модернизма. Итак, первый полюс. Здесь приключение “интеллектуализируется”, а в других случаях оборачивается алогизмом. Оно принимает умозрительный или галлюцинирующий характер. Примером умозрительного приключения может служить “Алиса в стране чудес”, а позже многочисленные “научные фантастики”. Примером галлюцинаций — кошмары Э. По: “Черный кот” и др. Чудо теперь синонимично ужасу, который, кстати, приумножается за счет своей болезненно-неврастенической правды, он не выдуман, он есть на самом деле — в голове у рассказчика. Выпадение или “вывих” действия, нарушение “правильных” связей между участниками игры, аномальное развитие второй жизни — вот черты приключения-кошмара, делающие его экспериментальной формой постижения мира. Зачастую это приключение “в уме”. Иногда это приключение на обочине грез, чаще всего больных, на причудливых орбитах воспаленного воображения. Очередной Дон Кихот, видящий вокруг вместо истинной жизни собственные химеры,— вот герой современного приключенческого кошмара. В одной новелле Джона Чивера (правда, неприключенческой) это зафиксировано с символической пластичностью: голый человек, плетясь спьяну от дома к другому, купается в бассейнах, которых нет. Второй полюс. Двадцатый век с его гигантским разбросом контрастов уравновешивает “головные” приключения “деловыми”, будничными. В приключениях этого толка высшей этической нормой является служебный долг, а способом ее реализации — повседневная работа. Самая постановка вопроса в формуле “приключение — работа” несет на себе неспокойный знак парадоксальности: а где же тогда игра? Работа — не приключение. Приключение — не работа. Словосочетания, которые кажутся привычными и, главное, здравыми. Для работы, понимаемой как служба, характерна прямая утилитарность целей — и социальных (зачем эта работа нужна обществу), и личных (зачем она нужна самому труженику). Такой работе присуща не ограниченная требованиями эстетических циклов “длина”, привычные повторы... Век научается организовывать приключение или — наоборот — использовать приключение как организующую силу серьезной социальной деятельности, впрягать его резвых коней в колесницу повседневности. Трансантарктический маршрут на вездеходах, трудовые дни космических экипажей, атлантические и тихоокеанские рейсы научно-исследовательского судна — это приключение, ставшее работой. Современные путешественники озарены традиционной романтикой “охоты к перемене мест”. Институты правосудия и прочие учреждения, призванные охранять безопасность граждан и общества, имеют в своих календарях наряду с официальными страницами еще и звездные миги, когда человек в должности работника, сотрудника, или, говоря конкретней, инспектора милиции, следователя прокуратуры и т. п., захвачен приключением. “Деловое” приключение уходит корнями в древность. Раскрытие преступлений занимало Плутарха и Светония, а путевые заметки сочиняли даже не профессионалы историки, а “труженики”, вроде Марко Поло. Отправляясь в крестовый поход с мыслями о прекрасной даме, рыцарь осуществлял свои поступки как общественно полезную деятельность, как работу, и слово служение, применительно к его жокейским виражам с копьем наперевес во славу некой красавицы, передавало систематичность и обыденность его действий, характерные для работы в современном понимании. Однако сам воитель и его апологеты воспринимали преимущественно фасадный, показной аспект жизни верхом, освящая ее соображениями высшего долга, соотносимого с идеями бога, чести и любви и даже как бы этими идеями продуцируемого. Рыцарские деяния не были работой и по ряду других причин. Они, например, не отвечали признакам работы как событийного механизма (отсутствие четко поставленной утилитарной цели и т. п.). Они по смыслу своему противоречили самой сути труда, являющегося, согласно современным взглядам, целесообразной деятельностью человека, в процессе которой он воздействует на природу и использует ее ради создания потребительских стоимостей [См.: Большая Советская Энциклопедия. Изд. 3-е. Т. 26. М., 1977, с. 264.]. Они не могли считаться источником всех материальных и духовных благ, какими пользуется человечество. Они не содержали и многих других черт, неразрывно связанных с понятием работы (скажем, не создавали прибавочного продукта, прибыли и т. д.). Выезжая на поединок, рыцарь следовал в бессмертие, возносился в небеса или спускался в преисподнюю по собственной воле. Теоретически у него был и другой выбор: оставаться при своем феоде, налегать на охоту или земледелие, вынуждая вассалов проливать от зари до зари не кровь, но пот. Когда рыцарь отдавал предпочтение дороге ратной славы, он расставался с классическим перекрестком в пользу такой работы, которая тщилась уподобиться творчеству. То есть она давала возможность (или видимость возможности) принимать свободные (или мнимо свободные) решения, хотя по самому своему существу была полярно противоположна творчеству, созидательной активности, ибо находила свой смысл в уничтожении человека и плодов его труда. Дорога настоящей работы оставалась в небрежении у благородного дворянина и заросла бы травой или даже кустарником, корабельным лесом, если бы не крестьяне и мастеровые, торившие ее из века в век. Итак, существовало своеобразное разделение труда, при котором собственно труд был уделом одних. Другие получали за счет эксплуатации первых свободное время, столь необходимое для приключений. Работа и приключение были разделены, пока рабочее время не было выделено под приключения — с гарантированной оплатой работника, с соответствующими регламентациями его времени, обязанностей, включая даже отпуск и тому подобное (как у Адамова или Вайнеров). Когда приключение стало общественной необходимостью, подобно тому как приключенческая литература — неотъемлемой составной частью чтения, ему, то есть приключению, были отведены в житейских графиках соответствующие клетки с точными координатами по вертикали и горизонтали. Но и в этих клетках приключение осталось приключением — правда, под ярлычком, поскольку появились приключения биологические, как у Даррелла, геологические, как у Обручева, археологические, как у Керама, астрономические, как у Азимова, и т. п. Самой неприключенческой сферой действительности является, по-видимому, производство — экономическая и деловая основа бытия. Однако новейшее время провоцирует неостановимое, точно ядерная реакция, проникновение первой жизни — во вторую, второй — в первую. Эта взаимная диффузия порождает такие феномены, как авантюрно-производственные сюжеты Артура Хейли. Различие между ними — только в роде занятий, которые стали профессиональным уделом героев. Процесс труда — практическое и теоретическое решение проблем, выдвигаемых техникой или наукой, а более общо — нашим огромным, постоянно познаваемым миром,— тема приключений в научной фантастике таких авторов, как А. Кларк или братья Стругацкие. Впрочем, эта, на первый взгляд, исключительно и безоговорочно современная тенденция была подготовлена классическим романом XIX — XX веков в лучших его образцах, включая произведения Бальзака, Диккенса, Золя, Достоевского, и развита Жюлем Верном и Купером. Но еще раньше новый синтез (приключение — будни) изобрела сама жизнь. Приключение-работа возвращает герою самостоятельность, на которую в кошмарах посягают непознанные социальные или психические силы. Но эта самостоятельность подчинена внешним соображениям и обстоятельствам — долгу, закону, идеалу, и в таком смысле герой снова функционален, хотя и на качественно иной, по сравнению с мифом, основе. Он служит своему обществу. Текст дается по изданию: Вулис А. В мире приключений. Поэтика жанра. М.: Советский писатель, 1986, с. 58-76 Содержание всей книги: От автора Глава I. Произведение “Большой жанр” Приключение как литературная категория “Типология” приключений Условность приключенческой формы Конфликт Глава II. Композиция Завязка приключенческого романа Сложные начала Кульминация Развязка Связи и зависимости приключенческих эпизодов Глава III. Обстоятельства. Герой Пространство Время Тайна Варианты неведомого Герой Глава IV. Литература Эпизоды истории Приключенческая — серьезная — бульварная В трактовке советских авторов “Издержки производства” Объяснение под занавес И снова — от автора