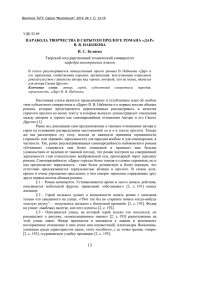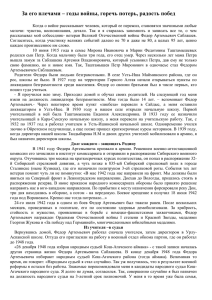«Дар» Владимира Набокова (1937–1938)
реклама
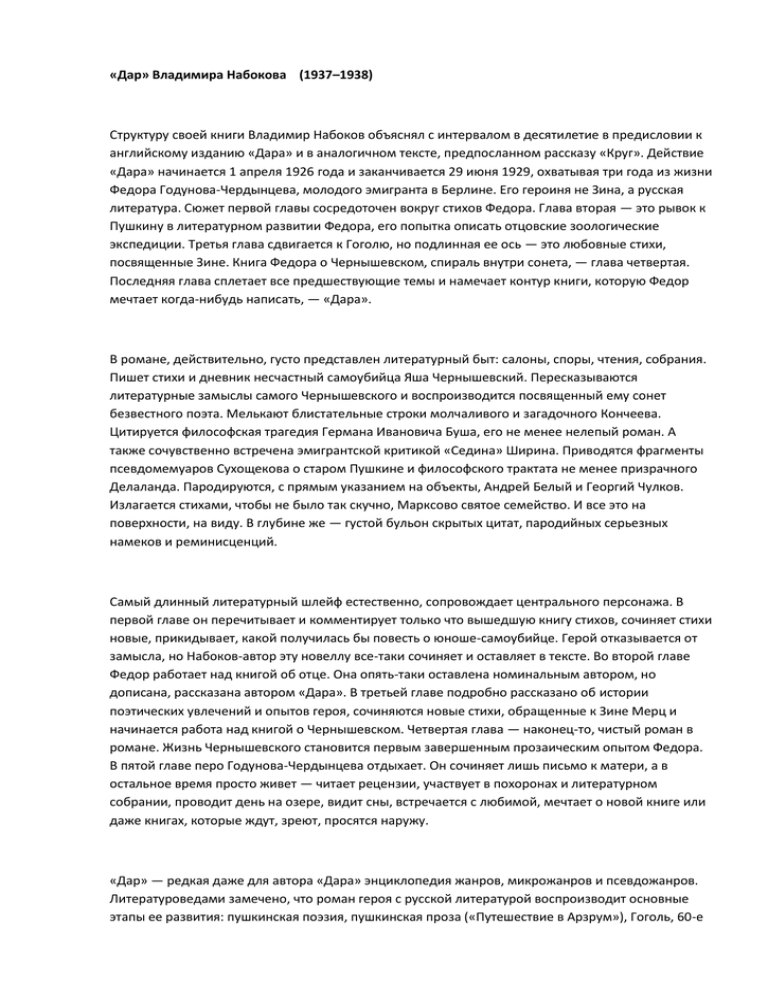
«Дар» Владимира Набокова (1937–1938) Структуру своей книги Владимир Набоков объяснял с интервалом в десятилетие в предисловии к английскому изданию «Дара» и в аналогичном тексте, предпосланном рассказу «Круг». Действие «Дара» начинается 1 апреля 1926 года и заканчивается 29 июня 1929, охватывая три года из жизни Федора Годунова-Чердынцева, молодого эмигранта в Берлине. Его героиня не Зина, а русская литература. Сюжет первой главы сосредоточен вокруг стихов Федора. Глава вторая — это рывок к Пушкину в литературном развитии Федора, его попытка описать отцовские зоологические экспедиции. Третья глава сдвигается к Гоголю, но подлинная ее ось — это любовные стихи, посвященные Зине. Книга Федора о Чернышевском, спираль внутри сонета, — глава четвертая. Последняя глава сплетает все предшествующие темы и намечает контур книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать, — «Дара». В романе, действительно, густо представлен литературный быт: салоны, споры, чтения, собрания. Пишет стихи и дневник несчастный самоубийца Яша Чернышевский. Пересказываются литературные замыслы самого Чернышевского и воспроизводится посвященный ему сонет безвестного поэта. Мелькают блистательные строки молчаливого и загадочного Кончеева. Цитируется философская трагедия Германа Ивановича Буша, его не менее нелепый роман. А также сочувственно встречена эмигрантской критикой «Седина» Ширина. Приводятся фрагменты псевдомемуаров Сухощекова о старом Пушкине и философского трактата не менее призрачного Делаланда. Пародируются, с прямым указанием на объекты, Андрей Белый и Георгий Чулков. Излагается стихами, чтобы не было так скучно, Марксово святое семейство. И все это на поверхности, на виду. В глубине же — густой бульон скрытых цитат, пародийных серьезных намеков и реминисценций. Самый длинный литературный шлейф естественно, сопровождает центрального персонажа. В первой главе он перечитывает и комментирует только что вышедшую книгу стихов, сочиняет стихи новые, прикидывает, какой получилась бы повесть о юноше-самоубийце. Герой отказывается от замысла, но Набоков-автор эту новеллу все-таки сочиняет и оставляет в тексте. Во второй главе Федор работает над книгой об отце. Она опять-таки оставлена номинальным автором, но дописана, рассказана автором «Дара». В третьей главе подробно рассказано об истории поэтических увлечений и опытов героя, сочиняются новые стихи, обращенные к Зине Мерц и начинается работа над книгой о Чернышевском. Четвертая глава — наконец-то, чистый роман в романе. Жизнь Чернышевского становится первым завершенным прозаическим опытом Федора. В пятой главе перо Годунова-Чердынцева отдыхает. Он сочиняет лишь письмо к матери, а в остальное время просто живет — читает рецензии, участвует в похоронах и литературном собрании, проводит день на озере, видит сны, встречается с любимой, мечтает о новой книге или даже книгах, которые ждут, зреют, просятся наружу. «Дар» — редкая даже для автора «Дара» энциклопедия жанров, микрожанров и псевдожанров. Литературоведами замечено, что роман героя с русской литературой воспроизводит основные этапы ее развития: пушкинская поэзия, пушкинская проза («Путешествие в Арзрум»), Гоголь, 60-е годы («Жизнь Чернышевского»), серебряный век. Но эта историческая хронология может быть соотнесена и с календарем романа. Состоявшиеся и не состоявшиеся замыслы Федора — это система, поставленных под разными углами зеркал, отражающих сюжет его жизни, сияющий пунктир развития «Дара». Книга стихов о детстве — первая проба пера. Из пятидесяти двенадцатистиший воображаемой книги в романе в той или иной степени приведены восемнадцать, в том числе восемь — полностью. Через много лет Набоков опубликовал их в своем сборнике, тем самым присвоив, авторизовав тексты Федора. Сам сплошной четырехстопный ямб сборника кажется цитатой из пушкинской эпохи. Но замысел книги — в ее принципиальной вневременности. «Автор стремится обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству», — сказано в рецензии воображаемого критика. Это, собственно, взгляд поэта на самого себя. Стихи в первой главе «Дара», однако, не предоставлены самим себе. Они помещены в оправу воображаемой критической статьи, которая оказывается вторым, уже прозаическим описанием удавшегося детства. Однако та же таинственная, не до конца понятная и подвластная даже самому носителю логика «Дара», ведет Федора к иным темам, в иные пределы. Уже в его стихах воображаемый критик видит не только плоть поэзии, но и призрак прозрачной прозы. Второе «я» героя — Кончеев — скажет в заключающей первую главу, тоже воображаемой беседе, еще более определенно: «Итак, я читал сборник ваших очень замечательных стихов, собственно, это только модели ваших же будущих романов». Одна из таких моделей предложена уже в первой главе: молодой человек, несчастный самоубийца Яша Чернышевский, похожий на Федора Константиновича, станет героем мимоходом, на десятках страниц рассказанного сюжета. Яша — один из зеркальных двойников Федора, но пути их быстро расходятся: бытие к смерти одного корректируется, опровергается романом с жизнью другого. Следующей попыткой реализации дара становится для Федора «Книга об отце». Непосредственным толчком к новой работе становится свидание с матерью и чистейший звук пушкинского камертона, «прозрачный ритм Арзрума». Отец оказывается центром детского рая, рая прошлого, оставшегося в России. Его образ приобретает легендарные, мифологические, почти божественные черты. Отец одарен всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями. Он путешественник, остроумец, титанический труженик, замечательный ученый, счастливый семьянин, вызывающий всеобщее восхищение своей душевной щедростью. И не случайно он не то что погибает, а исчезает, растворяется где-то в «разворошенном войнами и революцией» мире, постоянно тревожа воображение, приходя в сны сына. Стройная ясная книга, однако, снова не складывается, растворяясь в тьме черновиков, набросков и выписок. Завершенной Годуновым-Чердынцевым оказывается лишь третья попытка прозы. «Жизнь Чернышевского» уже не размывается потоком авторской жизни, а кристаллизируется, окольцовывается сонетом, выделяется в отдельную главу. Эта, даже более знаменитая, чем весь роман, четвертая глава была выброшена при первой публикации «Дара» в «Современных записках», а, вернувшись на свое место в отдельном издании 1952 года, все равно оценивается как самостоятельный текст первичного, а не вторичного автора. Происхождение Чернышевского, его характер, взгляды на искусство, наконец, дело его жизни противоположны и антипатичны автору «Жизни Чернышевского». Откровенно иронически относится он и к попыткам канонизации стиля автора «Что делать?». Забавно-обстоятельный слог, кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точке с запятой, застревание мысли в предложении и неловкие попытки ее оттуда извлечь, причем она сразу застревала в другом месте — автору приходилось опять возиться с занозой: «Долбящий и бубнящий звук слов, ходом коня передвигающийся смысл в мелочном толковании своих мельчайших действий, прилипчивая нелепость этих действий, словно у человека руки были в столярном клее, и обе были левые; серьезность, вялость, честность, бедность — все это так понравилось Федору Константиновичу, его так поразило и развеселило допущение, что автор с таким умственным и словесным стилем мог как-либо повлиять на литературную судьбу России, что на другое утро он выписал себе в государственной библиотеке полное собрание сочинений Чернышевского». Но по мере развертывания сюжетной спирали интонация и авторская оценка кардинально меняются. Из-под блестящего оклада либеральной иконы, панциря революционного демократа Набоков извлекает уязвимого, слабого, плохо приспособленного к выпавшей ему социальной роли человека, и все же до конца и с достоинством сыгравшего эту роль. Соответственно насмешливая язвительность постепенно, но очевидно сменяется жалостью, пониманием и состраданием. Автор «Жизни Чернышевского» не только зло и хищно подметит бедность и нескладность героя, робость в отношениях с женщинами, со вкусом опишет запоры, выведет знаменитую «эстетическую теорию» из подслеповатости теоретика. Он вдруг увидит в косом солнечном луче сцену встречи с Герценом, обнаружит силу и мощь в письмах из крепости, с пушкинской простотой опишет сцену гражданской казни, уже без всякой иронии и язвительности расскажет о скоротечном свидании с женой, сумасшествии сына, безумной и бессмысленной работе в Астрахани, последние безнадежные попытки перекричать тишину превращают «памфлет» в трагедию. В предсмертном бреду героя появляются слова «Бог» и «судьба». Чернышевский в книге Федора оказывается образом человека, не угадавшего своей судьбы, как Печорин, и не избежавшим ее, как отец. В пятой главе Годунов-Чердынцев уже ничего не сочиняет. Он читает рецензии, хоронит другого Чернышевского, отца самоубийцы, сидит на литературном собрании, проводит день на берегу озера, встречается с Зиной, видит во сне отца. Но и эта обычная жизнь остается жизнью творца, служением дару. Федор остается писателем каждое мгновение своего существования. Выходя в лавку, он ищет композиционный закон, средний ритм для улиц данного города, скажем, Табачная, Аптекарская, Зеленная. Возвращаясь в только что снятую комнату, обнаруживает феномен точки зрения: «Само по себе все это было видом, как и комната была сама по себе, но нашелся посредник, и теперь этот вид становился видом из этой именно комнаты». Его волнует тема отца. В комнате Александра Яковлевича он обнаруживает тему для призрака, в своем прошлом — праобразы сегодняшних знакомых, в одном из посетителей литературного собрания — фабулу его существования. Мотивы жизни мгновенно становятся темами, потому что между ними существует избирательное сродство. Реальность для героя Набокова существует по стройным законам искусства. Надо всего-навсего услышать гамму судьбы, уловить ее тайный замысел, написать то, что уже сложилось где-то по ее композиционным законам. «Это странно — я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они, вспомню окончательно и напишу». Одна важная, ключевая черта набоковского героя делает «Дар» книгой уникальной, штучной как в набоковском метаромане, так, пожалуй, и в большой литературе XX века вообще. На первый взгляд, Федор потерял почти все, что может потерять человек: семейное гнездо, налаженный быт, Родину, отца, будущее… Он беден, одинок, кочует с квартиры на квартиру, живет случайными заработками, распродавая излишки барского воспитания, его обворовывают, он постоянно теряет ключи. Вроде бы перед нами классический лишний человек, да еще угодивший в бедные люди. Но, вопреки очевидности, герой Набокова абсолютно чужд комплексу потери. Поиски утраченного рая ему придумали литературоведы. «Дар» — книга о счастливом человеке. Федор не просто находит счастье в конце романа — он захлебывается от счастья, существует в облаке счастья с первой до последней страницы. Ощущение счастья исключительной чистоты: «От задуманного труда веяло счастьем, а потом, совсем проснувшись, уже при звуках утра, он сразу попадал в самую гущу счастья, засасывающую сердце, и было весело жить, и теплилось в тумане восхитительное событие, которое вот-вот должно было случиться». В воспоминаниях Сухощекова о старом Пушкине названа тройная формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность. Не отрицая ее, герой Набокова добавляет еще одно слагаемое: «Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для практического руководства “Как быть счастливым?” Или глубже, дотошнее понять, что скрывается за всем этим — за игрой, за блеском, за жирным зеленым гримом листвы? А ведь что-то есть, что-то есть, и хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований: десять тысяч дней, от неизвестного. Десять тысяч дней — формула человеческой жизни». Конечно, в нее прежде всего входят удавшееся детство, творчество, любовь. Но не только это. Один из самых счастливых дней героя тот, в который, в общем, ничего не происходит: одиночество на берегу озера, лес, солнце, воображаемая беседа с Кончеевым, украденная одежда, бегство под дождем домой. Простые подробности бытия сочатся соком счастья. Отцу для его охоты была нужна целая Азия, сын выстраивает свой Эдем, первобытный рай в берлинском пригороде. Путешествие ему заменяет поэзия железнодорожных откосов, уличная прогулка или простая поездка в берлинском трамвае. Главное в даре Федора, только отчасти воплощенное в его текстах, но полноценно реализованное в набоковском романе — благодать чувственного познания, искусство видеть мир, способность каждое мгновение наполнить чувственным постижением чуда. Герой свободно движется во времени и пространстве, меняет точки зрения, вспоминает чужое, присваивает, оживляет прочитанное в книгах. Он гурмански наслаждается языком — отсюда аллитерации, оксюмороны, прелести языковых столкновений. «Гнусный гнет» очередного новоселья, «том томных стихотворений», «патока этой патетики», «легкая лапа лиственной тени легла ему на левое плечо». Веселое новоселье… Его главным инструментом в прозе, даже больше, чем в стихах, становится метафора, позволяющая увидеть невидимое, придать абстрактным вещам объем, цвет, запах: «сумерки настоящего», «свет памяти», «холмы моей печали», «обрывы воображения», «словесный сквозняк», возможно, его занесло сюда из «Петербурга» Андрея Белого, «последняя застава разума», «снежная смесь счастья и ужаса». Не только книга о Чернышевском — весь роман становится практическим уроком многопланности мышления, о котором мечтает герой, «сор жизни путем мгновенной алхимической перегонки королевского опыта становится чем-то драгоценным и вечным». Из литераторов XIX века, пожалуй, лишь Фет был таким отчаянным певцом мира как красоты и гармонии, мгновения, приобретающего статус вечности. «Стихи Федора о ласточке, наверное, мое самое любимое русское стихотворение», — сказал Набоков в интервью. Кажется каталогом эссенция фетовских мотивов: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье». Метафизическими опорами в образе мира, в слове явленного, кажутся в «Даре» две вставные истории, два микросюжета. «Отец, — рассказывает герой, — фольклора недолюбливал, но, бывало, приводил одну замечательную киргизскую сказку, в которой маленький мешочек оказывается бездонным, символизируя ненасытный человеческий глаз, хотящий вместить все на свете». В предсмертном бреду другого отца, Александра Яковлевича Чернышевского, появляется большая цитата из французского мыслителя Делаланда, очередной набоковский призрак: «Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестностей, долженствующий раскрыться по распаде тела — это освобождение духа из глазниц плоти, и превращение наше в одно сплошное око, за раз видящее все стороны света, или, иначе говоря, сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии». Закончив «Дар», Набоков написал стихотворение с тем же делаландовским образом, «Око» (1939): К одному исполинскому оку Без лица, без чела и без век, Без телесного марева сбоку Наконец-то сведен человек. И на землю без ужаса глянув, (совершенно несхожую с той, Что вся пегая от океанов, Улыбалась одною щекой). Он не горы там видит, не волны, Не какой-нибудь яркий залив И не кинематограф безмолвный Облаков, виноградников, нив: И, конечно, не угол столовой И свинцовые лица родных, Ничего он не видит такого В тишине обращений своих. Дело в том, что исчезла граница Между вечностью и веществом. И на что мне земная зеница, Если вензеля нет ни на чем? Глаз, обращенный к земному, видит сказочное буйство и разнообразие мира, отряхнувшая земную плоть душа, превратившись в око, не увидит ничего. В той же псевдоцитате Делаланда сказано, что вера в Бога — лишь местная истина, истина места. Дальше идут рассуждения с размытым субъектом: то ли Делаланд, то ли Александр Яковлевич, то ли Федор, то ли автор: «Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна зеркало. Дверь до поры до времени затворена, но воздух входит сквозь щели». Но чуть позже повествователь ловит последние слова умирающего второго Чернышевского: «Какие глупости! Конечно, ничего потом нет, — он вздохнул, прислушался к плеску, журчанию за окном и повторил необыкновенно отчетливо: — Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь». А между тем следует резкий композиционный стык: «За окном играло на черепицах крыш весеннее солнце. Небо было задумчиво и безоблачно. И верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журчанием стекала вниз». Значит, что-то все-таки есть, и чувства умирающего обманывают? Но после похорон Федор старался представить себе какое-либо продление Александра Яковлевича за углом жизни, и тут же примечал: «Как за стеклом чистильной-гладильной, под православной церковью, с чертовской энергией, с избытком пара, словно в аду, мучат пару плоских мужских брюк». Глаз берет свое. Он отказывается увидеть что-то за углом жизни, за зеркальной стеной. Адом оказывается всего-навсего посюсторонняя чистильня-гладильня по соседству с церковью. И утешает героя, опять-таки, вполне здешняя, земная зрительная метафора: «Он чувствовал, что весь этот переплет случайных мыслей, как и все прочее, швы и просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые, так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков, ничто иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне». Одна метафора сменяется другой: окна-зеркала превращаются в изнанку великолепной ткани с живыми образами на другой стороне. Но тогда ткань — то же зеркало, обращенное к какому-то невидимому наблюдателю. Глаз продолжает свою восхитительную работу, око оказывается не у дел. Во всяком случае, если смерть неизбежна, как утверждает эпиграф, встретить ее Федор собирается как герой притчи одного старинного французского умницы — еще один набоковский вымышленный литератор и вставной микросюжет: «Был однажды человек. Он жил истинным христианином. Творил много добра — когда словом, когда делом, а когда молчанием. Соблюдал посты, пил воду горных долин, питал дух созерцанием и бдением. Прожил чистую, трудную, мудрую жизнь. Когда же почуял приближение смерти, тогда вместо мысли о ней, слез покаяния, прощания и скорби, вместо монахов и черного нотария, созвал гостей на пир: акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трех волшебников. Осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой среди сладких стихов, масок и музыки. Правда великолепно? Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы именно так». «Если мне когда-нибудь придется умирать» — Федор словно в этом сомневается. В набоковской картине мира смерть не неизбежна. Во всяком случае, она не имеет прямого отношения к жизни, не проникает в нее. Бога здесь заменяет судьба, которая — лишь счастливая случайность ослепительно-прозрачного бытия. Рассказав свой последний сюжет, герой расплачивается и выходит с любимой в душную берлинскую ночь: «И все это мы когда-нибудь вспомним: и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего не подстриженными когтями по плитам ночи, и звезду, звезду. А вот площадь и темная кирха с желтыми часами. А вот на углу дом». У него нет ключей от этого чужого дома, но есть ключи от счастья. Философ Александр Пятигорский определяет мироощущение Набокова как философию бокового зрения: «Нелегко отыскать в двадцатом веке другого русского писателя, которому столь глубоко чуждо чувство трагедии, как Набокову. Трагическое — результат прямоты взгляда». Любителей смотреть трагедии в лицо в трагическом двадцатом веке, действительно, было не перечесть. С другой стороны, трудно найти и у самого Набокова другую книгу, где трагическое преодолевалось бы так последовательно и бескомпромиссно, как в «Даре». Набоков и сам дважды пытался продемонстрировать прямоту взгляда, разрушить хрупкий аквариум счастья, возведенный в романе. Сначала в новелле «Круг». Ее герой — сын, упомянутого в «Даре» сельского учителя Бычкова. Лешинский летний рай вспоминается ему, когда-то влюбленному в сестру Федора, омерзительным. Отец Федора в его глазах оказывается «неприметным господином, низкорослым мышастым иноходцем». Социальная ненависть раскалывает радужный образ удавшегося детства и семейного рая. Созданный в «Даре» мир-миф не допускает предвзятого, неосторожного взгляда со стороны. Поэтому Набоков оставил этот маленький спутник романа, рассказ об общей судьбе и персональном изгнании вне основного текста. В оставшихся в архиве писателя набросках продолжения Федор теряет внутреннюю цельность и летящую походку. Он встречается с парижской проституткой, потом Зина погибает, попав под машину, у Федора появляется новая женщина, начинается война. В общем, это уже другая история. Вполне в духе настоящего двадцатого века. Сквозь щели зеркального дома сквозит тоской, безнадежностью, трагедией. Все это, к счастью, осталось в черновиках «Дара». А сам роман оказался книгой о радости жизни, благодарностью ей. В «Даре» Набоков словно следует размышлениям Пушкина: «Говорят, что несчастья — хорошая школа. Может быть. Но счастье есть лучший университет». Не случайно «Дар» кончается легким дыханием записанной в строчку онегинской строфы, пунктиром аллитераций, открытым финалом, мыслью о таинственной связи искусства и бытия: «Не кончается жизнь, пока длится строка». Последним в опустевшем зеркале романа отразился пушкинский профиль.