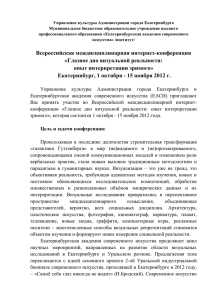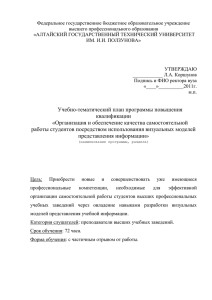1 Формирование парадигмы «визуальных исследований» многие ... связывают с так называемым «визуальным ...
реклама
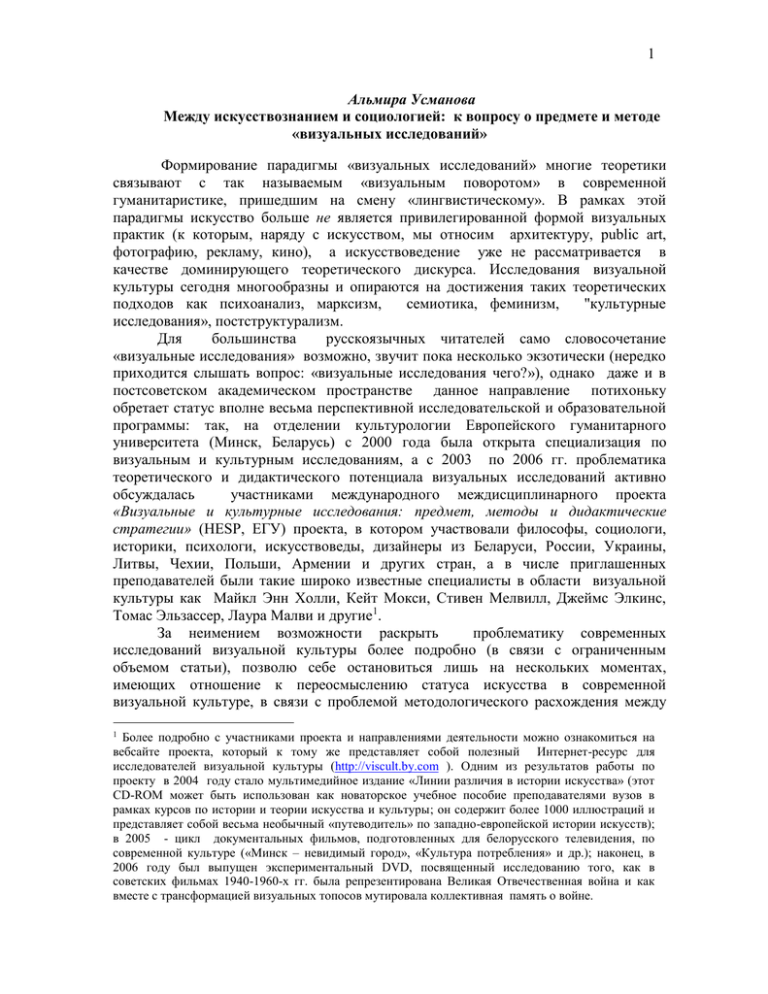
1 Альмира Усманова Между искусствознанием и социологией: к вопросу о предмете и методе «визуальных исследований» Формирование парадигмы «визуальных исследований» многие теоретики связывают с так называемым «визуальным поворотом» в современной гуманитаристике, пришедшим на смену «лингвистическому». В рамках этой парадигмы искусство больше не является привилегированной формой визуальных практик (к которым, наряду с искусством, мы относим архитектуру, public art, фотографию, рекламу, кино), а искусствоведение уже не рассматривается в качестве доминирующего теоретического дискурса. Исследования визуальной культуры сегодня многообразны и опираются на достижения таких теоретических подходов как психоанализ, марксизм, семиотика, феминизм, "культурные исследования», постструктурализм. Для большинства русскоязычных читателей само словосочетание «визуальные исследования» возможно, звучит пока несколько экзотически (нередко приходится слышать вопрос: «визуальные исследования чего?»), однако даже и в постсоветском академическом пространстве данное направление потихоньку обретает статус вполне весьма перспективной исследовательской и образовательной программы: так, на отделении культурологии Европейского гуманитарного университета (Минск, Беларусь) с 2000 года была открыта специализация по визуальным и культурным исследованиям, а с 2003 по 2006 гг. проблематика теоретического и дидактического потенциала визуальных исследований активно обсуждалась участниками международного междисциплинарного проекта «Визуальные и культурные исследования: предмет, методы и дидактические стратегии» (HESP, ЕГУ) проекта, в котором участвовали философы, социологи, историки, психологи, искусствоведы, дизайнеры из Беларуси, России, Украины, Литвы, Чехии, Польши, Армении и других стран, а в числе приглашенных преподавателей были такие широко известные специалисты в области визуальной культуры как Майкл Энн Холли, Кейт Мокси, Стивен Мелвилл, Джеймс Элкинс, Томас Эльзассер, Лаура Малви и другие1. За неимением возможности раскрыть проблематику современных исследований визуальной культуры более подробно (в связи с ограниченным объемом статьи), позволю себе остановиться лишь на нескольких моментах, имеющих отношение к переосмыслению статуса искусства в современной визуальной культуре, в связи с проблемой методологического расхождения между Более подробно с участниками проекта и направлениями деятельности можно ознакомиться на вебсайте проекта, который к тому же представляет собой полезный Интернет-ресурс для исследователей визуальной культуры (http://viscult.by.com ). Одним из результатов работы по проекту в 2004 году стало мультимедийное издание «Линии различия в истории искусства» (этот CD-ROM может быть использован как новаторское учебное пособие преподавателями вузов в рамках курсов по истории и теории искусства и культуры; он содержит более 1000 иллюстраций и представляет собой весьма необычный «путеводитель» по западно-европейской истории искусств); в 2005 - цикл документальных фильмов, подготовленных для белорусского телевидения, по современной культуре («Минск – невидимый город», «Культура потребления» и др.); наконец, в 2006 году был выпущен экспериментальный DVD, посвященный исследованию того, как в советских фильмах 1940-1960-х гг. была репрезентирована Великая Отвечественная война и как вместе с трансформацией визуальных топосов мутировала коллективная память о войне. 1 2 традиционным искусствознанием и «визуальными исследованиями». Будем надеяться, что это намеренное сужение темы разговора позволит лучше уяснить специфику той позиции, той точки зрения на визуальные практики (включая искусство), которую отстаивают адепты этой новой исследовательской парадигмы. Итак, за последние двадцать пять лет в гуманитарных науках произошел настоящий переворот, связанный с интересом к изучению визуальной культуры в широком смысле. Речь идет об исследованиях кино, телевидения, массовой культуры с позиции современных философских и социальных теорий, объясняющих специфику «общества спектакля» (термин Ги Дебора), феномена массовых коммуникаций, понятие «репрезентации» и различные культурологические импликации аудиовизуальных технологий симуляции. Визуальность перестала восприниматься как вторичное или подчиненное измерение культурной практики (или во всяком случае, как явление особенное, элитарное, обитающее лишь в храмах искусства – будь то музеи или академии искусства или мастерские художников). Иначе говоря, визуальная культура – не просто часть нашей повседневной жизни, она и есть сама повседневность [Mirzoeff, 1998:3]. Выросло новое поколение, воспитанное на культуре видео, телевидения, компьютеров, иных визуальных технологий (это то самое поколение, для которого Гомер – уже не автор «Одиссеи», а герой мультсериала Гомер Симпсон). Новые медиа и «онейрическая анаморфная эстетика кибервидения» (E.Apter) потребовали теоретического осмысления, которого классические эстетические концепции или теория искусства дать не могли и не могут по определению, ибо сфера их компетенции не простирается на анализ социальных практик. Эксперты в области классического искусства, традиционно узурпировавшие право на интерпретацию визуальных репрезентаций, уступили место новой волне теоретиков, отстаивающих другой тип профессиональной компетенции, основанной на междисциплинарном подходе к изучению визуальной культуры во всех ее многообразных проявлениях. Можно, пожалуй, сказать, что «визуальные исследования» – это своего рода социальная теория визуальности. Однако, социология искусства и визуальные исследования - вовсе не одно и то же.Здесь следует учитывать два момента. Во-первых, социология искусства имплицитно предполагает выделение искусства в качестве автономной сферы культуры (косвенное признание его монополистических прав на визуальность, его места и статуса в культуре, его права на собственную историю). Тогда как для визуальных исследований чрезвычайно важно преодолеть иерархические и дихотомические рамки, отделяющие искусство от не искусства. Этих рамок и границ здесь просто не существует, или они утрачивают смысл. В этом случае на статус искусства (как сферы творчества, художественного отношения к миру, оформленного институционально и дискурсивно, как эстетического феномена, наконец) могут претендовать и телевизионная продукция, и реклама, и рукоделие, и газетная фотография, и посуда, и оформление ресторана. Как писал французский социолог Пьер Бурдье, сегодня нет такого культурного человека, который не знал бы, что любая реальность – веревка, булыжник, нищий в лохмотьях – может стать предметом произведения искусства [Бурдье, 2003]. Во-вторых, социология как дисциплина предполагает определенные дисциплинарные и методологические ограничения – в связи с чем, например, 3 психоанализ, философская рефлексия, дискурс-анализ и т.п. оказываются вне этой парадигмы исследования, а методы этих наук – не адекватными социологическому пониманию метода и эмпирического обоснования. В то же время, само художественное произведение оказывается ускользающим, или точнее, не уловимым для социологической оптики объектом. Между тем, для визуальных исследований интерпретация самого текста настолько же важна, насколько и знание экстратекстуальных – исторических, социальных, экономических – параметров его производства и функционирования. Тем не менее, социология искусства по своим методологическим и эпистемологическим установкам все же более близка парадигме визуальных исследований, чем, например, искусствознание. Пьер Бурдье в своей работе «Исторический генезис чистого искусства» ставит вопрос следующим образом: «Благодаря чему произведение искусства является произведением искусства, а не объектом мира или простым инструментом? Что делает художника именно художником, а не ремесленником или любителем рисования? Благодаря чему выставленный в музее писсуар или сушилка для бутылок становится художественным объектом?» [Бурдье, 2003]. Иначе говоря, Бурдье изначально помещает объект своего интереса в плоскость социальных условий возможности произведения искусства, напоминая нам о том, что с помощью исторического и социального анализа мы оказываемся в состоянии деконструировать, сделать интеллигибельной, рационально объясняемой «видимость универсальности чисто опыта произведения искусства», если мы сознательно откажемся от любых трансисторических интерпретаций художественного опыта. Рассмотрим пример, иллюстрирующий мысль Бурдье и позволяющий нам подругому взглянуть на ограниченность собственно искусствоведческого подхода к пониманию феноменов визуальной культуры и ее истории. Обратимся к той критике дискурса искусствознания, которую предлагают нам феминистские теоретики, например Линда Нохлин, Гризельда Поллок и другие [Parker, Pollock, 1981; Усманова, 2001; и др.]. Что их не устраивает в традиционной истории и теории искусства? Прежде всего, их не устраивает та интерпретативная схема, которая оставляет невидимыми множество людей, причастных к созданию искусства, и, более того, закрепляет это отсутствие или эту невидимость в качестве естественного, в качестве нормы художественного творчества. Каким образом это происходит? Вспомним один из выпусков известного ток-шоу Михаила Швыдкого под названием «Шедевр может создать только мужчина», на которое были приглашены в качестве «экспертов» Александр Гордон и Мария Арбатова. Гордон задействовал в качестве непререкаемой объективной истины позитивистский по сути аргумент, со ссылкой на авторитет физиологии высшей нервной деятельности (в частности, речь шла об особенностях работы левого и правого полушарий) с целью объяснения и в конечном счете легитимации отсутствия женщины в истории искусства. Другие участники программы сошлись на том, что раз история практически не оставила нам имен женщин-художниц, значит, с этим ничего не поделаешь. Это как бы «медицинский факт», почти диагноз – к созданию шедевров способен только мужчина. Как мы видим, в этом случае «история искусства», не оставившая каких-то там имен, – воспринимается совершенно некритически, как некий эталон 4 объективного фактоописательства. Если какие-то имена отсутствуют, значит, они были настолько незначительны, что упоминания и не заслуживали. И практически никто, кроме М.Арбатовой, не озаботился поиском других способов объяснения: а ведь можно было попробовать ответить на поставленные тем же Бурдье вопросы: кто, благодаря каким обстоятельствам, в каких социальных условиях имел возможность заниматься искусством, научиться ему, чтобы быть принятым в художественное сообщество? А потом уже необходимо выяснить, что здесь было более важно: социальные табу, деньги, классовое положение, или все-таки контролируемая обществом биологическая функция женщины, натурализующая ее внекультурный статус? Специалистам хорошо известно, что практически до середины 19 века женщины не имели возможности получать художественное образование и рисовать обнаженную натуру, а из этого вытекает целый ряд взаимосвязанных запретов – если у тебя нет художественного образования, то ты не никогда не сможешь стать членом художественной академии и не имеешь права учить других, а если ты никогда не работал с обнаженной натурой, то, значит, не будешь писать картины на исторические или мифологические сюжеты (на женскую долю остаются, следовательно, портрет и натюрморт – не случайно эти жанры утратили престиж сразу же, как только к ним – в «массовом порядке» - приобщились женщины). Кроме того, в той же передаче, о которой идет речь, ни разу не подверглось критике само понятие шедевра: предполагалось, что есть некоторое всеми разделяемое знание о том, что можно, а что нельзя считать «шедевром». А ведь эта пресуппозиция (то есть предварительное и неявное знание) – сама по себе результат определенной интерпретации, которая на каком-то этапе вытеснила все другие типы интерпретаций. В историю искусства могли войти только работы, получившие признание в качестве шедевров. Вот почему история искусства, написанная в духе Вазари, но подчиняющаяся по существу более глубинным социальным дискурсам, не включает в число гениальных личностей, например, тех женщин, которые долгими зимними вечерами трудились над шитьем одеял, а сами эти одеяла никто и не думает называть шедеврами. Те же «маляваныя дываны» Алены Киш2 сравнительно недавно получили статус произведений искусства, но это стало возможно лишь после того, как сама эта деятельность обрела статус «примитивного искусства» (перестав быть «рукоделием»). Так или иначе, большинство имеющих к искусству людей могут нам категорически заявить, что art has no sex – какое вообще может иметь отношение пол художника3 или его сексуальность к процессу творчества, к сфере возвышенного (=духовного) и всеобщего (в «лучшем случае», сексуальность – но только мужская сексуальность – интерпретируется как синоним творческой вирильности или как Представительница белорусского «примитивного искусства» середины 20 века. Мне приходилось писать о ней раньше [ Усманова, 2003]. 3 «Наивность» отечественных искусствоведов в этом отношении, равно как и весьма слабое представление о феминистской теории искусства, ставит их самих в нелепое положение: когда на русском языке впервые была опубликована известная статья Мике Баль и Нормана Брайсена «Семиотика и искусствознание» [Бел, Брайсен, 1996: 521 – 559], то переводчики, мало того что проигнорировали пол авторов некоторых научных работ (упорно называя Мике Баль Майком Белом, а Кажу Силверман – Силверманом), но и не придумали ничего лучше, как обозначить семиотические исследования пола/гендера в искусстве как «семиотику секса». 2 5 источник сублимации)? Причем наиболее последовательно эту точку зрения отстаивают сами женщины-художницы, опасаясь, что их творчество могут расценить как «женское» , то есть то, что может быть оценено как рюшечки-цветочки4. Может показаться, что предложить какую-то приемлемую для всех модель объяснения того, почему в истории искусства (и философии) так мало женских имен - трудная задача. Но трудная именно потому, что искусствоведение базируется на принципах имманентного развития формы и автономного существования искусства, не говоря уж о такой «норме» как эссенциалистское мышление, описываемое Бурдье, которое настаивает на признании неких универсальных законов и истин [Бурдье,2003]. Поэтому и «ответ» на сложный вопрос о присутствии, точнее отсутствии женщин в истории искусства так незатейлив – женщины не создавали шедевров, потому что не были к этому способны. Получается, что только социальная история искусства, принимающая во внимание многообразные факты репрессии, замалчивания, вытеснения различных маргинальных групп, в состоянии объяснить, почему история искусства не оставила нам имен (за редкими исключениями, которые возможны только в виде исключения из общего правила), ни выдающихся женщин, ни «великих мастеров» с африканского континента, ни крестьян, создававших вещи для украшения своего незатейливого интерьера. Итак, искусство является социальным по своей природе постольку, поскольку: (1) оно отсылает нас к различным аспектам культурного производства, от которых оно зависимо (технологические предпосылки, эстетические коды и жанры, реклама, образование зрителя и т.д). Роль технологии вообще очень велика в искусстве – речь может идти об изобретении инструментов производства (в музыке, кино, живописи и т.д.), будь то масло, музыкальные инструменты, печать, средства записи, связи и воспроизведения. Например, переход от рукописи к печати повлек за собой серьезные изменения культурного и интеллектуального характера, сказавшись на содержании знания, его распространении, ученых сообществах, сообществах художников, и т.д. [Вулф, 2001: 17 - 19]. (2) как считает американская исследовательница Джанет Вулф, «социальность» искусства очевидна даже в тех случаях, когда искусство кажется автономным, при этом роль социальных институтов проявляется в таких факторах как: а) выбор и обучение художников (писателей, музыкантов, режиссеров и т.д.) – тот же Бурдье говорит об «инстанциях посвящения, инициации» и инстанциях Впрочем, основания для подобных опасений у феминистских художниц действительно есть. Видимо, в русле той самой традиции, когда женщинам ничего иного, кроме цветочных натюрмортов или портретов, писать не разрешалось, современные женщины-художницы, зачастую не осознавая истоки собственного творчества, пишут свои цветочки, устраняясь от создания социальных «посланий» в своих работах – словно придерживаясь когда-то заданных жестких границ. Традиционно устраиваемые накануне 8 Марта выставки женского искусства в минском Дворце искусств поражают своей убогостью. При их посещении возникает такое впечатление, что женщинам-художницам и в самом деле нечего сказать: на стенах висят похожие одна на другую «Наташи» и «Тани», а между ними располагаются аляповатые цветочки, вазочки, иногда котики и птички. К счастью, в других странах подобное искусство (особенно там, где сложилась традиция феминистской критики и феминистского же искусства) воспринимается иронически, скорее, как пародия на то, что традиционно считается «женским творчеством». 4 6 воспроизводства как потребителей, так и производителей». И хотя в 20 веке классовое происхождение писателей и художников было более гетерогенным, чем в предыдущие эпохи, - это же можно сказать и в отношении потребления искусства (вспомним хотя бы того пролетария, который в известной миниатюре Аркадия Райкина («В греческом зале, в греческом зале...») случайно зашел в музей в поисках укромного местечка для выпивки), но в целом, классовый и гендерный критерии «естественного отбора» не утратили своей действенности; б) системы покровительства, финансирования и их эквиваленты - так, в 15 веке покровители искусства считали возможным указывать художнику, какие цвета художник должен использовать (золотой и ультрамарин в частности), и как должны быть расположены фигуры на холсте [Вулф, 2001: 20 - 21]. Литературное покровительство всегда было более скрытным - переходило последовательно из рук монархии и церкви к большему кругу аристократов (начиная с 16 века), а затем и к политическим лидерам. В эпоху феодализма тесная связь между автором и его покровителем существенно сказывалась на природе текстов. Затем эту функцию взяли на себя издатели и агенты (чья роль в современную эпоху еще более усилилась). (3) системы посредничества – например, художественная критика или масс медиа, или дилеры (выставочные залы, галереи, музеи, журналы). Создание «великой традиции» литературы и живописи во многом обязано издателям, критикам, владельцам художественных галерей, управляющим музеями и издателям журналов. Инициация человека в художники всегда была мероприятием довольно элитарным (доступ к образованию + деньги + свободное время) – вследствие этого, не удивительно, что в 19 веке значительная часть писателей вышла из среднего класса и что значительная часть романистов состояла из свободных от работы представителей нового обеспеченного класса… Иначе говоря, меценаты, академии, критики – и люди, и институты (как посредники) - взяли на себя функцию решения проблемы экономического выживания творцов. В силу того, что художники со временем попали в прямую зависимость от причуд рынка, посредники приобрели для них жизненную значимость. (3) роль экономических факторов – невозможно перечислить их все, но, например, можно вспомнить о том, что использование в живописи 15 века золота, серебра и ультрамарина было полностью экономически обусловленным их высокой стоимостью. В общем, как считает Джанет Вулф, проблема анализа своеобразной политэкономии (визуальной и не только) культуры по-прежнему актуальна в качестве исследовательской задачи [Вулф, 2001]. Значение социальных институтов становится более заметным при рассмотрении положения женщин в истории искусств: как было показано выше, социальная организация художественного производства на протяжении многих веков систематически исключала женщин из участия в нем. В реальности экономические, идеологические и институциональные факторы действуют строго взаимосвязано. Там, где социальное влияние не является непосредственным, все равно в игру включаются факторы, сопутствующие его созданию, распространению и потреблению. Открытие субъективности художника, обнаружение в высшей степени персонализированного и индивидуализированного мира видения, а не анализ форм субъективации зрителя и контекстуализации произведения в социальном мире – вот 7 что является объектом заботы классического искусствознания. Излишне говорить, что произведение искусства в этом случае остается индивидуальным творением со своим особенным истоком и менее всего является сложным социальным текстом, что, в свою очередь, для визуальных исследований является приоритетным объектом анализа. В связи с этим становится более понятным, какую роль в формировании визуальных исследований сыграла марксистская и неомарксистская критика (от Д.Лукача и Франкфуртской школы до Ф.Джеймисона). Раса, гендер и класс – это те теоретические категории, которые повсеместно бросают вызов универсалистским допущениям западной истории искусства и теории искусства и оказываются принципиально важны для анализа проблемы власти в визуальной культуре повседневности (будь то реклама, телевизионный сериал или произведение искусства). Наша проблема, однако, состоит в том, чтобы после десятилетий существования вульгарной социологической критики в духе марксизма-ленинизма освоить иную стратегию социального анализа визуальных искусств (в том числе и «иную» марксистскую критику). Новое качество визуальной культуры означает отнюдь не только безобидную экспансию визуальности на все области социальной жизни в смысле ее эстетизации. Визуальная культура во многом ответственна за формирование нового субъекта как главной мишени глобализационных амбиций общества позднего капитализма. Наша идентичность формируется в окружающем нас визуальном поле – посредством Интернета, просмотра глянцевых журналов, чтения газет, просмотра телевидения, репрессивного визуального присутствия Макдональдсов, удовлетворения своих потребительских желаний в момент беглого осмотра красочных витрин универсальных магазинов и бутиков. Образы стимулируют волю и желание, - писал Вальтер Беньямин, характеризуя таким образом политическую силу сюрреалистского искусства. Но эти же слова в полной мере могут быть отнесены к рекламному бизнесу, политическим технологиям и многому другому. Потребление зрелища (иллюзий) взамен или наряду с материальными благами - вот реальность современной культуры (modernity). Искусство в этом контексте так же есть лишь разновидность товара, выделанного, поставляемого, приравненного к индустриальной продукции, продающегося и заменимого (Хоркхаймер и Адорно). Общество, базирующееся на современной индустрии, не является зрелищным случайно или поверхностно – в самой своей основе оно является зрительским - так считал Ги Дебор, основатель ситуационистского движения [Дебор, 2000: 198]. Более того, современная культура дана нам в опыте именно как спектакль: зритель специфическим образом совмещает в себе функции туриста и потребителя (или наоборот – потребитель является, прежде всего, зрителем, или фланером). Слова «капитализм», «демократия», «неоколониализм» или «американизация» обретают силу ровно настолько, насколько они подкреплены визуально. Например, отсутствие в Минске капитализма еще какое-то время назад буквально бросалось в глаза (так же как бросается в глаза «лукашизм» - благодаря агрессивной социальной рекламе, которая вытеснила коммерческую практически на всех биг=бордах в центре Минска): за исключением Макдональдса, глазу прохожего было не на чем зацепиться. Для любого приезжего из других метрополий витрины казались скучными, поражало отсутствие наружной рекламы или однообразие- 8 бедность имеющейся (впрочем, белорусские города и сейчас для иностранных туристов выглядят как застывшие во времени советские монументы), а здания выглядели пошарпанными и остро не хватало подсветки - этого признака урбанистического благополучия современных городов. «Капитализация» постсоветских городов началась с реставрации архитектурных памятников (город должен выглядеть благополучным и нарядным), подсветки домов на центральных улицах и появления бигбордов на автострадах (при этом и то, и другое выполняют отнюдь не только эстетическую функцию). В том же ключе разноликость и разноцветность избирательных кампаний призвана симулировать демократию и в этом смысле скрывать ее недостаток. Итак, критический анализ образов как социальных объектов – вот то, что конституирует точку зрения визуальных исследований. И потому формы видения (или топосы видения) – это не изобретение гениев-одиночек, а то художнику диктует эпоха, то, что разделяем и мы все, как члены определенного сообщества. То, как мы видим и как мы затем переосмысливаем наш визуальный опыт, задается и формируется не только и не столько художественной традицией или уровнем образования, но также экономическими условиями существования, политическими и социальными отношениями и местом индивида (как представителя определенного пола, класса, нации) во властной иерархии общества. ____________________________________ Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание // Вопросы искусствознания, IX (2/96). Бурдье П. Исторический генезис чистой эстетики. Эссенциалистский анализ и иллюзия абсолютного» // Новое литературное обозрение, 2003, № 60. Вулф Дж. «Общественное производство искусства» // Контексты современности – II (под ред. С.А. Ерофеева). Издательство Казанского уиверситета, 2001. Дебор Г. Общество спектакля. М., ХЖ, 2000. Усманова «Женщины и искусство: Политики репрезентации» // Гендерные исследования. Уч. пособие. (ХЦГИ - СПб.: Алетейя, 2001. Усманова А. Алена Киш // Женщины на краю Европы (под ред. Е.Гаповой. Минск: ЕГУ, 2003). Mirzoeff N. What Is Visual Culture?, in Visual Culture Reader (ed. N.Mirzoeff). London&New York: Routledge, 1998. Parker R., Pollock G. Old Mistresses. Women, Art and Ideology (New York: Pantheon Books, 1981).