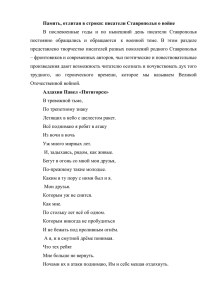А стрелки ходят по кругу (ч.1)
реклама
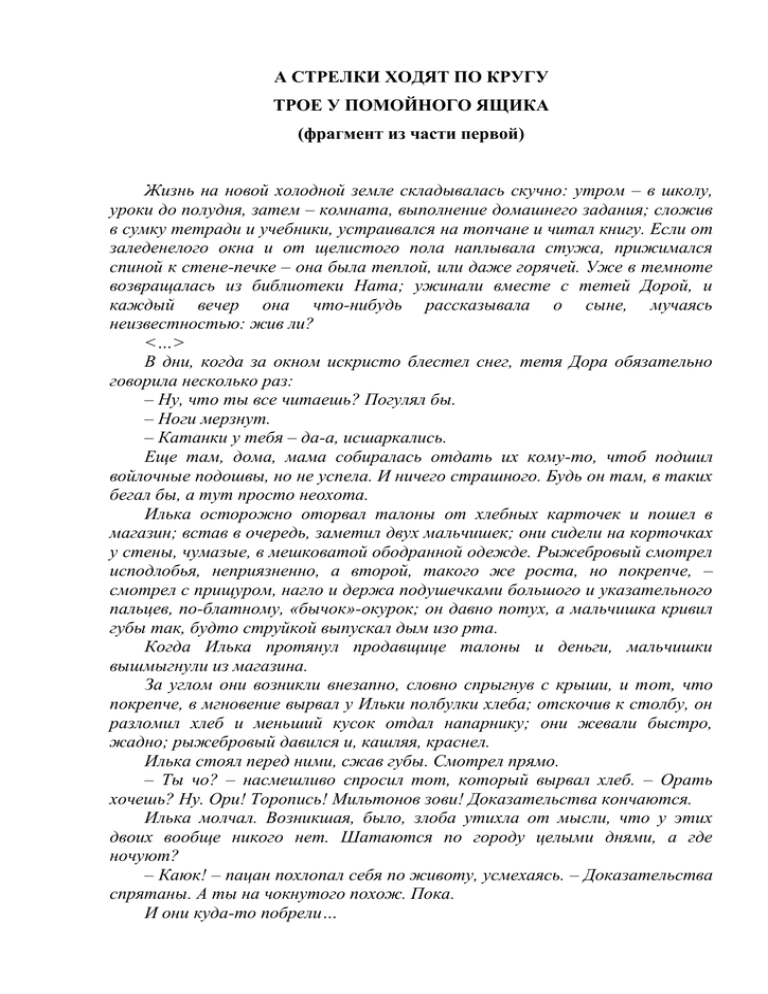
А СТРЕЛКИ ХОДЯТ ПО КРУГУ ТРОЕ У ПОМОЙНОГО ЯЩИКА (фрагмент из части первой) Жизнь на новой холодной земле складывалась скучно: утром – в школу, уроки до полудня, затем – комната, выполнение домашнего задания; сложив в сумку тетради и учебники, устраивался на топчане и читал книгу. Если от заледенелого окна и от щелистого пола наплывала стужа, прижимался спиной к стене-печке – она была теплой, или даже горячей. Уже в темноте возвращалась из библиотеки Ната; ужинали вместе с тетей Дорой, и каждый вечер она что-нибудь рассказывала о сыне, мучаясь неизвестностью: жив ли? <…> В дни, когда за окном искристо блестел снег, тетя Дора обязательно говорила несколько раз: – Ну, что ты все читаешь? Погулял бы. – Ноги мерзнут. – Катанки у тебя – да-а, исшаркались. Еще там, дома, мама собиралась отдать их кому-то, чтоб подшил войлочные подошвы, но не успела. И ничего страшного. Будь он там, в таких бегал бы, а тут просто неохота. Илька осторожно оторвал талоны от хлебных карточек и пошел в магазин; встав в очередь, заметил двух мальчишек; они сидели на корточках у стены, чумазые, в мешковатой ободранной одежде. Рыжебровый смотрел исподлобья, неприязненно, а второй, такого же роста, но покрепче, – смотрел с прищуром, нагло и держа подушечками большого и указательного пальцев, по-блатному, «бычок»-окурок; он давно потух, а мальчишка кривил губы так, будто струйкой выпускал дым изо рта. Когда Илька протянул продавщице талоны и деньги, мальчишки вышмыгнули из магазина. За углом они возникли внезапно, словно спрыгнув с крыши, и тот, что покрепче, в мгновение вырвал у Ильки полбулки хлеба; отскочив к столбу, он разломил хлеб и меньший кусок отдал напарнику; они жевали быстро, жадно; рыжебровый давился и, кашляя, краснел. Илька стоял перед ними, сжав губы. Смотрел прямо. – Ты чо? – насмешливо спросил тот, который вырвал хлеб. – Орать хочешь? Ну. Ори! Торопись! Мильтонов зови! Доказательства кончаются. Илька молчал. Возникшая, было, злоба утихла от мысли, что у этих двоих вообще никого нет. Шатаются по городу целыми днями, а где ночуют? – Каюк! – пацан похлопал себя по животу, усмехаясь. – Доказательства спрятаны. А ты на чокнутого похож. Пока. И они куда-то побрели… Уже замерз Амур, и его ледяной панцирь колотили лошади, волоча сани; на отрывном календаре у тети Доры осталось листиков двадцать, а снега в городе было совсем мало. И если раньше он тонко покрывал всю землю, то теперь и дороги, и тротуары оголились – его сдули порывистые ветры. Они же переносили снег колючими поземками с огородов и пустырей под заборы и овраги, и обнажались грядки и бугры, скованно-серые, омертвелые. – Плохо для хозяйства, – сетовала тетя Дора. – Снег нужон. Ох как нужон! И однажды ночью он повалил, и утром падал густо, плавно, до того красиво, что хотелось смотреть не на доску, на которой что-то писала учительница, а за окно. А после уроков, когда ворвались из школы, почувствовали, что потеплело, прямо как весной, и начали бросаться снежками, и почему-то получалось не по честному: против него и Гришки с последней парты в первом ряду оказалось слишком много пацанов. Снежки летели с трех сторон, но лишь некоторые чиркали по одежде; хорошо, что не было меткачей, а Илька умел кидать точно – еще там, на берегу Ангары, натренировался с ребятами: галькой попадал в спичечный коробок. И здесь уже на трех лбах разбились снежки. Противники обозлились и, похоже, завязалась бы рукопашная, если б не окрик директрисы: – Прекратить сейчас же! Гришка дернул Ильку за рукав. – Бежим! В проулке, выковыривая снег из-за воротника рубашки, он сказал: – Мы им не подходим. Они – в теплых домах. У них – куры. Свиньи, аж коровы. Куркули! Жмоты и задавалы! Илька уже понял: в классе главарят пятеро мальчишек из соседнего переулка; около них, рослых и сильных, многие вертятся заискивающе, иные превратились в «шестерок». У них какие-то свои интересы и дела. К нему же все безразличны – считают временным. Он и сам сказал им, что немного поживет тут и уедет или обратно, или еще куда-то. Они похихикали: дескать, как цыган кочуешь – сегодня сюда пришел, а завтра исчезнешь. – Бабка как?.. Не ворчит? Спросил Гришка о тете Доре. – Не-а. У нее хоть старший сын уцелел. С моим батей вместе призывали. А батя мой под Сталинградом… Вот. Гришка дернул носом и посмотрел на Амур, далеко. Илька ощутил: на душе у Гришки стало больно. И у самого заныло. Он проговорил: – Это Димкин отец? Гришка кивнул. Илька намерился рассказать, как Димка заявился в выходной, забрал его валенки, а вечером привез плотно подшитые. Ната, понятно, спросила: «Сколько заплатить?», а Димка надулся: «Нисколько. Это – раз плюнуть». Посопел, потопался и пробурчал: Дали бы книги почитать. Про героев. Я верну». Возле калитки тетидориного дома Гришка сказал: – Завтра жди. Я крикну тебя. Вот. С того дня они вместе ходили в школу и обратно. А после трех часов, когда солнце светило теплее, гуляли с улицы на улицы, до площади. И чем дольше бродили, тем сильнее хотели есть. Но денег даже на пирожок не было. А на этот раз шли вдоль ресторана – за потными окнами сидели офицеры; через открытую форточку переползали беловато-тягучие струи пара, пахнущие мясом. – Мы держали двух куриц, – сказал Гришка. – Но до октябрьских праздников слопали. Вот. Не неслись они и кормить нечем. Илька сглотнул слюну – случалось, папа приносил или тушенку, или колбасный фарш. Американский. Разрезали его на тонкие ломтики, и он вкусно таял во рту. А еще вспомнился круг мороженого молока. Мама приносила его с базара, клала в чашку; из середины круга торчала палочкаручка, и около нее желтоватым наплывом заледенели сливки. Мама разрешала сковыривать их ножом и кушать, не торопясь, помаленьку, чтоб не застудить горло. Они обогнули длинное здание и оказались на его дворе. Мимо них насикосок от помойного ящика прошла больная женщина с ведром. И вдруг пахнуло запахом колбасы. На мгновения. Почудилось, наверное. Но через несколько шагов снова уловили запах и догадались, откуда он; среди картофельных очисток и луковой кожуры на серой коробке лежали смятые в комки кусочки кожицы копченой колбасы и «попки» от нее с сальными веревочками. Гришка взял комок, и воздух стал духмяным, туманящим голову, а как только сухая кожица хрустнула на его зубах, Илька схватил другой комок и втолкнул в рот. – Вы чо? – раздался злобно-нервический крик. – Вы чо берете чужое? Вас звали, хапуги, фраера паршивые? На той стороне ящика стоял он, пацан, месяца полтора назад съевший Илькин хлеб. Сейчас он был в солдатской шапке без уха и в телогрейке. Он смотрел на Ильку удивленно и ненавидяще. – Я кому сказал? Не трогать! – перевел взгляд на Гришку и, ловко расстегнув ремень, намотал его на руку; медная бляха с якорем блеснула ярко. Илька и Гришка отступили. А пацан все, что осталось на коробке, матерясь, переложил в карман телогрейки. В конце февраля, после оттепели, накатилась такая холодина, да с ветерком, что Илья, только вышел из дома, почувствовал, как прищепило нос и щеки. Гришка погрел ладонью одно ухо, второе и развязал шапку. Переходя улицу, они увидели, что люди почему-то собираются левее магазина, у сараев. – Наверное, обворовали, – предположил Гришка. – И, может, поймали, – добавил Илька. Они пролезли сквозь толпу, прямо к трубе, которая пролегала между сараями, а дальше, над дорогой, поднималась аркой. По этой трубе из кочегарки поступала горячая вода в батареи школы и другие кирпичные дома. И вот – ну и ну! – кто-то выдрал большой клок утеплителя. К ребятам склонился высокий дядька с грустными глазами. – Он вам знаком? – Кто? – спросил Гришка, а Илька в ту же секунду вздрогнул: чуть поодаль от трубы, у сарая, на брезенте лежал лицом вверх пацанбеспризорник. Лоб, нос, щеки окаменели в бело-синеватой мертвенности, утончившиеся губы застыли в усмешке, как будто он всех презирал. – Видели его, – хрипло ответил Илька. – Как звали? – Не знаем. – Да-а-а, – протянул высокий дядька. – Опять, как после гражданской. – Что значит «как» и «опять»? – по-учительски недовольно и строго спросила неуклюже-маленькая женщина; взгляд у нее был, как у хищной птицы. – Кто пережил, тот знает, – ответил дядька. Женщина подступила к нему угрожающе. – Какую ты политику ведешь при детях? Высокий дядька развернулся и ушел. Из разговоров они узнали лишь о том, что пацан замерз. А как? Неужели не мог войти в какой-нибудь подъезд? Предполагали, что он болел, температурил, ослаб. Или так крепко уснул на этой теплой трубе… Ильке страшно было смотреть на мертвого пацана. И в то же время не верилось, что все, больше нигде его не увидит. А может, еще как-то получится оживить его? Почему ничего не делают? Он не заметил, как приехали милиционеры; прошли рядом, подняли пацана и унесли в машину. На первый урок опоздали; учительница вообще-то разрешала входить в класс после звонка, но сейчас не хотелось – сели на ступеньку лестницы. И молчали. И, казалось, всю школу заполнила зябкая тишина. Но в классах ребята решали задачи, отвечали у доски, писали сочинения, учителя рассказывали о войнах, полководцах, героях, о том, как в стране уже восстанавливаются города и деревни, о планах новой сталинской пятилетки. А милицейская машина где-то везла замерзшего беспризорника.