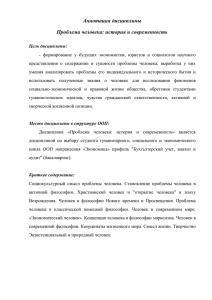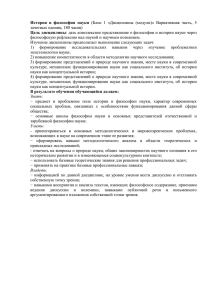А.А. Исаев. "ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ" В ПОСТСОВЕТСКОЙ
реклама
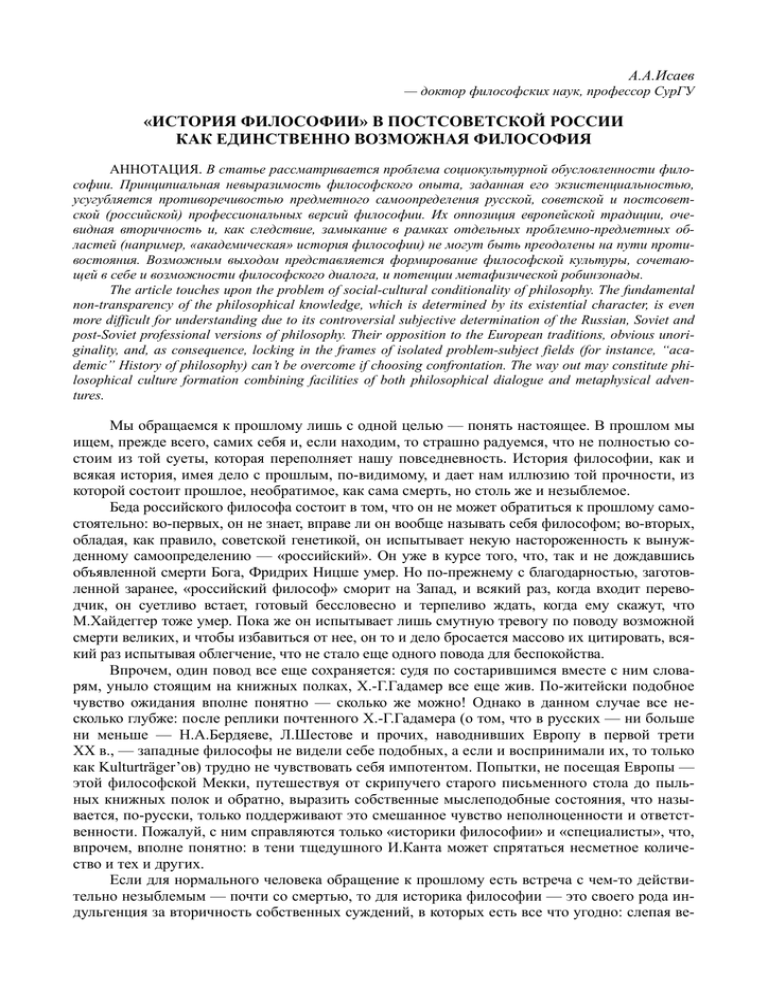
А.А.Исаев — доктор философских наук, профессор СурГУ «ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ» В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ КАК ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема социокультурной обусловленности философии. Принципиальная невыразимость философского опыта, заданная его экзистенциальностью, усугубляется противоречивостью предметного самоопределения русской, советской и постсоветской (российской) профессиональных версий философии. Их оппозиция европейской традиции, очевидная вторичность и, как следствие, замыкание в рамках отдельных проблемно-предметных областей (например, «академическая» история философии) не могут быть преодолены на пути противостояния. Возможным выходом представляется формирование философской культуры, сочетающей в себе и возможности философского диалога, и потенции метафизической робинзонады. The article touches upon the problem of social-cultural conditionality of philosophy. The fundamental non-transparency of the philosophical knowledge, which is determined by its existential character, is even more difficult for understanding due to its controversial subjective determination of the Russian, Soviet and post-Soviet professional versions of philosophy. Their opposition to the European traditions, obvious unoriginality, and, as consequence, locking in the frames of isolated problem-subject fields (for instance, “academic” History of philosophy) can’t be overcome if choosing confrontation. The way out may constitute philosophical culture formation combining facilities of both philosophical dialogue and metaphysical adventures. Мы обращаемся к прошлому лишь с одной целью — понять настоящее. В прошлом мы ищем, прежде всего, самих себя и, если находим, то страшно радуемся, что не полностью состоим из той суеты, которая переполняет нашу повседневность. История философии, как и всякая история, имея дело с прошлым, по-видимому, и дает нам иллюзию той прочности, из которой состоит прошлое, необратимое, как сама смерть, но столь же и незыблемое. Беда российского философа состоит в том, что он не может обратиться к прошлому самостоятельно: во-первых, он не знает, вправе ли он вообще называть себя философом; во-вторых, обладая, как правило, советской генетикой, он испытывает некую настороженность к вынужденному самоопределению — «российский». Он уже в курсе того, что, так и не дождавшись объявленной смерти Бога, Фридрих Ницше умер. Но по-прежнему с благодарностью, заготовленной заранее, «российский философ» сморит на Запад, и всякий раз, когда входит переводчик, он суетливо встает, готовый бессловесно и терпеливо ждать, когда ему скажут, что М.Хайдеггер тоже умер. Пока же он испытывает лишь смутную тревогу по поводу возможной смерти великих, и чтобы избавиться от нее, он то и дело бросается массово их цитировать, всякий раз испытывая облегчение, что не стало еще одного повода для беспокойства. Впрочем, один повод все еще сохраняется: судя по состарившимся вместе с ним словарям, уныло стоящим на книжных полках, Х.-Г.Гадамер все еще жив. По-житейски подобное чувство ожидания вполне понятно — сколько же можно! Однако в данном случае все несколько глубже: после реплики почтенного Х.-Г.Гадамера (о том, что в русских — ни больше ни меньше — Н.А.Бердяеве, Л.Шестове и прочих, наводнивших Европу в первой трети XX в., — западные философы не видели себе подобных, а если и воспринимали их, то только как Kulturträger’ов) трудно не чувствовать себя импотентом. Попытки, не посещая Европы — этой философской Мекки, путешествуя от скрипучего старого письменного стола до пыльных книжных полок и обратно, выразить собственные мыслеподобные состояния, что называется, по-русски, только поддерживают это смешанное чувство неполноценности и ответственности. Пожалуй, с ним справляются только «историки философии» и «специалисты», что, впрочем, вполне понятно: в тени тщедушного И.Канта может спрятаться несметное количество и тех и других. Если для нормального человека обращение к прошлому есть встреча с чем-то действительно незыблемым — почти со смертью, то для историка философии — это своего рода индульгенция за вторичность собственных суждений, в которых есть все что угодно: слепая ве- ра в логику и пафос непогрешимости, убеждение в объективности науки и важности реконструкций прошлого; и только одного здесь нет — философии, которая, как и всякое состояние мысли, вообще не передается, а, скорее, испытывается, грубо говоря, на собственной шкуре. Так что мировое кантоведение уверенно ждет своих новых жертв. Между тем, «мамардашвиливедение», похоже, осталось незамеченным не только для историко-философского дискурса (что вполне понятно), но и для русского языка (что понятно не вполне: неужели это рецидив профессиональной совести, представляющей не что иное, как коррелят рефлексии, имманентной всякому внутренне последовательному философскому мышлению?). «Российская» история философии — это окольный путь, который, как правило, начинается с попыток научиться обращаться с тем, что составляет опыт повседневных философских размышлений живых или не очень европейских современников, т.е. тех, кто, как известно, знание языка ценит меньше литературы, справедливо полагая, что рама, холст и кисти не дороже Тициана. Как дар умозрения, философия в пору своего рождения вообще не имела собственного языка; и история философии, в замысле своем, должна была стать тем же самым — возвращением почти физической способности видеть посредством «третьего» глаза — ума, т.е. возвращением к первичному истоку — опыту существования, в слове невыразимому, к тому, что, как можно думать, существует до языка и, быть может, вне технического умения им пользоваться. Иными словами, процедура обращения к прошлому определяется множеством условий и, не в последнюю очередь, собственно философской состоятельностью историко-философского подхода. Подобная состоятельность дает надежду на то, что принцип релевантности предмета и метода, т.е. соответственно философского и исторического начал, может быть соблюден, и отношения между прошлым (философским персонажем) и настоящим (историографом философского прошлого) будут открыты для понимания. Всякий историко-философский акт как базовая структура одноименного «подхода» представляет интенцию, источником которой служит современная философия, а адресатом — философия прошлого. Акт обращенности к прошлому в традиционной («научной») истории философии имеет исторический характер и выражает темпорально и логически обусловленную связь настоящего и прошлого. В функции истока историко-философской интенции, современная философия (настоящее), являясь репрезентацией множества взаимосвязанных факторов, представляет своеобразное тематическое поле, собственная напряженность которого и определяет мотивы обращения к прошлому. Они могут иметь разный характер: от формально-исторических и социокультурных до экзистенциальных и философских. Так, историческое обращение предпринимается в основном в интересах прошлого философии и ограничивается его реконструкцией, в то время как собственно философское обращение призвано удовлетворить некий запрос или ответить на очередной вызов, созревший внутри современной философской ситуации. Очевидно, в первом случае обращение к событию мысли, имевшему место в прошлом, предполагает элиминацию исторических наслоений того социокультурного контекста, в котором произошло это далекое событие, во втором же случае необходимо исключить, прежде всего, современные социокультурные влияния в отношении мотивов предпринятого историко-философского акта. Если неясность и непроясненность прошлого, когда речь идет хотя и о сохранившейся, но в высшей степени произвольной выборке мысли, рожденной, к примеру, в Древней Греции, более или менее ясна, то неясность и непроясненность нашего собственного настоящего может быть прояснена только самими «досократиками» и Сократом или, быть может, по убывающей — Платоном, Аристотелем и теми, кто еще хоть что-то мог слышать и помнить. Если же те, с кем мы встречаемся в прошлом, пытаясь «держать его живым», не прояснят нам нашу ситуацию, то мы так и останемся в неведении в отношении и их настоящего, и нашего собственного. Сложность экспликации мотивов, вызывающих некое современное обращение к реалиям историко-философской традиции, и неоднозначность исторических содержаний самой традиции многократно усугубляются неясностью «механизмов» формирования современной философской ситуации. Складывается впечатление, что современность не только допускает, но и вынуждена требовать тех же приемов рассмотрения, что и философское прошлое. Так, если мы выдвигаем в качестве критерия адекватности историко-философского подхода его собственно философскую состоятельность, определяемую через соответствие предмета и метода, то данное «соответствие» должно быть, по сути, инвариантно к различению прошлого и настоящего. Однако первые же попытки прояснить философскую современность показывают, что она затемнена существенно сильнее, нежели отдаленное прошлое. И дело здесь не только в обстоятельствах социокультурного характера, изменчивых настолько, что они не поддаются философскому анализу, но и в собственных основаниях философии. Всякая попытка зафиксировать некое современное состояние философского познания в качестве предмета показывает, что вместо предполагаемого содержательно-смыслового единства подобный предмет репрезентирует внутреннюю гетерогенность тематического поля философии. Поскольку предметно-методологическое соответствие в собственном содержании философии не отличается устойчивостью, то это усложняет и проблему идентификации истории философии: не проникнув в основания конституирования философии в качестве предмета историкофилософского подхода, мы не сможем использовать и принцип релевантности предмета и метода в оценке исследовательской состоятельности традиционной («научной») истории философии. К тому же в отношении некоторых культурно-философских форм, герменевтическое требование временнóго отстояния (необходимое условие конституирования прошлого в качестве предмета исторического подхода) замещается предложением использовать вневременные предметно-содержательные различия. Фактором, наращивающим неопределенность современной философии как целостного феномена, может служить и ее социокультурная предопределенность. Очевидная ныне зависимость философии от культуры, где последняя выступает как некая субстантивированная метафора, дает возможность говорить о существовании и определенных внутренних взаимодействиях не только некоего центра и периферии, но и ряда региональных доминант. Примером здесь может служить соотнесенность ситуаций в западной и отечественной философии. Организуя культурно-философское пространство, прежде всего, через конституирование проблемно-предметных и методологических приоритетов (например, через создание модных и влиятельных тематических языков), а зачастую и посредством прямой социальной и профессиональной институционализации, центр выступает генерирующим ядром современной философии. Его влияние и содержательное многообразие индуцируется не столько в (давно утраченном) сопряжении с традицией, представляющем концептуализированную рефлексию ее содержаний, сколько посредством философской юрисдикции, иными словами, обычного прецедентного права: Россия для великого И.Канта — что-то вроде крематория, останки же его философской системы по-прежнему принадлежат Европе. Участь философской периферии незавидна: она подвергает избирательной рефлексии и агрегирует в себе наиболее актуальную проблематику центра, но любое ее собственное обращение к традиции опосредованно. Предметное самоопределение русской, советской и, прости Господи, российской философии всегда усложнялось этой ее вторичностью: по отношению к европейской философии она и ныне служит своеобразной околицей. Культурнофилософская соотнесенность центра и периферии аналогична той дисциплинарной соотнесенности, которая существует, соответственно, между философией как таковой и «научной» историей философии. В нашем отечестве философствуют, как правило, по поводу уже состоявшейся мысли западных философов: даже факт конгениальности отечественных исследователей при этом ничего не решает. В этом смысле одновременностью европейской философии можно пренебречь, поскольку обращенность к ней отечественного профессионального сообщества репрезентирует некий современно-исторический подход, в чьих пределах самостоятельность суждений его адептов всегда ограничена предсуществующей предметностью западной мысли. Между ними как бы изначально пролегает некая псевдо-историческая дистанция, чья особенность состоит в том, что временнóй зазор здесь вытеснен содержательнотематическим. Удивительно то, что данный разрыв имплицитно воспринимается отечественными исследователями как имеющий временнýю размерность, что делает для них ситуацию в современной западной философии, по сути, объектом историко-философского подхода. Та- ким образом, даже вневременнóй содержательно-тематический разрыв между периферией и центром способен конституировать современную ситуацию в философии как предмет истории философии. Здесь воздействие социокультурного контекста неким естественным образом приводит к своеобразной элиминации времени, тогда как в русле историко-философского подхода, также нацеленного на актуализацию содержаний философии, данный результат достигается лишь с помощью методологического принуждения. Несмотря на то, что в последние десятилетия время конституирования содержаний в современной западной культурно-философской традиции течет несколько «медленнее», нежели их рецепция в России, предмет наших профессиональных симпатий вполне успевает состариться и, став историей, требует исторического подхода как единственного легитимного способа обращения. Здесь сказываются, по крайней мере, два обстоятельства: с одной стороны, надо, наверное, признать, что то, о чем философствуют «по-русски», не имеет заметного резонанса. Какие бы проблемные ниши не создавали себе наши робинзоны, оказавшись на Западе, и на какие бы экзотические языки не переводились их труды, ангажированные либо случайно, либо по тематическому признаку, с отечественным интересом к какому-нибудь мсье Рено, ничтоже сумняшеся читающему Хайдеггера по-французски, это вряд ли сравнится. С другой стороны, сказывается влияние «технических» препятствий, в частности, проблема адекватного перевода, которая в принципе не разрешима. В этом смысле, что бы мы ни говорили, но философская традиция и практика современного философствования (да и не только она, но, равным образом, социокультурная, экономическая и политическая жизнь) приватизирована Старым Светом и реализуется отнюдь не в языке Ф.М.Достоевского. Так, например, достаточно хрестоматийный опыт определения историко-философских доминант XIX в., одной из которых является линия «Гегель—Ницше», вряд ли может быть проделан «по-русски»: возможно ли, будучи представителем иной культуры, осмыслить нюансы тех ментальных, имеющих исключительно социокультурную (а порой и чисто психологическую) подоплеку, метаморфоз европейской и немецкой философии, которые «привели» от Гегеля к Ницше? Зачастую препятствием здесь становится сам язык, попытки преодоления которого также приводят к странным девиациям: в отечественном профессиональном сообществе навык перевода, по сути, вытеснил «навык» самостоятельного мышления — переводить стало более «престижно», нежели пользоваться переводом в качестве технической процедуры, упрощающей путь к содержаниям традиции и опыту самостоятельной мысли. Но язык — не единственное «препятствие». Обыденным в этом смысле представляется то обстоятельство, что повсеместная клановость как принцип нашей социальной жизни освоилась и в философии, проникнув в профессиональное общение тех, кто еще имеет к ней отношение. Закрытость сообществ, интегрированных вокруг неких «проектов» и фондов, парадоксальным образом приводит к тому, что философия становится личным делом в худшем смысле этого слова. Если М.К.Мамардашвили, пусть и философствуя «из недостатка», в свое время еще мог утверждать публичность в качестве имманентного принципа мышления, то в эпоху «постгласности», самостоятельная мысль вряд ли сможет кого-то призвать к сознанию. Вместе с размыванием пространства, где мысль востребована, и осознанием того простого факта, что философия в этой стране не только ничего не может изменить, но и ничего не стоит, происходит необратимое разрушение традиции: еще недавно будучи способной к экстерриториальному существованию, философия начинает жить по «законам» общества и государства. Впрочем, речь об этом должна вестись не аутсайдерами от философии и не посредством языка философской публицистики, а наиболее авторитетными в корпоративной среде исследователями, профессорами и переводчиками, которым, как можно думать, по силам реанимировать основы, быть может, внутренне неоднозначного, но тем не менее реально необходимого феномена — отечественной философской культуры: за этим стоит не очередная понятийная фикция или понятие-кентавр, а, пожалуй, единственная и отнюдь не ограниченная рамками университетской традиции форма профессионального со-существования, способная реализовать принуждение к сознанию и научить думать не только «по-немецки». Нужно, наверное, как-то понять, что даже в опыте крайне эгоистичных и к тому же экзистенциальных по своей природе занятий человека, таких как философия и философствование, культура остается способом его бытия и способом бытия всех его конститутивных проявлений. Характер этого бытия определяется не только противостоянием экзистенции как своеобразной онтологической робинзонады, с одной стороны, и вынужденным со-существованием с себе подобными и неподобными как неким диалогом, также имеющим онтологический статус, с другой стороны, но и тем великодушием, которое, как говорил философ, дает возможность вместить этот мир как он есть. Философская Европа может по праву давности изучать самоё себя, собственное культурное и философское прошлое, не страдая ни от дефицита впечатлений, ни от избытка высокомерия и нарциссизма; американские философские прагматики, на полном серьезе отказываясь изучать языки, на которых говорит философская традиция, но по привычке расценивая все, что создано в иных культурах, как принадлежащие им по праву сильного полезные ископаемые, могут смотреть на европейскую философию, как на приправу к собственному здравому смыслу; «российский» же философ, путая вечную склонность к самоедству с философской рефлексией, не только ничего не скажет от собственного имени, но и другим запретит. Эта немощь организовать нормальное, не репрессивное философское со-общество, неспособность к толерантному профессиональному со-существованию не только превращает живой язык философии в «самокручение терминологической машины», но и приводит к бегству от реальности, добровольному заточению за частоколом цитат, огораживающим пространство некой «академической» истории философии, иными словами, к подлинной философской импотенции, страху высказать вслух что-либо осмысленное от своего собственного имени, не отказываясь при этом от ответственности. Если припомнить собственный исток, с необходимостью возвращающий нас к примеру чьей-то мысли, то философская культура действительно может быть понята как способ профессионального со-существования и принята в качестве основания, конституирующего и поддерживающего востребованность философской мысли в качестве условия той самой толерантной публичности, без приглашающего участия которой философское мышление попросту невозможно.