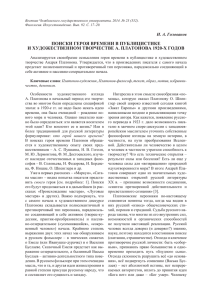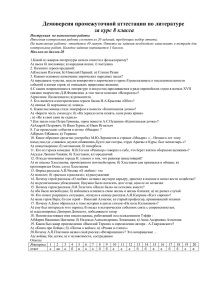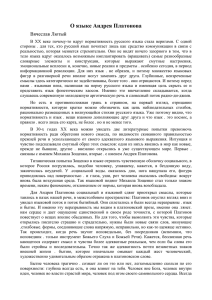ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРЫ
реклама

ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРЫ УДК 821.161 И. А. Спиридонова1 К вопросу о художественном синтезе в военной прозе А. Платонова (на материале рассказа «Сампо») В статье анализируется трагическое начало в прозе Платонова 1941– 1946 годов. Исследуется синтез поэтических особенностей античной трагедии, эпоса «Калевала», документалистики в рассказе «Сампо» на всех уровнях поэтической структуры произведения. The article is devoted to the analysis of tragical roots in A. Platonov’s prose of years 1941–1946. In “Sampo” novell the synthesis of the poetical peculiarities of antic tragedy, “Kalevala” epos and documentation is examined according to all levels of the poetical structure of the writing. Ключевые слова: А. Платонов, проза, новеллистика, художественный синтез, рассказ «Сампо». Key words: A. Platonov, prose, novelettes, art synthesis, story «Sampo». Идея синтеза определяет художественную стратегию А. Платонова периода Великой Отечественной войны. В военный блокнот он записывает: «…Принцип организации всего, как ни труден для исполнения этот принцип, есть высший принцип и единственное искусство практической победы. Этот принцип как бы "сер", п<отому> ч<то> он труден и суетен, но он – истина» [4: 220]. Писатель разделил героико-патриотический пафос времени, но сознавал трагическую двуликость исторического события и в пределах одного художественного текста писал не одну, а две войны: войну по защите своей земли, дома, народа – Отечественную – и «вечную войну», спутницу «всей жизни» («Вся жизнь» – название неизданной книги Платонова военных лет). Патриотизм как этическая константа, героическое и трагическое как эстетическое двуначалие определили идейно-художественное своеобразие его прозы военных лет, жанровое ядро которой составили рассказы. В каком направлении работает у Платонова идея художественного синтеза, «прочитывается» в названиях рассказов «Божье дерево», «Сампо», «Взыскание погибших», «Афродита» и др. Современная история, человек и мир описываются в военной новеллистике Платонова сразу несколькими культурными кодами, получая многомерное освещение сквозь призму национального и общечеловеческого опыта. Во «внутреннем мире произведения» 1 Спиридонова Ирина Александровна, доктор филологических наук, доцент, Петрозаводский государственный университет. (Д. Лихачев) общий принцип «организации всего» получает всякий раз новое художественное воплощение, что и делает данное произведение эстетически значимым в ряду других. В 1943 году в журнале «Новый мир» (№ 2–3) был публикован рассказ Платонова «Сампо», который предвосхитил стихотворение М. Исаковского «Враги сожгли родную хату» (1946): солдат на пепелище родного дома. Важную роль в художественной структуре рассказа «Сампо» играют развернутые описательные элементы, портрет и пейзаж, которые придают произведению очерковый, документальный характер, однако их «проблемная насыщенность» и функции в сюжете выходят за пределы очеркового жанра. Портрет Кирея (основное имя героя в рассказе), вписанный автором в траурный пейзаж пепелища, – это портрет человеческого горя. Герой существует на границе жизни и смерти. Первый художественный сигнал пограничного состояния – цветовой, физический («изношенная серая шинель», «серая, выветрившаяся» борода), который тут же получает метафизическое наполнение. Серый цвет – промежуточный между белым и черным, иначе говоря, разрушающий оппозицию белого и черного (в символической проекции – оппозицию ‘света’ и ‘тьмы’, задающей божественный космос), символически представляет в описании зло войны. Потому он и становится первым внешним знаком внутреннего неблагополучия героя – знаком утраченного («выветрившегося») на войне смысла жизни. Внешний портрет («утомленный, постаревший человек», «глаза его… спокойно глядели на опустевшую землю, не выражая сейчас ничего, кроме равнодушия») указывает, что человек отчужден от жизни. Однако это внешние и временные («сейчас») характеристики героя. Во внутреннем портрете, где открываются душа и сердце Кирея, граница едва-едва смещается в сторону жизни: «…сердце его… наполнилось горем до той меры, когда больше оно уже не принимает мученья, потому что человек не успевает одолевать его своим сердцем. И тогда весь человек делается словно равнодушным». Состояние мертвого покоя на этом отрезке портретной характеристики дано как кажущееся («словно равнодушный») и временное (временная обусловленность синтаксической конструкции ‘когда – тогда’). Завершая портрет героя, вглядевшись и вдумавшись в него, повествователь переосмысливает «последствия» горя, навечно поселившегося в человеческом сердце: «Но горе тогда уже бессильно превозмочь человека насмерть». Смысловой нерв произведения – длящийся во времени разговор солдата Кирея, в прошлом кузнеца Нигарэ, со своей погибшей женой. В диалогические отношения при этом поставлены прошлое и настоящее, культурный народный опыт и личный опыт человека, познавшего войну. Рассказ построен так, что малая эпическая форма вступает в диалогические отношения с героическим эпосом карелов и финнов «Калевала». Название рассказа «Сампо», эпиграф, герой (в довоенной жизни карел Нигарэ – кузнец, как и культурный герой народного эпоса Ильмаринен), центральный эпизод (спор Нигарэ с женою о мельнице Сампо) – это только очевидные выходы автора в эпическое время «Калевалы». Эпическое время бесконечно большое, вбирает в себя исторический опыт народа и его идеальное целеположение в истории. Время человеческой жизни бесконечно мало, но в своей малости оно единственно реальное, живое время истории – время ее осуществления. О. Кузьменко пишет: «Подарив людям самомольную мельницу Сампо, Ильмаринен не полностью выполнил свою роль культурного героя. А задача, которую он перед собой ставил, заключалась в том, чтобы окончательно одолеть смерть для жизни вечной. <…> Поскольку борьба за жизнь продолжается и поныне, постольку Нигарэ осуществляет заветы Ильмаринена, наследует ему» [2: 142–143]. В последующей интерпретации рассказа О. Кузьменко закрепляет право преемственности и наследования заветов «Калевалы» исключительно за главным героем. Основной мировоззренческий конфликт исследовательница видит в споре Нигарэ с женой и разводит их жизненные позиции как «идею трудовой жизни» и «идею даровой жизни» [2: 145]. Однако разговор героя с женой не заканчивает, а, по сути дела, открывает сюжетное действие, кульминация которого – в финале. Композиционно рассказ можно условно разделить на три части: описательная – «введение» в военную судьбу героя, сцена спора Нигарэ с женой о чудо-мельнице Сампо, выделенная в его воспоминаниях, и мучительные размышления героя о том, как жить дальше. Вторая и третья части тесно связаны между собой единой философско-психологической коллизией. Спор Нигарэ с женой занимает главное место в воспоминаниях героя и становится отправной точкой в его «сегодняшних» размышлениях, то есть является сюжетно-композиционным центром произведения. Данный эпизод обладает особым художественным качеством – это диалог, построенный по драматургическому принципу (реплики героев – ремарки повествователя), в пределах монологического повествования об одном герое. В поведении жены, хранящей память детства (такая характеристика у Платонова традиционно важна), повествователь отмечает задумчивость, кротость, в ее словах – неуверенность. Это тревожный голос интуиции, не находящей твердой опоры ни в словах, ни в предмете обсуждения – самомольной мельнице Сампо. Женщина сама недовольна тем, что говорит. Когда Нигарэ упрекает жену за мечту о даровой жизни, в которой есть опасность, что люди будут жить «в одно свое мясо», она ему особо не возражает («может, и правда твоя»). Она чувствует какую-то бытийную, а не бытовую недостачу («все у нас было, а все будто чего-то недоставало»), но объяснить, чего она ждет от жизни «даром» (то есть свободной от социальнобытовых тягот), женщина не умеет и потому умолкает. В том, как ведет себя герой, есть известная агрессивность: мельница Сампо и разговор вокруг нее Нигарэ раздражают. Он уверен, что знает правду («Нам такое ни к чему, – у нас лучше есть, чем Сампо, у нас электричество»). Потому к жене он особо не прислушивается – он ее учит. Своим упреком («Колхоз наш полон добра был, иль все тебе мало?») Нигарэ, по сути дела, обрывает разговор. Позиция и поведение героя в мировоззренческом споре «вокруг» Сампо отчасти проясняют, какого «добра» не хватает его жене. Тогда, в довоенном прошлом, Кирей закончил разговор, уверенный в своей правде. Но вот теперь, когда деревня Добрая Пожва и жена, и дети его погибли, он в мучительном вопросе, как такое произошло, всякий раз возвращается к тому разговору и постепенно открывает свою неправоту. Речь героя встроена в речь повествователя, но легко опознается, так как внутренний монолог персонажа дан вслед его диалогу с женой. Выделенные курсивом слова – это полемика героя с собой прошлым, Кирея – с Нигарэ: «Что ж это такое? Кирей перестал трудиться, почувствовав мучающее горе в сердце, которое уже не может зажить в нем ни от какого добра или счастья. Его жена и дети домой не придут, и Сампо-электричество для них более не нужно. Жене нужно было кроме хлеба и хорошей жизни еще что-то, неизвестно что, – она о том говорила. Что же это было, что неизвестно было ей самой и что ей было необходимо?» [5: 110]. Нигарэ думал, что знал правду, Кирей до боли остро сознает, что не знает. Он не может с этим смириться, но еще страшнее обмануться, недодумать жизнь: «Он не знал всей тайны жизни и не знал того, почему зло хоть на время может одолевать добро и убивать безвозвратно любимых людей. А это горе уже не на время, а навеки» [5: 111]. Не зная, «что ему нужно теперь делать и как быть», Кирей по трудовой привычке начинает восстанавливать то, что было («...пусть будет все обратно, что умерло и погорело в Пожве»). Однако эта мифологическая установка вернуть прошлое не дает, а отнимает у героя силы. Каждый раз, что бы он ни делал, сознание, что ни жена, ни дети никогда не будут «обратно живы», снова убивает его. Важный момент духовной эволюции героя, когда он начинает добывать правду жизни через «мы», а не через «я». Это одновременно выход из трагедии одиночества в пространство народной жизни и преодоление эгоизма, ведь горе замыкает человека в границах своего «я». Герою дано выстрадать правду, которая обязывает его жить. В трагедии смерти и одиночества Кирей открыл личную вину, а отсюда и смысл своего личного существования сейчас и в будущем – жизнь в искупление: «…Он понимал, что сам был виноват в их смерти, раз не мог устроить им жизни без гибели. Он понимал, что и другие люди тоже погибли по слабости его рассудка и по вине таких, кто подобен ему. И совесть перед мертвыми давала ему теперь силу для жизни» [5: 111]. Финал рассказа «Сампо» – кульминация в развитии действия, где героя, взыскующего истину, она осенила: он не имеет права «уйти к любимым мертвым, не отработав своей вины для живых». Дальнейшая участь героя предрешена судьбой и совестью: у героя нет в жизни выхода из сердечной боли и вины и нет права на выход из жизни, ибо он должен жизнью и только жизнью «отрабатывать вину». Трагическое как феномен жизни (человек и рок войны) получает в художественной структуре рассказа «Сампо» «как бы двойное бытие»: героическое, художественным кодом которого становится народная эпическая традиция (карело-финский эпос «Калевала») и трагическое, где платоновская эстетика трагического вступает в диалогические отношения с античным искусством, о котором Платонов много размышлял в годы войны. О. М. Фрейденберг выделила в ранней античной трагедии следующие обязательные элементы: «роль вестника, роль словесных экспозиций (описания), роль стандартно чередующихся диалогов между двумя, все время теми же, лицами, наконец, роль хоровых молений» [6: 373]. Из четырех обязательных компонентов ранней античной трагедии у Платонова в рассказе «Сампо» в узнаваемой, типологически соотносимой форме присутствуют два – роль экспозиции (описания) и роль чередующихся диалогов между двумя, все время теми же, лицами – Кирей (Нигарэ) и его жена. Еще один элемент сильно литературно трансформирован: роль вестника у Платонова передана пейзажу. Роль хоровых молений замещена ролью размышления. Произведение завершается катарсисом в древнем, изначальном (предшествующем эстетике и в этом смысле до-аристотелевском) значении: герой рассказа «Сампо» – полностью, всем сердцем (то есть физически и духовно) – «очистился от скверны» зла и принял трагический дар жизни [1, I: 849]. Платонов выделял компенсаторную функцию античного искусства, которое он понимал как «самозащиту» человека от «ужаса» истории: «Несомненно, античное искусство ничего общего не имело с ужасной рабской античной действительностью; античное искусство и появилось как противовес, как самозащита, как своего рода компенсация за адскую действительность…» [4: 237]. Эта запись сделана в «адской действительности» современной истории, в 1942 году, и, очевидно, проецируется на художественный мир Платонова, обозначает личные творческие установки. Диалектика жизни в его военных рассказах часто поворачивается к человеку ее трагической, патетическистрадальческой стороной. Платонов художественно исследует дух и душу человеческую в «роковых» обстоятельствах истории. Герой рассказа «Сампо» не может отменить ужасные реалии войны и смерти ни в общечеловеческом масштабе, ни в частном, личном. Однако не ужас и безысходность, а пафос «возвышенно-патетического страдания» [3, V: 251] звучит в платоновском рассказе. В мире разрушенной гармонии платоновский герой открывает «высокие положительные ценности» жизни (М. Шелер). Героическая правда и трагическая истина – так можно определить двойное ядро художественной философии военной прозы Платонова. Этическая необходимость, в которую был поставлен художник, пишущий «внутри войны», порождала особый механизм взаимоотношений героического и трагического в поэтической структуре и семантике произведений. Можно говорить об определенных закономерностях, которые прослеживаются в отборе материала, его сюжетной организации, форме пафоса: чем ближе место действия в произведении к фронту, к передовой, где «сейчас» (имея в виду художественное время, совпадающее с историческим) идет смертельный поединок с фашизмом, тем сильнее звучит у Платонова героическое начало; чем дальше – в даль и глубь мира, тем жизнь человеческая представлена трагичнее (принцип обратной перспективы). Трагическое начало в прозе Платонова 1941–1946 годов стало жанрообразующим в рассказах «Сампо», «Маленький солдат», «Взыскание погибших», «Седьмой человек», других. Но чаще трагизм, локально означенный в «оговорках» повествователя и/или героя, деталях описания, отдельных образах, мотивах, эпизодах, – через связь с предшествующим творчеством писателя – выступал подоплекой героического. Разные формы взаимодействия героической правды и трагической истины в военных рассказах Платонова прослеживаются на всех уровнях поэтической структуры и не сводятся к взаимоотрицанию, к деструкции. Функционально значимы в художественном мире Платонова их соположение и наложение – и возникающее при этом семантическое напряжение. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Список литературы Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь: в 2 т. – М., 1958. – Т. 1. Кузьменко О. А. Андрей Платонов: призвание и судьба. – Киев, 1991. Лосев А. Трагическое // Философская энцикл.: в 5 т. – М., 1970. – Т. 5. Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. – М., 2000. Платонов А. Одухотворенные люди. Рассказы о войне. – М., 1986. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. – М., 1998.