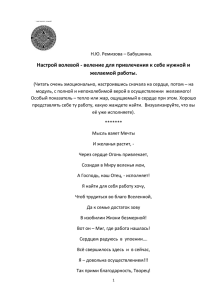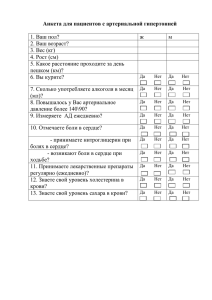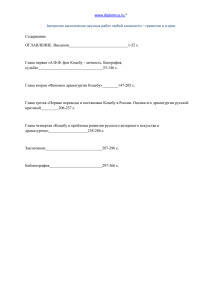Одиннадцатая программа
реклама

Одиннадцатая программа Построение сюжета драмы и эпоcа § 15. Наша благодать в трагедиях Ко пи ро ва ни е бе з ра зр еш ни я за пр е щ ае тс я Окончание предыдущей программы и параграфа представляет собой хорошее начало настоящей. Автор редко вскрывает толстый почтовый пакет, не испытывая страха и сочувствия к самому себе, что опять выпадет трагедия, которая попытается очистить его страх и его сочувствие по Аристотелю [дтп11-01]; и когда автор, наконец, заканчивает вскрывать все без исключения бумажные конверты для грудных детей, то перед ним действительно стоит Мельпомена с кинжалом и этим кинжалом намеревается его очищать. Музу обычно посылает молодой человек. Почему же немец наиболее легко делает то, что по Аристотелю является наиболее трудным? Во-первых, именно поэтому, и при этом оставляет далеко позади себя Эсхила, который только на сороковом году и Еврипида, который только на сорок третьем что-то создали; и, вовторых, потому, что лихорадочная натура принуждает его перепрыгивать от точки кипения к точке замерзания как двух пунктов его жизненного эллипса. Он охотно хотел бы свою взволнованную жизнь и свои, сверх меры работающие, силы показать в одно мгновение, одним поступком, чем-то самым высоким; отсюда его склонность к войне, поединкам, бахвальству и – поэзии. В этих обстоятельствах юноша рассматривает трагедию как собрание од и элегий, просторно вмещающее все те лирические чувства, которыми его переполняет юношеский возраст. Но он верит, что то, что он так живо чувствует в себе, заговорив, само выступит во внешний мир, и там будет говорить так же громко, как в нем. Только это не совсем истинно. Чувству не свойственна форма, так же, как форме - чувство. Поэтому несколько сотен поэтических юношей со своими поэтическими чувствами похожи на трутней, которые, так же как пчелы, собирают мед и сохраняют его в медовых камерах; но, так как они не могут строить восковые соты, то мед переваривают они сами. Еще больше извлекает кинжал Мельпомены из ножен политическое, грозовое время, по небу которого плыли утренняя заря, облака с градом и тучи саранчи, грозовые облака, ливни и радуги, вплоть до вечерней зари надежды, еще находящейся там, хотя и поседевшей. Война, эта трагедия с хорами из целых народов, отражалась как трагедия в душе юноши, она стала кроваво красным стеклом, через которое он рассматривал и срисовывал мир для сцены; и он создал поэтическую Валгаллу, где герои наносили и получали раны, каждый вечер затягивавшиеся – театром. Выше автор дал понять, что он боится распечатывать трагедию, словно вскрывать письмо, стреляющее в него. Потому что ему, в дни его старости, конечно, приятнее была бы оплаченная почтовым сбором комедия, так как старость охотнее ходит на низких каблуках, чем на котурнах. После «сред праха («среда праха» - так (дословно) называют среду на первой неделе великого поста – Пр. перев.)» жизни, полных трагического могильного праха и раскаяния, хотелось бы немного карнавала, но, в юношеской поэзии, иначе, чем в жизни, раньше наступает трагическая «среда праха», чем карнавал. Между тем, молодой человек всегда – это также пусть внесут в счет – лучше начинает поэтическим произведением, требующим строгой формы, чем таким, которое переносит форму самую свободную, лучше трагедией, у которой, подобно статуе Сатурна, связаны не крылья, но ноги, чем романом, который обычно показывает крохотные крылья и обширные надкрылья. § 16. О растроганности Ко пи ро ва ни е бе з ра зр еш ни я за пр е щ ае тс я Растроганность – это только сочувствие при чужой боли. «Но, - говорит проницательный Гербарт, - сострадание ведь само по себе является ничем иным, как удвоением страданий тем, что чужие страдания становятся моими» [дтп11-02], Однако, сострадание бывает только одно, но зато страдания многообразны; и чужая боль в сострадании не принимает образ своей собственной. Разве когда-нибудь забывают, что каждое моральное совершенство и несовершенство другого нами воспринимается с совершенно другим чувством, чем им самим – следовательно, и его боль, так же, как и его радость, - так что любить или ненавидеть, например, можно только другого, не самого себя, но никогда опьяненное, освежающее чувство любви к другому нельзя воспринять как чужую ценность, так же, как отталкивающее чувство ненависти? Таким образом, ведь и чужая душевная боль (ведь каждая телесная становится душевной) также возбуждает совершенно своеобразное, родственное любви, чувство сострадания, в котором смешивается любовь к предмету и представление о его несчастье. Напротив, одно это чувство, без любви, дало бы только ощущение чужого наказания или даже мстительности. Но по отношению к себе, из недостатка любви к себе, человек не может испытывать никакого сострадания и, следовательно, никакой растроганности из-за своих болей – исключая, когда он, в заблуждении и торжестве чувства, удаляется от себя, рассматривает себя как постороннее лицо и как таковое оплакивает. Только о других, не о себе, можно проливать освящающую воду крещения слез, и даже скорбными слезами плачем мы не о себе, но о мертвом любимом, которому фантазия и чувственное настоящее, несмотря на всю веру в его лучшую жизнь, придают жизнь, разрушенную, полную лишений, которая, в конце концов, через усилившуюся из-за его отсутствия любовь, ранит нас еще сильнее. Кстати, сами по себе слезы являются только телесным показателем уровня Нила для выхода какого-либо чувства, каплями росы благодарности, водой раздора [дтп11-03], жертвенной жидкостью радости [дтп11-04] - короче их капли составляют радугу из всех цветов чувств. Ну а как поэт вызывает растроганность, это сострадание к чужой боли, в читателе? Это гораздо труднее, чем полагают; человек охотнее смеется, чем плачет, даже легче становится возвышенным, потому что размеры вселенной насильно навязывают ему возвышенность. Ошибочно понятое правило Горация [дтп11-05]: «Плачь, когда я должен плакать» противоречит другому правилу: «Поэт, не смейся ранее, когда читатель должен смеяться вслед». Из тех плаксивых времен, когда каждое сердце должно было болеть гидроперикардом, у нас есть целые мокрые тома, где Феб, как перед плохой погодой, непрерывно притягивает воду, но нас этим он только тем более сушит. От чего же это зависит? Оттого, что писатель изображает свое сострадание, а не чужое страдание и этим состраданием хочет расписать страдание, вместо того, чтобы сделать это наоборот. Поэтому царство растроганности пролегает в основном над трагической сценой, которая только лишь медленно проявляет несчастье и боль, но сочувствие, которое иначе пытается высказать писатель, предоставляет на усмотрение читателя. Образец самой неудачной растроганности пусть даст мне здесь мастер других изображений, а именно Тюммель. Сумасшедшая в доме умалишенных [дтп11-I], телесно и духовно обладающая высокой организацией, проклинает неверного возлюбленного, чей залог несчастной любви она носит под своим жалобно бьющимся сердцем, но которое, по уверению врачей, в момент разрешения успокоится и остановится - Тюммель хочет сообщить нам растроганность по отношению к этой несчастной следующим состраданием, испытываемым к ней светским человеком: «его сердце сжалось как кровавая губка» (стр. 61) – «ее взгляд встретился с потоком слез из его глаз» (стр. 62) – «тенор ее голоса захватил его до смерти испуганное сердце» (стр. 63) – «сцена с непреодолимой силой охватила его вставшие дыбом волосы и парализовала его члены» (стр. 72) – «угрожало перемолоть его сердце, власть жалости Ко пи ро ва ни е бе з ра зр еш ни я за пр е щ ае тс я неосознанно бросила его на пол, на коленях он умолял Бога о смягчении» (стр. 73) – «его разъеденные глаза уставились перед собой» (стр. 76) – « и тишина, овладевшая его слухом после такого смятения, облегчила его кровоточащее сердце, чтобы бросить его еще более ожесточенным послеродовым схаткам» (стр. 77) – «искал он второй носовой платок, потому что использованный был пропитан слезами» (стр. 88). Подобное преувеличенное сострадание для человека и человека светского своим притворством охлаждает даже те немногие страницы, где боль согрела сердце. О небо! как гроссмейстер и растроганности и настроения, Стерн, умеет вызвать слезы, не примешивая своего голоса, просто тем, что он обнажает покрытые ранами, кровоточащие существа! Историю сумасшедшей Марии, высказывающей свою жалобу пред Пресвятой Девой лишь на флейте, он с полунамеком заставляет рассказывать почтальона; затем он возвращается к ней и ее козе, и, в конце концов, она ему рассказывает – опять на флейте – «такую историю горя, что он встал и неверными шагами, медленно, пошел к своему экипажу» («Тристрам Шенди», том 9, гл. 24) [дтп11-06]. И так, менее поверхностно, но до самой глубины, он настолько волнует сердце, что растроганность, как в истории Марии, даже рядом с шутливыми выражениями существует, даже растет, и вместе со слезами смеха заставляет утекать слезы сострадания. Невысказанное сострадание художника может растрогать, потому что оно является одним и тем же для многообразной боли, которая, подобно индийскому Кришне [дтп11-07], является на Земле в тысячах человеческих обликах и дает созерцанию только абстрактный символ чувства, только слова; но причина сострадания в состоянии провести перед взором чужую боль, расчлененную в следующие один из другого и один за другим образы этой боли. Эта последовательность ран, обосновывающая время и пространство для самой себя, победоносно охватывает наше сердце, без единого вздоха художника, даже предмета, главным образом, на трагической сцене; и муза Шиллера стояла на ней, как крестящий ангел со святой водой из слез, когда Текла [дтп11-08], со спокойно сдержанным жестом, слышала смерть своего любимого под копытами лошадей. Но, конечно, только лишь потеря дара речи художником сама по себе не является жалобой его создания, но, если те древние мастера скрывают и раскрывают невыразимую и безмолвную боль скорбного отца покрывалом на его голове, то ему должны предшествовать, плача, с обнаженной болью, другие оплакивающие, и стенающий взор, следующий за отцом, уже не может больше плакать. § 17. О сентенциях в комедии В плаще Элии, которому Шиллер дает упасть при его вознесении на небо, разделились, как честные люди, нашедшие что-то чужое, трагический и комический поэт, чтобы для своих действующих лиц сжечь богато украшенный золотой бахромой [дтп11-09] сентенций плащ. Потому что сентенции много значат и являются истинными, древними, свисающими изо рта готических фигур, записками. Ни один писатель не богаче сентенциями и общими замечаниями о человеческой природе (Шиллер меньше всего), чем Гете в своей – прозе; и все-таки он не увешивает этими тяжелыми драгоценными камнями своих летающих муз и неодетых граций; - но пусть это будет только между прочим. Сейчас чеканщики сентенций не подражают ни Плавту, ни Аристофану, ни Шекспиру, ни Мольеру, но Коцебу, Мюллнер [дтп11-10], и даже Штайгентеш [дтп11-11] тем более любят шитье сентенций. И все-таки трагедия легче примиряется с общими рассуждениями – потому что великие события сами направляют взгляд и сердце на великое и всеобщее жизни – чем комедия, где размышление может выступить только в качестве сатиры. Так как теперь в сатире общими предложениями, мужчины, например, осуждают женщин, а женщины – мужчин, короче спорящие стороны всегда осуждают друг друга, то вы испытываете муку, будто сатирическими «да» и «нет» вас поверх этих людей бросает во все стороны. § 18. Медленный рост числа комедий ни е бе з ра зр еш ни я за пр е щ ае тс я Ах! было бы только в Германии так же много хороших комедий, как хороших комических актеров и, опять-таки, было бы так же много хороших трагических актеров, как хороших трагедий! Ну а так в комическом случае надо проходить мимо театра из-за пьес, а в трагическом – из-за актеров. Однако всегда остается оперный театр, где музыка заменяет актеров и театр марионеток, где суфлер деревяшек заменяет поэта. Как это происходит? У двух очень серьезных народов есть много и хороших комедий, у испанцев и британцев, и у двух оживленных и веселых, опять-таки, есть много и хороших, у французов и итальянцев; – но у немца нет ничего хорошего в его среднем состоянии душ после смерти. Именно поэтому; его чувство глупости настолько холодно и бесцветно, что он иностранную глупость легко принимает даже как красоту; почему же такому народу должны бросаться в глаза его повседневные, привитые воспитанием, родственные по крови глупости, если даже кровно чужие, непривычные, не кажутся глупыми, но часто кажутся даже достойными подражания? Таким образом, дух немца в приличной штатской одежде направляется к ним и прочно остается в их середине, как урожденный гражданин, даже мелкий горожанин Европы, не сильно смеясь. В новое время к иностранным глупостям мы одалживаем еще и глупцов из-за границы, чтобы у нас, как у монахов, не было бы ничего своего; и нас даже заносит в неподходящую нам, иногда слишком широкую, иногда слишком узкую форму, как, например, Кальдерона или формы французских или римских комедийных поэтов. «Нет ли там Лессинга?» надо восклицать при каждом поднятии занавеса перед комедией; потому что Лессинг - это настоящий немецкий Плавт и даже его юношеские комедии являются более немецкими, чем наши новейшие, рифмованные, а его поздние отрывки – это шедевры. Но, в конце концов, мы придем к тому, что в начале пьесы мы будем восклицать: «Нет ли там Коцебу?» [дтп11-12]. Примечания Жана Пауля. ва [Пр. дтп11-I]. В девятом томе его «Путешествий» Ко пи ро Примечания к одиннадцатой программе дополнительной школы. Ссылки на текст даны по изданию под редакцией Э. Беренда (ПССБ) с указанием тома, страницы и строки, например: ПССБ IV-131, 11, где ПССБ – полное собрание сочинений Жана Пауля Рихтера под редакцией Э. Беренда, том IV, стр. 131, строка 11. Ссылки на текст «Подготовительной школы эстетики» приводятся по настоящему переводу, ссылки на тексты других произведений Жана Пауля приводятся в оригинале с последующим переводом. В отдельных случаях, когда объем ссылок значителен, приведен только их перевод. Указания об имеющихся переводах на русский язык основаны только на доступных источниках и не претендуют на исчерпывающую полноту. [Пр. дтп11-01]. В последние годы жизни Жану Паулю молодые авторы часто присылали свои рукописи трагедия для оценки и совета, например, Ф. Г Ветцелем (1816), В. Мейнхолдом (1820), М. Корнфельдом (1821), Е. Гроссе (1822). [Пр. дтп11-02]. В этом месте Э. Беренд замечает: «Указанное место в работах Гербарта я не обнаружил. Но в его «Учебнике психологии» (1816) на стр. 49 написано: «Прежде всего должно заметить, что при участии в том, что чувствуют другие, чувства удваиваются!». Возможно, что Жан Пауль здесь цитирует по памяти.» [Пр. дтп11-03]. См четвертую книгу Моисея, 20, 13. [Пр. дтп11-04]. В оригинале «Libation» - в древнем Риме принесение напитков в жертву домашним богам . щ ае еш ни я за пр е «Как отвечают улыбкой на смех, так с плачущим плачут Лица людей: если хочешь, чтоб я заплакал, то прежде Сам загорюй; тогда и я разделю твое горе, Телеф или Пелей! а дурно роль ты исполнишь, Или засну или буду смеяться! Речи печали С грустным совместны лицом, с раздраженным речи угрозы Шутки приличны веселому, строгому - важное слово.» (Пер. А. А. Фета) тс я [Пр. дтп11-05]. См. Гораций «Искусство поэзии», V, 102 и далее: ра зр [Пр. дтп11-06]. В оригинале немецкая цитата из «Тристрама Шенди» приводится в переводе И. И. К. Боде. бе з [Пр. дтп11-07]. Кришна – восьмое воплощение индийского бога Вишну на Земле. ни е [Пр. дтп11-08]. См. Ф. Шиллер «Смерть Валленштейна», IV, 10. ва [Пр. дтп11-09]. Э. Беренд указывает, что в оригинальном издании нет слова «бахрома». Оно было добавлено в критическом издании после сравнения с рукописью. Ко пи ро [Пр. дтп11-10]. Прежде, чем после успеха своей пьесы «Долг» (1815) полностью перейти к сочинению роковых трагедий, А. А. Г. Мюллнер написал значительное число популярных комедий. [Пр. дтп11-11]. «Избранные комедии» А. Э фон Штайгентеша были изданы в 1813 году. [Пр. дтп11-12]. Тик в своих «Драматургических листках» (1826), при появлении комедий Клаурена и компании, требовал возвращения когда-то столь презираемых пьес Коцебу и Иффланда.