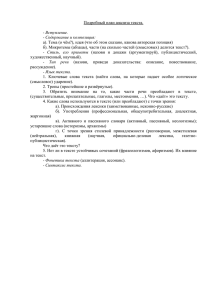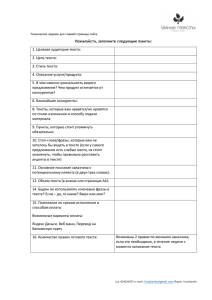45 Е. В. Ермакова ОТ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ МЫШЛЕНИЯ К
реклама
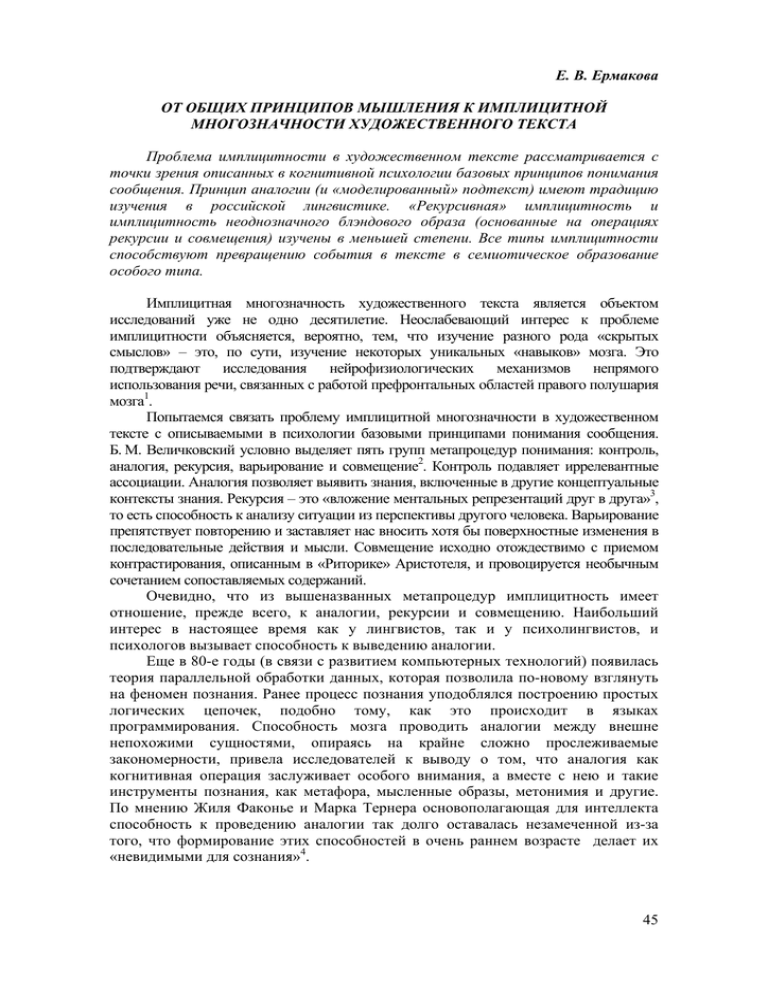
Е. В. Ермакова ОТ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ МЫШЛЕНИЯ К ИМПЛИЦИТНОЙ МНОГОЗНАЧНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА Проблема имплицитности в художественном тексте рассматривается с точки зрения описанных в когнитивной психологии базовых принципов понимания сообщения. Принцип аналогии (и «моделированный» подтекст) имеют традицию изучения в российской лингвистике. «Рекурсивная» имплицитность и имплицитность неоднозначного блэндового образа (основанные на операциях рекурсии и совмещения) изучены в меньшей степени. Все типы имплицитности способствуют превращению события в тексте в семиотическое образование особого типа. Имплицитная многозначность художественного текста является объектом исследований уже не одно десятилетие. Неослабевающий интерес к проблеме имплицитности объясняется, вероятно, тем, что изучение разного рода «скрытых смыслов» – это, по сути, изучение некоторых уникальных «навыков» мозга. Это подтверждают исследования нейрофизиологических механизмов непрямого использования речи, связанных с работой префронтальных областей правого полушария мозга1. Попытаемся связать проблему имплицитной многозначности в художественном тексте с описываемыми в психологии базовыми принципами понимания сообщения. Б. М. Величковский условно выделяет пять групп метапроцедур понимания: контроль, аналогия, рекурсия, варьирование и совмещение2. Контроль подавляет иррелевантные ассоциации. Аналогия позволяет выявить знания, включенные в другие концептуальные контексты знания. Рекурсия – это «вложение ментальных репрезентаций друг в друга»3, то есть способность к анализу ситуации из перспективы другого человека. Варьирование препятствует повторению и заставляет нас вносить хотя бы поверхностные изменения в последовательные действия и мысли. Совмещение исходно отождествимо с приемом контрастирования, описанным в «Риторике» Аристотеля, и провоцируется необычным сочетанием сопоставляемых содержаний. Очевидно, что из вышеназванных метапроцедур имплицитность имеет отношение, прежде всего, к аналогии, рекурсии и совмещению. Наибольший интерес в настоящее время как у лингвистов, так и у психолингвистов, и психологов вызывает способность к выведению аналогии. Еще в 80-е годы (в связи с развитием компьютерных технологий) появилась теория параллельной обработки данных, которая позволила по-новому взглянуть на феномен познания. Ранее процесс познания уподоблялся построению простых логических цепочек, подобно тому, как это происходит в языках программирования. Способность мозга проводить аналогии между внешне непохожими сущностями, опираясь на крайне сложно прослеживаемые закономерности, привела исследователей к выводу о том, что аналогия как когнитивная операция заслуживает особого внимания, а вместе с нею и такие инструменты познания, как метафора, мысленные образы, метонимия и другие. По мнению Жиля Факонье и Марка Тернера основополагающая для интеллекта способность к проведению аналогии так долго оставалась незамеченной из-за того, что формирование этих способностей в очень раннем возрасте делает их «невидимыми для сознания»4. 45 В отечественном языкознании традиционно пользуются таким понятием, как «модель», «моделирование», подразумевая ту же систему сложно формируемых связей: «Относительная простота манипулирования идеальными моделями объясняется тем, что они состоят из концептов, с которыми легче оперировать, чем с объектами и процессами действительности»5. К определению принципа аналогии близко описание механизма создания моделированного подтекста в художественном тексте, которое дает М. В. Никитин: «Существенные особенности этого рода подтекста состоят в том, что в нем возникает параллельный имплицитный смысл, содержание и структура которого смоделированы эксплицитным смыслом текста. Эксплицитный и имплицитный смыслы в этом случае находятся в отношении моделирования»6. «Моделирование», при котором высказывание начинает «переходить в иную семантическую плоскость»7 и выступать как знак другого явления, может быть нескольких типов. Первый тип связан с проведением аналогии между событием, описываемым в тексте, и референтной ситуацией. Оценки, применяемые к референтной ситуации, переносятся на событие, описываемое в тексте. В качестве примера приведем рассказ Дж. Д. Сэллинджера «Такие губы и глаза зеленые». Рассказ строится вокруг разговора по телефону между двумя коллегами. Один из коллег, Артур, разыскивает свою жену, которая опаздывает домой. Его собеседник, Ли, скрывает от него правду (жена Артура, любовница Ли, находится у Ли дома), он успокаивает Артура и советует ему спокойно дожидаться возвращения жены. Через некоторое время в квартире Ли раздается второй звонок, и Артур сообщает, что его жена вернулась. Пораженный этим сообщением (это очевидная для Ли ложь, так как жена Артура все еще находится у него дома), Ли отказывается отвечать на вопрос девушки, кто звонил. Отсутствие каких-либо авторских комментариев, очевидная неосведомленность главного действующего лица (пресуппозитивная осведомленность читателя и персонажа приблизительно равны) делает данную ситуацию «проблемной», требующей особого интеллектуального усилия для ее истолкования. Сообщение лжи (нарушение речевой максимы правдивости П. Грайса ) заставляет читателя выдвигать гипотезы относительно того, почему эта ложь произносится (обычно лгут, потому что правду говорить стыдно, лгут с целью манипулирования собеседником и т. д.). Значимые детали в тексте могут как подтвердить, так и опровергнуть гипотезу. Возможно, что окончательной интерпретации у читателя и вовсе не возникнет (перед читателем не математическая задача; ощущение неоднозначности ситуации не приведет к конфликту). Итак, проблемная ситуация в тексте вызывает необходимость извлечения релевантных знаний из памяти. Проецирование их на образ события, описываемого в тексте, превращает такое событие в семиотическое образование особого типа. Это семиотическое образование имеет несколько «сторон». Оно включает в себя, во-первых, неоднозначный образ описываемой в тексте ситуации; во-вторых, образ релевантной референтной ситуации, извлекаемой из памяти. И, затем, у данного семиотического образования появляется еще и «знаковая» сторона – текстовое событие начинает выступать как сложный «знакпризнак» того коммуникативного акта, в результате которого оно возникло»8. Способность события, описываемого в тексте, выступать как знак другого события подразумевает способность к изменению и обогащению содержания в контексте общения «автор – читатель», то есть того акта общения, иллокутивная сила которого определяет художественный дискурс в целом. Для рассказа 46 Сэлинджера такое обогащение содержания ситуации происходит в контексте желания автора воссоздать в рассказе «поэтическое настроение отвращения»9. В представленной схеме место коммуникативно-бытовой релевантной ситуации как области-источника может занять событие из исторического прошлого или настоящего. Яркий пример исторической аллюзии, создающей второй план, приводит М. В. Никитин: «…в подтексте басни И. А. Крылова «Волк на псарне» – вторжение Наполеона в Россию, события и персонажи в ней метафорически моделируют Отечественную войну русского народа в 1812 году. Известно, что, когда басню читали М. И. Кутузову, при словах «Ты сер, а я, приятель, сед!» он снял свой картуз и потряс седой головой»10. Мыслительная операция «рекурсия» связана, вероятно, с развившейся в процессе эволюции способностью человека к эмпатии и объясняет появление текстов с имплицитной многозначностью, которая формируется, когда возникает «рассогласование» между разными точками зрения в художественном повествовании или когда «рассогласование» (например, между точкой зрения героя и между читателем) генерируется текстом. Этот прием получил особое распространение в литературе ХХ века. Данного рода имплицитность производна от способности читателя замечать неочевидные противоречия. Она чаще всего встречается в рассказах от первого лица, в которых рассказчик субъективен в силу каких-либо причин (он может быть ребенком, подростком, человеком с психическими отклонениями, глупцом, лжецом, эгоистом и т. д.). Для того, чтобы сформировать объективное суждение, читателю приходится ставить себя в позицию несогласия с персонажем-рассказчиком. Например, в рассказе Синтии Рич «Замужество моей сестры» встречаем такое описание: «Когда я была маленькой девочкой, я написала одну вещь на клочке бумаги, незначительную вещь, но для меня важную, потому что она была личной. Отец вошел в комнату и увидел, как я кладу на нее сверху промокашку, и захотел, чтобы я ее ему показала. Но я быстро так говорю, «Нет, это мое, это я для себя написала, не хочу, чтобы кто-то видел», а он сказал, что хочет посмотреть. <...> Я слышала его голос, он все говорил и говорил, и он говорил, что я совсем в него не верю и что нехорошо прятать от него вещи, а я сказала, что важного в этой бумажке ничего нет, просто глупость, ну а если глупость, он говорит, почему я не даю ему прочитать, раз он от этого такой несчастный? И я плакала, и плакала, потому что это ведь был просто клочок бумаги, зачем он ему вообще был нужен, но он был очень настойчивым и сказал, что если ты маленькие вещи прячешь, то тогда ты и большие вещи начнешь прятать, и расстояние между нами будет расти. Я отдала ему бумажку. Он прочитал и ничего не сказал, сказал только, что я хорошая девочка, и что он не понимает, из-за чего было ссориться. Конечно, сейчас я понимаю, что это был самый обычный интерес, и не надо мне было так сопротивляться»11. Критическое восприятие конфликта между отцом и дочерью требует оценки с позиций норм (в том числе и речевых) поведения в обществе и семье (в данном случае уместно вспомнить постулат ненарушения личного пространства Дж. Лакоффа – «Don't impose»). Внимательный читатель, кроме того, заметит, что точка зрения рассказчицы – взрослого человека и точка зрения «образа рассказчицы – ребенка» не совпадают. Взрослая рассказчица поневоле «вживается» в свое «несчастное и возмущенное детское» состояние. В речи это подчеркивается лексическими повторами, «сбивчивым» пересказом прямой речи. Взрослая рассказчица полностью согласна с отцом («не надо было мне так сопротивляться»). «Перерождение» героини из обычной девочки в деспотическое 47 подобие отца – одна из главных «подспудных» тем повести. В конце повести рассказчица сжигает письма своей сестры, которые прячет отец. На образ события, описываемого в тексте, накладывается представление читателя о «нормальном» поведении (оно сопоставляется с «не вполне нормальным», описанным в тексте); точка зрения рассказчицы-ребенка сопоставляется с точками зрения взрослой рассказчицы и отца. Кроме того, все эти точки зрения сосуществуют в событийной перспективе текста. Подобная «рекурсивная» многоплановость – важнейший источник имплицитности в художественном тексте. Мыслительная операция «совмещение» дает основание говорить о таком типе имплицитности, которая связана не с текстовыми событиями, имеющими некоторые пространственно-временные характеристики, а с неоднозначными «блэндовыми» образами, встречающимися в литературе достаточно часто и несущими большой «подтекстовый» потенциал. Так, Дж. Факонье и М. Тернер12 описывают образ Сатаны в «Потерянном рае» Мильтона как «блэнд», в котором совмещаются, но не сливаются два плана: антропоморфный и теологический. Подобно человеку, Сатана имеет «семью»: «из головы» он рождает Грех (красивую молодую женщину), соблазняет ее, и Грех рождает сына Смерть. «Теологическое пространство» косвенно представлено через образ «рождения из головы» (Сатана рождает Грех «из головы», подобно Зевсу, родившему Афину таким же способом) и через образ Святой Троицы (Бог-отец, Христос, святой дух, символизирующий жизнь), который возникает как второй план (при этом эксплицитно он нигде в тексте не представлен), естественным образом противопоставленный первому – Троице Инфернальной (Сатана-отец, Грех, Смерть). Итак, как аналогия, так и рекурсия, и совмещение предполагают работу с некоторыми сложным образом соотносимыми друг с другом ментальными объектами, лишь частично эксплицированными в тексте. Исследование имплицитной многозначности художественного текста, развившейся как особый метод психологического и интеллектуального взаимодействия с читателем невозможно без понимания основных механизмов работы человеческого интеллекта в области восприятия и понимания информации. Примечания 1 Parker, Frank. The Neurology of Language/ Frank Parker and Katherin Riley // Linguistics for Non-Linguists. Longwood Division: Allyn and Bacon, 1994. – P. 271– 296; Shammi, P. Humor Appreciation : A Role of Right Frontal Lobe / P. Shammi, D. T. Stuss // Brain, 1999. – № 122. – P. 657–666. 2 См.: Величковский, Б. М. Когнитивная наука / Б. М. Величковский. – М. : Academia, 2006. – С. 200. 3 Там же. С. 201. 4 См.: Fauconnier, Gilles. The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities / Gilles Fauconnier and Mark Turner. – New York : Basic Books, 2002. – P. 18. 5 Каменская, О. Л. Текст и коммуникация / О. Л. Каменская. – М. : Высш. шк., 1990. 6 Никитин, М. В. Основы лингвистической теории значения / М. В. Никитин. – М., 1988. – С. 164. 7 Долинин, К. А. Имплицитное содержание высказывания / К. А. Долинин // Вопр. языкознания. – 1983. – № 6. – С. 37 – 47. 8 Там же. С. 40. 48 9 Никитин, М. В. Основы лингвистической теории... С. 154. Галинская, И. Л. Загадки известных книг / И. Л. Галинская. – М., 1986. 11 Rich, C. My Sister's Marriage / C. Rich // Points of View. – N.Y., 1966. – P. 189. Перевод наш. – Е. В. Ермакова. 12 Fauconnier, Gilles. The Way We Think… С. 160–162. 10 49