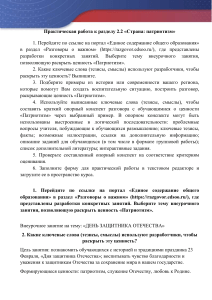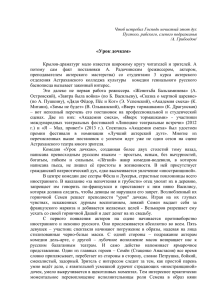Щоб 41-й став тільки історією
реклама

Щоб 41-й став тільки історією ... ПОРТРЕТ Этот рассказ — один из многих, вошедших в сборник «Трава по пояс» Ларисы Ратич, учительницы русского языка, талантливой писательницы и нашего постоянного автора. Рассказ о войне, какой довелось ее увидеть Кузьминой Фёкле Михайловне... À ккуратная могила на старом деревенском кладбище, крест в головах... Простая табличка с двумя датами, между ними — жизнь. Жизнь моей бабушки, русской крестьянки. Я её знала? Неужели знала? Разве то, что я помню о ней, означает «знать»?.. Труженица с узловатыми руками, не разгибавшая спины с тех пор, как себя помнила. Только здесь ты лежишь спокойно, только здесь — «вечный покой». Вечная память. Пусть не вечная — но хотя бы моя. Прими, родная, мои слёзы... 42-й год. Деревня занята немцами. В каждом доме их — где два–три, а где и пять. Соседнюю деревню недавно сожгли вместе с жителями, называлась она Красуха. Нет Красухи! Страшно жить! Страшно, когда встаёт солнце, страшно, когда оно садится. Жизнь идёт, берёт своё, хозяйка поднимается утром к печке и начинает возиться — не только для своих детей... Сейчас «бусурманы» встанут: «Давай, матка, кушать!» Один — здоровый такой, морда, как у поросёнка, всё посмеивается, когда ест. Залопочет-залопочет всякий раз, как еду увидит, потом «гут» прохрюкает, а ест — ну точно боров Васька, даже уши так же трясутся! Второй — Отто. «Я, — говорит, — матка, тебя жалею». Да и вправду жалостливый такой, вроде соседа Родиона, добрая душа, хоть и немецкая. Только стесняется он, чтоб тот боров не шибко видел его, Оттову, жалость, всё норовит втихаря помочь. 28 Недавно стал Отто картошку хозяйке чистить, да вдруг как заплачет, завсхлипывает! Фёкла растерялась: «Чего ты?..» А он и говорит: «Дома у меня тоже киндер. Пять киндер». Ох, война, кому её надо?! А третьего дня приказ вышел. Ну, зачитали всем, кого согнали. Дескать, иметь в каждой избе портрет фюрера! И портреты по списку каждой хозяйке роздали. Все расписались, чтоб потом не отпереться, что, мол, не получала эту морду в подарок. Велят в русской избе, где иконы в углу, на стенку прилепить! Дали эту гадость и Фёкле. Ну, делать нечего. А то ведь и расстрелять могут, этим — недолго. Особенно стала их бояться после одного случая, когда в соседней избе (бабы потом рассказывали, оглядываясь) немец Ганс за столом — прости, Господи, — тот воздух, что только в нужнике и можно из нутра выпускать, выдул в кухне. Да с натугой так, радостно. А Маруся, девчонка соседская, возьми, бедная, да и рассмейся. Вот её на косе длинной русой и повесили за избой в огороде. Так не то что возьмёшь портрет с фюрером ихним, а ещё и второй попросишь, чтобы с каждой стороны у того обзор был! Повесила Фёкла Гитлера над комодом, да и забыла про этого дурака косого. Дней пять, что ли, прошло, прибирала она на комоде, салфетки перетряхивала, Щоб 41-й став тільки історією ... что ещё до войны вышила,— глядь: портрета и нету! Вот висел вроде вчера, а сегодня — нету. Так Фёкла и обмерла. А ну как немцы заметят?! Кинулась комод двигать, а он тяжеленный, дубовый. Но нету за ним ничего, только паутина да пыль. Тут вспомнила она, что вчера сынишка, Валька трёхлетний, стул к комоду придвигал, забирался зачем-то. Она тесто ставила, глянула одним глазом: играет мальчонка, ну и ладно! На ватных ногах засеменила Фёкла к Валькиным деревяшкам да тряпочкам, которые он игрушками называет. Валька и сейчас сидел, играл, — привык сам возиться, обходился без нянек: Фёкла целый день в работе, старшего брата, четырнадцати лет, немцы в трудовой лагерь ещё в начале войны угнали, две сестры старших — десяти и пяти лет — делами занимаются, некогда с Валькой возиться. И режет Валька большими мамкиными ножницами новую бумажку плотную, что вчера над комодом добыл. Села Фёкла рядом, руки большие задрожали, кусочки схватила — нет, не склеишь... — Валюшка, сыночек,— лепечет, — что ж ты наделал?.. А у самой, кажется, волосы на голове зашевелились. ...Еле-еле ночи дождалась, чтоб все улеглись да заснули, немцы тоже. Накинула платок потемнее, в корзинку побросала что могла: завтра немцы скажут «матка, кушать!» — много не отнесёшь. Вспомнила о припасённой браге, быстро и проворно налила бутылку, бутылку в корзину — и бегом, через огороды, к старосте. Господи, помоги! Может, вспомнит староста, что он Фёкле сродственник, пусть и дальний. Постучала тихонько в окно. Услышала возню, потом недовольный старостин голос: «Кого там ещё чёрт принёс?!» Но вышел всё-таки. Кинулась Фёкла в ноги, обсказала беду свою страшную. Староста рассердился: «Что, не могла до утра подождать?!» Однако магарыч взял и вынес другой портрет — имел запас. ...Много-много лет, до самой смерти, помнила Фёкла: испытала тогда такую радость, что готова была плясать на улице посредь ночи!.. Так и спаслась. Долго тот проклятый портрет в избе висел, но уже высоконько — не достать Вальке, а девчонки не тронут, не изрежут. Сказала им Фёкла, что за это — расстрел, а они знают, что оно такое. Жить хотят!.. Воспоминания об Адольфе …Он тоже лепетал, тянул ручонки: «Мама!» И точно так ходил пешком под стол… Ученые умы и все на свете страны Не ведали, не думали о нем. Он рос неспешно. Он сидеть учился. Он начал ползать. Лез молочный зуб… Потом он первым словом отличился И был, как все мальчишки, нежно-груб. Он рисовал и, может, был талантом, Не знал еще, что станет адом века… Когда, когда замашки коменданта Убили в нем приметы человека?! …Ну кто ж тебя так, мальчик, обездолил, На лоб поставил Каина печать, Что ты приказал-позволил Себя Живущим Богом величать? Ты миллионы «Я» развеял прахом, И стлался по Европе сладкий дым… Каким же самым страшным в мире страхом Ты был взращен, взлелеян и любим? И ты ушел туда, где все мы будем, За все грехи отплату принимать, Чтобы веками проклинали люди Тебя родившую когда-то в муках мать… Лариса Ратич, с. Мішково-Погорілове, Миколаївсбка обл. 29