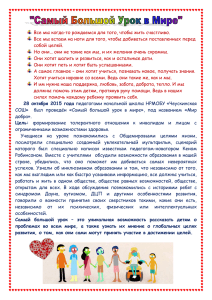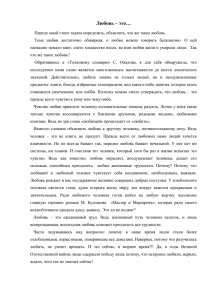ЮНОСТЬ В качестве предисловия Мы выходим через все
реклама

Ñòðà íà , êîòîðó þ ì û ïîòå ðÿëè ÞÍÎÑÒÜ В качестве предисловия Мы выходим через все, предупредительно распахнутые перед нами двери, сразу заполняя собою весь проход. Вдогонку нам еще несется рокот утихающего стадиона и родившийся где-то в глубине сцены последней случайный электроорганный звук. Нас встречают на улице выставленные заранее цепочки железных заграждений и построенные в шпалеры наряды постовых. Многотысячной толпой мы обтекаем углы и парапеты, заполняем собою площадь, шутя и беззлобно тычем руками в морды поставленных к нам грудью лошадей конной милиции. Нас делят на три потока, чтобы легче было сесть на автобусы и спуститься с двух тоннелей в метро. Все двери станции работают только на вход, и бесконечным потоком мы спускаемся по эскалаторам вниз и уже там расходился кому на «кольцо», а кому по «радиальной». И в поезде мы еще узнаем друг друга по одинаковому выражению глаз и продолжаем хранить эту связывающую нас общность. Но вот на «Тургеневской» переход, и мы опять делимся, а там дальше еще и еще, с грустью замечая, как нас становится все меньше и меньше, как распадается наше многотысячное многоликое единство, и мы смешиваемся с миллионом посторонних людей и, вновь становясь одинокими, растворяемся в этой сутолоке неприятных сейчас нам лиц... Бастурма. Как сейчас помню: дешевое кафе и недорогая бастурма. Сбежать с лекций и назаказывать себе вина. «Белое-крепкое», «Три семерки» — тогда такие были портвейны. Да что там, хоть одного пива десятка два бутылок. И — бастурма... Окна все замерзли, на стеклах иней, сквозь него на улице ничего и не разглядеть. А тут мы в тепле. Как это было божественно!.. От зачетов, от курсовых, от теоретической механики, истории, философии, политической экономии — в мир ощущений, в мир чувств… 3 Ñíåæèíà Àíàñòàñèÿ – Как я люблю этот первый кайф… — любил повторять всегда Славка… Как мы любили все друг друга тогда… Их было четверо. Один даже очень хорошенький, второй слегка уступающий ему внешне, двое же остальных совершенно обыкновенных. Они выходили на сцену, и по залу прокатывался нетерпеливый рев. Мы их слушали по радио. Мы их не могли видеть. Мы их воспринимали через магнитофонные пленки, пластинки, и — только. Но, тем не менее, мы были полны ими. Мы знали наизусть все их мелодии, помнили все их концерты, понимали все их английские тексты. Мы только нажимали кнопку: «Ми-шел. Ма бел…» И плакали. Да я и сейчас плачу. Такая это была музыка! В отличие от всех этих поздних современных течений. Она делала нас равными. Она создавала эпоху… «Ми-шел…» — и уже неважно, что существуют какие-то суперзвезды и какой-то недосягаемый, избранный, запредельный звездный мир. Я равен или я равна всем. Я ощущаю себя наравне с самыми талантливыми, несмотря на то, что я просто-напросто никчемный оболтус, не наделенный никакими выдающимися способностями, обыкновенный прыщавый парняга, не Делон и не Бельмондо. Их музыка была сверхдемократична. Она уничтожала в нас все посторонние чувства, препятствия и разграничения, оставляя только любовь. Это было знамя той эпохи, под которое мы собирались все. Мы хотели, чтобы все было общим, все были равны, и все свободны. И свобода наша тоже должна была быть общей, одна на всех, как общей мы хотели сделать любовь. На этой волне возникли все молодежные течения тех лет. Студенческие волнения, баррикады, демонстрации, забастовки. Время было такое, что вера в гармонию и высокий смысл свободы пронизывала каждого, невзирая на страны, континенты и языки, мы были солидарны везде, мы были всюду, и борьба наша начиналась со студенческих 4 Ñòðà íà , êîòîðó þ ì û ïîòå ðÿëè аудиторий. Мы сполна хлебнули репрессий потом, десятилетием позже. Особенно у себя дома. У себя дома потом было тяжелее всего. Но, начав с вызова любой власти, мы остались своей идее верны. И пусть позже во всем мире власти нашли способ расправиться с идеалом, извратить идею, убедить людей в неизбежности их, властей, существования, посеять в душах уныние, сомнение, бессилие и нигилизм. Сумели заставить пасть перед вечной махиной ритуала, заронить в сознание людей ощущение обреченности и отчуждения, похоронив весь их молодежный запал. Смогли даже музыку сменить, отправив ту, объединяющую, в далекое прошлое… Но, что бы там ни думалось теперь, то, прежнее, наше, все-таки было! Были наши упорство и наша святая борьба! И — вера. Хотелось бы думать, что к чему-то подобному зовет новых молодых этот их теперешний хард-рок... Эпоха кончилась, началось время мрака, отчаяния и тупика. Когда вместе с идеями и идеалами были растоптаны и достоинства людей, да и сами люди. И только иногда теперь мы вспоминаем музыку. Музыка — это единственное, что осталось, сохранилось оттуда — и снова плачем, сраженные, отчужденные, погрязшие в мелочности теперешних своих дел и забот. Плачем от неосуществленности своих надежд, от утраты идей и веры. И от вечной и неизменной силы настоящего искусства. «Yesterday…» — и снова вся юность перед глазами, с ее страстностью и преизбытком любви. И чистотой побуждений. «Ит’c э хард дэй’с найт...» — и снова я верю, и снова мне легко... Игорь сидел на подоконнике и громко пел что-то из Высоцкого. Никто его не слушал, да он и пел-то для себя, как и я для себя скрипел петлями двери, навалившись спиной на филенку. Сашка читал газету, Борис, бросив куртку в угол, сидел около пианино у стены и, неподвижно глядя перед собой, перебирал клавиши пальцами… Музыка делала нас равными. Ты нажимаешь только кнопку, и все: ты — как все. Музыка пьянит тебя, все твои 5 Ñíåæèíà Àíàñòàñèÿ дела начинают казаться несущественными, становится невозможным усидеть на месте и — ты срываешься и летишь к друзьям, чтобы говорить с ними о любви, о книгах, об охоте, о путешествиях, о предстоящем. Мы выкуривали сигарету за сигаретой и рассуждали о будущих годах, о воздушных полетах, о поездках в горы, о новых открытиях и новой жизни... Любви хотят все. Хотят любить и быть любимыми. Хотят любви молодые и старики, дети, глупые, умные, мудрецы, уроды, хотят любви еще не знающие чего, собственно, хотят, и уже подозревающие за этим понятием что-то, хотят умудренные богатым опытом «философы», хотят любви люди, так и не понявшие ее смысла, хотят циники, расписавшие в ней все по пунктам, уставшие от нее ловеласы, иронизирующие на ее счет, презирающие ее утомленные распутники, хотят даже те, кто говорит «о, как опостылела мне эта вторая половина человечества!». Хотят любить преступники, пропойцы, брюзги, скряги, хулиганы, гомосексуалисты, импотенты, а в минуты одиночества и грусти хотят любви даже те, которые любить не могут. Ленька Просеков любить не мог. Перед красивыми девушками он робел, некрасивые в нем вызывали нечто вроде братской солидарности, а лишь только симпатичные не устраивали его из-за несоответствия их его высокому внутреннему идеалу. И поэтому он был обречен на одиночество навечно… Но зато Ленька любил охоту… Сбить большого, широкогрудого косача влет, чтобы он замертво, тряпкой упал на землю, оборвать полет со свистом проносящейся мимо утки и видеть, как она кубарем падает и шлепается об воду. Достать выстрелом меж кустов в длинном прыжке зайца, чтобы тот, обвиснув еще в воздухе, упал уже мертвым, чувствовать ружье как часть себя, отдача в плечо и тяжесть цевья на ладони, видеть цель меж стволов над планкой и слышать резкий звук выстрела и физически ощущать направление полета дроби и удар в крылья и грудь, и сразу затем — второй выстрел, и опять щелчки дробин о перья и выбитый из тела и кружащийся в воздухе пух… 6 Ñòðà íà , êîòîðó þ ì û ïîòå ðÿëè Юность – Здесь. – Там люди... – Не обращай на них внимания. – Ну, как же мы тут будем? У стены, на асфальте… – Я повернусь к тебе попкой. Я так уже делала позавчера… Хотя, нет, я хочу тебя целовать… Вас было много у меня в это лето. Я не пользуюсь никакими средствами. Я рожу ребенка. Вы потом приходите посмотреть, на кого он из вас будет похож… У меня даже ноздри раздулись от их запаха. Как прежде. От запаха пота их горячих, совсем еще подростковых тел. Угар музыки, танцующие перед своими креслами фигуры, руки, что есть силы крутящие над головами шарфы, их исступление и истерический визг. И запах, жаркий, еще не устоявшийся, по-девичьи резкий, потный запах, пополам с дешевыми и плохо подобранными духами. Один этот запах, когда, как прежде, снова и снова готов был целовать им подмышки и, как тогда и бывало, снова с головой окунаться в жар и омут молодости, тела и любви... 7