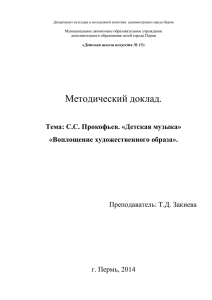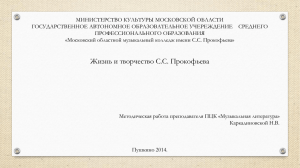Сергей Прокофьев – «человек
реклама

Анна Проскурня СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ – «ЧЕЛОВЕК-СКЕРЦО» Проблема претворения комического в музыке на протяжении лет не утрачивает своей актуальности. В исследованиях М. Бонфельда [2], Б. Бородина [3], Т. Малышевой [6], Е. Назайкинского [8], О. Соломоновой [16] и пр. анализируются игровая специфика музыкального материала, смеховой мир русских композиторов, пародия и гротеск и т. д. Одним из наиболее необходимых интонационных средств достижения комического эффекта является скерцо (ит. «шутка») – многоуровневый феномен, способный проявляться в качестве самостоятельного жанра, части цикла, образно-стилевой сферы или даже определения образных черт эпохи. Понятия «скерцо» и «скерцозность» могут применяться также в целях характеристики внутреннего облика творца, его мировоззрения и стиля жизни. В XVIII и XIX веках выделяется целый ряд композиторов, которых, используя метафорическое выражение О. Соломоновой, можно охарактеризовать «человеком-скерцо». Среди таковых – М. Мусоргский, который, согласно автохарактеристике, часто пребывал в «скерцозном настроении» и заслужил от сестер Пургольд прозвище «Юмор»; А. Бородин, прославившийся своей самоиронией, шутками и шаржами; С. Танеев, именованный Ехидоном Невыносимым-Ядовитым и другие19. В XX столетии к фигурам такого рода можно смело отнести Сергея Прокофьева. Конечно, скерцо как явление, прежде всего, ассоциируется с витально-смеховым, жизнерадостным началом, что является доминирующим фактором в мировоззрении композитора. Однако Прокофьев сумел сохранить «скерцозное» отношение к действительности и в сложные периоды, когда юмористическое видение мира отходит на второй план. Цель исследования: выделить несколько факторов, позволяющих именовать Прокофьева «человеком-скерцо» вследствие преобладания игрового компонента на всех уровнях жизнетворчества. Несомненно, одним из органичных свойств скерцозности является игра (вспомним так называемые «игровые фигуры» Е. Назайкинского, усиливающие скерцозные свойства музыкального текста [8]). Черты классического скерцо как шутки характеризуют весь облик Прокофьева, стиль же его отличается, в том числе, легкостью, лукавством, полетностью и заостренным шаржем – всем тем, что органично составляет скерцозное 19 О различных формах проявления смехового мировосприятия этих композиторов см. в монографии О. Соломоновой «И когда смеется лицо – вместе с ним не веселится ум» [16]. начало. Скерцозное и игровое – доминанты креативной сущности Прокофьева – неслучайно отмечаются в высказывании Б. Асафьева: «Фантазия композитора – беспредельна, легкость письма изумляет: вы не слышите ничего вымученного, бесплотного, а наоборот, остается впечатление – будто автор шутит, играет [курсив мой. – А. П.] с витающими в его душе звуковыми образами» [13, с. 154]. Отсюда – преобладание светлых и жизнерадостных скерцо в творчестве, желание повернуть драматургическое развитие в игровую сферу. Отметим еще одно высказывание Б. Асафьева о Втором концерте Прокофьева для фортепиано с оркестром: «Скерцо, кстати сказать, более всего затасканная русскими композиторами форма, доказывает, что может сделать талант там, где, казалось бы, ничего уже нельзя дать нового: оно остроумно, дышит лукавой игривостью и в то же время очень пленяет своим искренним весельем, идущим от души композитора, а не рисующим чужую радость» [13, с. 156]. Склонность к лицедейству и розыгрышам, смене масок и «переодеванию» наполняла все жизнетворчество Прокофьева, часто действующего «sub specie ludi» («с точки зрения игры» — Й. Хейзинга). Стремление уйти от академических канонов и тяга к экспериментам вынуждали творца поиграть в самые разные стили и жанры, почувствовать разнообразные, часто парадоксально противоположные настроения. В творчестве Прокофьева сосуществуют тонкая лирика, добродушная ирония, детская наивность, экспрессивность, карикатура и насмешливость. Все эти образные грани, объясняющиеся амбивалентностью внутреннего облика, как нельзя лучше проявляются в скерцозных опусах, ведь композитор всегда испытывал особую предрасположенность и некую «тягу» к жанру скерцо. Достаточно вспомнить «Собачки» для фортепиано, «Любовь к трем апельсинам», метафорически названную Гиви Орджоникидзе «оперой-скерцо» или «Классическую симфонию», которую также можно именовать «симфонией-скерцо» в связи с парадоксальностью замысла — подшучиванием над нормами классического стиля. В кругу близких и друзей Прокофьев с самого детства выполнял функцию заводилы, превращал происходящее в игру. Он сохранил на всю жизнь скерцозно-игровое мировосприятие и склонность к мальчишеским проделкам, относясь с чувством юмора ко всему, что его окружало. К примеру, ему ничего не стоило на официальном обеде весело перекидываться через стол салфетками, изображать якобы отросший «хвост» перед школьниками или устраивать «куриные кроссы» для дачных кур и петухов. П. Кончаловский вспоминал: «Сколько задора, озорства и свежести было в этом гениальном человеке! <…> После рабочего дня Сергей Сергеевич любил отдохнуть и развлечься какой-нибудь игрой. Его любимой игрой была – морской бой. Надо было видеть, как по-детски он отдавался игре, как торжествовал, когда выигрывал!» [13, с. 20]. Сам композитор не раз писал о своих юношеских шалостях, вспоминая, к примеру, годы обучения в Петербургской консерватории: «Толщина Глазунова поразила мое воображение. Я засунул большую подушку под пальто и так пошел в лавку. За спиной я услыхал: “Посмотрите, бедный мальчик – лицо худенькое, а сам такой болезненно толстый” – и, захлебываясь от восторга, вернулся домой» [10, с. 172]. Скерцозным видением мира обусловлена активная деятельность, потребность в быстром темпе жизни, что подтверждает кредо композитора: «Я не люблю пребывать в состоянии, я люблю быть в движении» [13, с. 213]. С «вечно живой, обжигающей, упруго-могучей силой вихря» сравнивал его Н. Мясковский [14, с. 294]. Из «Дневников» композитора известно о плотно насыщенном графике, стиль же письма отражает энергичный напор и радостное желание окунуться в большое количество дел [11; 12]. Поэтому большинство скерцозных циклов пьес, концертов, симфонических произведений или опер насыщены неуемным движением, внутренним током. Соответственно, это не могло не повлиять на его исполнительское творчество: фортепианную игру Прокофьева характеризуют заводная энергия, сила удара; в произнесении штрихов соединяются моторная токкатность и обостренная скерцозность. О комической доминанте его исполнительства метко высказался Ю. Анненков: «Изобретательный остряк и шутник Прокофьев, высокий, худой, с рыжими и плоскими волосами, с галстуком-бабочкой, забрасывал нас анекдотами и каламбурами, вызывающими гомерический смех. Порой, когда Прокофьев садился у рояля, эти остроты превращались в музыкальное балагурство: способность Прокофьева придавать звукам комический характер была исключительной и, может быть, единственной в своем роде» [1, с. 206]. Прокофьев, в свою очередь, с искрометным юмором описывал творческие «игрища», «запойное» музицирование, всевозможные конкурсы, которыми постоянно оживлялся процесс консерваторского обучения. О преобладающем значении в его творчестве энергичного движения не замедлил высказаться и Б. Асафьев: «Вот искусство, которого жаждет наша действительность – искусство дерзкое, волевое, сильное и вместе с тем заразительно-радостное, простое и здоровое. В нем поет стихия света и тепла, в нем претворилась солнечная энергия и звучит неискоренимая тяга к жизни и к борьбе за нее. Таков Прокофьев-композитор и таков же Прокофьев-исполнитель» [14, с. 165]. Однако моторно-двигательное начало, необходимое для скерцозного типа мышления, в жизнетворчестве Прокофьева соединяется с педантичной пунктуальностью и формообразующей четкостью, что можно наблюдать как в эпистолярном наследии, так и в музыке, в частности, в скерцо. Проявилось это и в биографии композитора: с ранних лет его любознательность и живость характера удивительным образом сочетались с необыкновенной тщательностью и сосредоточенностью. К примеру, Прокофьев вспоминал о своих детских играх в шарики: «Игра, в которой я был единственный участник, состояла из возведения целой конструкции. <…> На постройку уходило два-три-четыре часа, но как это было увлекательно!» [10, с. 91]. Любимым играм юный композитор посвящал себя с полной отдачей: он был способен проводить целые вечера, разрисовывая на больших листах морские сражения и тщательно рассчитывая ход военных действий. Синтезом раскованности и конструктивности объясняется и увлечение Прокофьева шахматами, сопровождавшее его с детских лет и до конца жизни. Шахматные игры составляли для него «особый мир, мир борьбы, планов и страстей» [13, с. 90], ведь необходимое для этой игры совмещение импровизационного начала и трезвого расчета составляло суть его внутреннего облика. Парадоксальное сочетание двух противоположных модусов как нельзя лучше проявляется и в скерцозных опусах Прокофьева: именно в них он, как правило, не отступает от четких форм, в то время как на интонационном уровне осуществляются эксперименты с тональностями, ритмами и тембровыми эффектами. Многие соперники Прокофьева, вспоминая его эмоциональную отдачу в игре, называли шахматный стиль композитора романтическим, что означало склонность к импровизации, неожиданным комбинациям, предпочтение рискованной атаки и натиска перед защитой. Давид Ойстрах, многолетний партнер Прокофьева по шахматам, после его смерти вспоминал: «Будучи соседями по квартирам, мы устраивали собственные блицтурниры. Обычно инициатором таких турниров был сам Сергей Сергеевич. Нужно было видеть, с каким увлечением и чисто юношеским задором вычерчивал он всевозможные разноцветные диаграммы побед и поражений, как безумно радовался каждому своему выигрышу и как искренне, не на шутку, огорчался каждому проигрышу» [13, с. 284]. Скерцозный модус жизнетворчества Прокофьева выражается через театральность как основной фактор мышления: скерцозные части циклов миниатюр, концертов и симфоний представляют собой «инструментальный театр». Заостренные акценты, повторность реплик, «смеховые дублеры», элементы контраста и прочие «игровые фигуры» (Е. Назайкинский), насыщают фактурные пласты произведений композитора. Основным же принципом развития драматургии является сочетание логической последовательности и соревновательного начала, что присуще, в том числе, шахматным играм. Данная тенденция относится и к опере «Игрок»: драматургическое развитие осуществляется при помощи скерцозного модуса как острого импульса, в то время как композитор пользуется, по мнению И. Вишневецкого, «четко продуманной и ясно исполненной, чуть не шахматной [курсив мой – А. П.], композицией действующих лиц, ход за ходом ведущих действие к развязке» [4, с. 131]. Театральные свойства шахматной игры также подтверждает кумир юности Прокофьева Э. Ласкер: «Партия двух мастеров – драма без слов. Действующие лица – шахматные фигуры. <…> В этой драме соблюдаются все основные правила сценического искусства: композиционное единство, последовательность в развитии сюжета и логика развязки – необходимые предпосылки ее успеха у зрителей» [5]. Ярким доказательством скерцозного типа мышления Прокофьева является его эпистолярное наследие. Дневники, письма, воспоминания и «Автобиография» служат ключом к пониманию его амбивалентного облика и композиторского стиля. Первостепенным фактором выступает шутливая самоирония: в юмористических высказываниях раскрывается способность к смеху над собой и другими. Из письма Л.М. Глаголевой: «получив Вашу берлинпостальку, я вознесся на осьмое небо, десятки крыльев выросли за спиной, сотни ног прибавились к двум моим – и понесся я…» [10, с. 482]. Кроме известного упоминания о своем Дне рождения из первого тома «Дневников» («Сегодня я “ымынынник” и должен быть под столом» [11, с. 20]), приведем в пример смешные высказывания о взаимоотношениях с Линой Кодиной, датируемые декабрем 1922 года: «Писал Пташке ответ; продернул за молчание; рассказал про роман Б.Н.; звал на Рождество. Ой, ой! Как бы этот приезд не кончился тем стихотворением, которое я написал Элеоноре перед моими fiancailles (помолвкой) с Ниной Мещерской!: О, соратник дорогой, Дел галантных, дел лихих, Плачьте, плачьте надо мой: Я скончался, я – жених!» [12, с. 210–211]. Скерцозно-игровой тон, мигрирующий от легкой до саркастической шутки, представлен в письмах Прокофьева к С. Дягилеву периода активной деятельности композитора за рубежом. Несмотря на то, что Прокофьев весьма высоко ценил своего друга и покровителя, письма свидетельствуют о сложности их взаимоотношений. В частности, судьба балета «Сказка про Шута, семерых шутов перешутившего» какое-то время оставляла желать лучшего, поскольку труппа Дягилева поставила его только шесть лет спустя после создания. В связи с этим Прокофьев, с присущей ему саркастически-едкой иронией, написал так: «Из изысканных полунамеков Больма я вынес впечатление, что, разбирая мою “Сказку про Шута“, ни Вы, ни никто так ничего в ней не разобрали. Это очень стыдно, но я думаю, что это вполне возможно, так как в свое время Вы бессовестно отмахнулись от музыки “Алы и Лоллия“… Какие Ваши планы и какова судьба моего бедного Шута, так предательски похороненного в коварных складках Вашего портфеля?» [15, с. 91]. Позже та же причина спровоцировала композитора придать скерцозному тону еще больше едкости и злости: «Дорогой Сергей Павлович! Опять Вы мне ставите палки в колеса! Это ни на что не похоже и совершенно неприлично. Исторически мерзко. Уже два раза я умоляю Вас прислать партитуру Шута, дабы я мог сделать из нее выборку для сюиты. Эту сюиту предлагают играть и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Берлине: вина на Вас и детях Ваших, буде все это сорвется. <…> Гневно жму Вашу руку. До свидания, неприятный Сергей Павлович» [15, с. 91]. Из этих, как и многих других примеров видно, насколько отчетливо проявляется так называемый скерцозный стиль письма: большинство высказываний композитора наделены смеховой доминантой, сочетаемой с краткостью, афористичностью, броскостью интонаций и четкостью мысли. Литературный талант, в котором проявились неповторимый юмор, тонкая наблюдательность и много других скерцозно-игровых качеств, также отразился в склонности Прокофьева к стихотворным импровизациям и пародированию. В качестве примера приведем фрагмент насмешливого сонета, посвященного А. Керенскому: На фоне этих дней – живая небылица – Ты исступленьем покорил ряды. В твоей душе магически таится Заветный ключ еще живой воды. Гори! Своим огнем ты сокрушаешь льды. Безумный жрец, мне хочется молиться. Неслучайно И. Вишневецкий, характеризуя сонет, обращает внимание на «ускоренное, “скерцозное” движение стиха» [4, с. 173]. Скерцозноигровые свойства литературного дара нашли выражение и в оригинальных рассказах с уклоном в сарказм и фантастику («Ультрафиолетовая вольность», «Мерзкая собака», «Блуждающая башня» и др.). Таким образом, эпистолярное наследие композитора и воспоминания его современников дают возможность в полной мере осознать суть скерцозного мышления Прокофьева, которого как никого другого можно назвать «человеком-скерцо». Сочетание добродушной иронии и саркастического юмора проявляется в интонационном спектре многих скерцозных опусов, наделенных амбивалентными смыслами. В этом отношении немаловажным фактом является то, что сам Прокофьев, называя основные линии, по которым двигалось его творчество (классическую, новаторскую, токкатную и лирическую), предлагал заменить еще одну, гротесковую, – скерцозностью, объясняя это так: «Я хотел бы ограничиться этими четырьмя линиями, и пятую, “гротесковую”, которую иные стараются мне прилепить, считать скорее как изгибы предыдущих линий. Во всяком случае, я протестую против самого слова «гротеск», которое у нас затаскано до отвращения. Смысл французского слова grotesque при этом в значительной мере извращен. В применении к моей музыке я предпочел бы заменить его термином «скерцозность» или, если угодно, тремя русскими словами, дающими градации его: шутка, смех, насмешка» [курсив мой – А.П.] [13, с. 31-32]. Несмотря на отрицание Прокофьевым данной линии своего творчества, по отношению к его музыке без понятия «гротеск» обойтись трудно, ведь композиционные контрасты, внезапные смещения плоскостей, резкие сдвиги и парадоксальные столкновения, необходимые для этого приема, составляют суть скерцозных произведений композитора. Наиболее ярко гротесковое скерцо нашло выражение в балете «Сказка про Шута», опере «Игрок» и некоторых фортепианных пьесах, прежде всего в «Сарказмах». В данном случае следует привести слова Прокофьева, вполне применимые к характеристике отрицательного модуса скерцо: «У меня сохранилась программа для одного из “Сарказмов” (5-го): “Иногда мы зло смеемся над кем-нибудь или чем-нибудь, но когда всматриваемся, видим, как жалко и несчастно осмеянное нами; тогда нам становится не по себе, смех звучит в ушах, но теперь он смеется над нами» [14, с. 37]. Но и другие стилевые линии творчества композитора (особенно токкатная) часто не лишены скерцозных резонансов. Однако проблемы преломления разновидностей скерцозного модуса в произведениях Прокофьева неисчерпаемы и требуют отдельных исследований. 1. Анненков Ю.П. Алексей Ремизов и Сергей Прокофьев / Ю.П. Анненков // Дневник моих встреч. Цикл трагедий. – Л. : Искусство, 1991. – Том 1. – С. 199–235. 2. Бонфельд М. Ш. Комическое в симфониях Гайдна : Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 / М. Ш. Бонфельд. – Л. : ЛГИТМИК, 1979. – 24 с. 3. Бородин Б. Б. Комическое в музыке / Б. Б. Бородин. – М. : Композитор, 2004. – 206 с. 4. Вишневецкий И. Г. Сергей Прокофьев / И. Г. Вишневецкий. – М. : Молодая гвардия, 2009. – 704 с. 5. Губницкий С. Б. Шахматы в мире театра / С. Б. Губницкий. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sport.kharkiv.com/sg_chess/ 6. Малышева Т. Ф. Гротеск в русском и советском музыкальном театре первой трети XX века : Дисс. на соискание ученой степени канд. искусствоведения: 17.00.02 / Т. Ф. Малышева. – Москва, 1986. – 212 с. 7. Мнацаканова Е. Несколько заметок об опере Прокофьева «Игрок» / Е. Мнацаканова // Музыка и современность. – М. : Музыка, 1965. – Вып. 3. – С. 122–144. 8. Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции / Е. В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1982. – 320 с. 9. Покровский Б. А. Размышления об опере / Б. А. Покровский. – М. : Советский композитор, 1979. – 280 с. 10. Прокофьев С.С. Автобиография / С.С. Прокофьев. – М. : Советский композитор, 1982. – 600 с. 11. Прокофьев С. С. Дневник. Часть I / С. С. Прокофьев. – Франция, 2002. – 816 с. 12. Прокофьев С. С. Дневник. Часть II / С. С. Прокофьев. – Франция, 2002. – 896 с. 13. Прокофьев С. С. Материалы. Документы. Воспоминания / С. С. Прокофьев. – М. : Гос. Муз. изд-во,1956. – 486 с. 14. Прокофьев С. С. Материалы. Документы. Воспоминания / С. С. Прокофьев. — М. : Гос. Муз. изд-во, 1961. – 708 с. 15. Прокофьев С. С. Статьи и материалы / С. С. Прокофьев. – М. : Советский композитор, 1962. – 384 с. 16.Соломонова О. Б. И когда смеется лицо – вместе с ним не веселится ум (смеховое зазеркалье русской музыкальной классики). Монография / О. Б. Соломонова. – К. : Задруга, 2006. – 380 с. Проскурня Анна. Сергей Прокофьев – «человек-скерцо». В статье анализируются факторы, позволяющие именовать Сергея Прокофьева «человеком-скерцо» в метафорическом значении. Данная проблема раскрывает новые возможности комплексного изучения феномена скерцо в жизнетворчестве композитора. Ключевые слова: «человек-скерцо», С. Прокофьев, феномен, комическое, скерцозность. Проскурня Анна. Сергій Прокоф'єв – «людина-скерцо». У статті аналізуються фактори, що дозволяють назвати Сергія Прокоф'єва «людиною-скерцо» у метафоричному значенні. Ця проблема розкриває нові можливості комплексного вивчення феномену скерцо у життєтворчості композитора. Ключові слова: «людина-скерцо», С. Прокоф'єв, феномен, комічне, скерцозність. Proskurnia Anna. Sergei Prokofiev – «scherzo-man». In the article the factors, which are allowed to name Sergei Prokofiev by the «scherzo-man» in a metaphoric meaning are analyzing. This problem opens a new possibilities by the complex studying the phenomen scherzo in the creative life of the composer. Keywords: «scherzo-man», Prokofiev, phenomen, the comic, the scherzo.