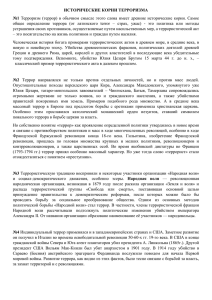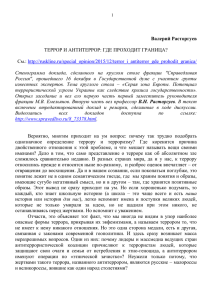Карелин В.М. Человек сталинской эпохи: антропология жертвы в
реклама
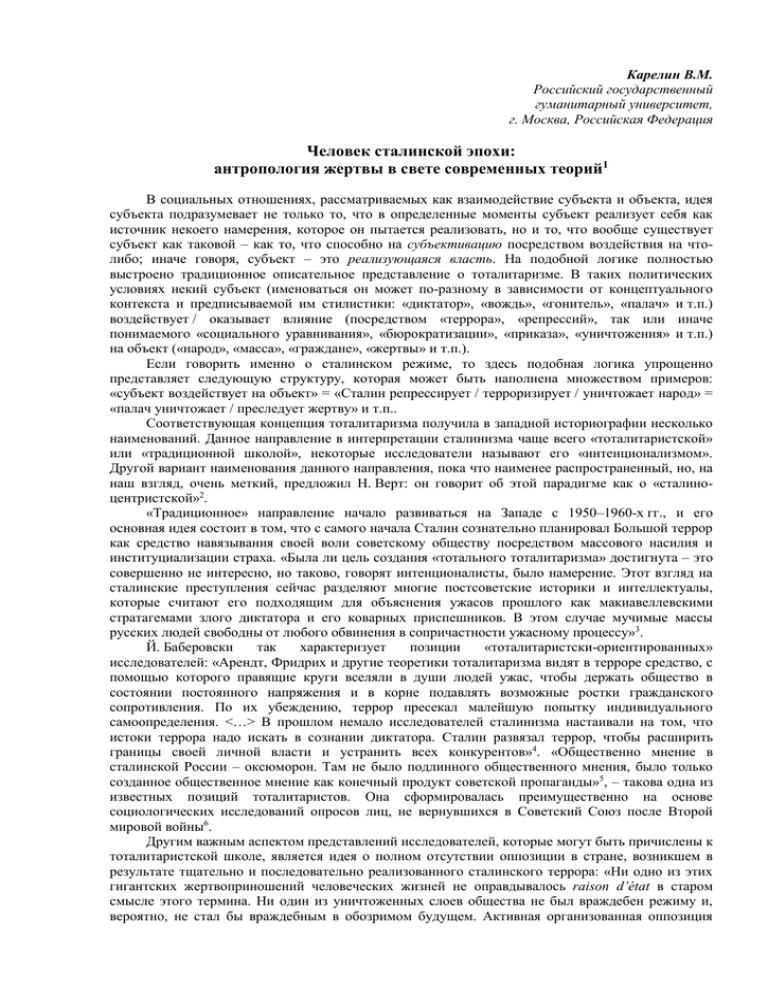
Карелин В.М. Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва, Российская Федерация Человек сталинской эпохи: антропология жертвы в свете современных теорий1 В социальных отношениях, рассматриваемых как взаимодействие субъекта и объекта, идея субъекта подразумевает не только то, что в определенные моменты субъект реализует себя как источник некоего намерения, которое он пытается реализовать, но и то, что вообще существует субъект как таковой – как то, что способно на субъективацию посредством воздействия на чтолибо; иначе говоря, субъект – это реализующаяся власть. На подобной логике полностью выстроено традиционное описательное представление о тоталитаризме. В таких политических условиях некий субъект (именоваться он может по-разному в зависимости от концептуального контекста и предписываемой им стилистики: «диктатор», «вождь», «гонитель», «палач» и т.п.) воздействует / оказывает влияние (посредством «террора», «репрессий», так или иначе понимаемого «социального уравнивания», «бюрократизации», «приказа», «уничтожения» и т.п.) на объект («народ», «масса», «граждане», «жертвы» и т.п.). Если говорить именно о сталинском режиме, то здесь подобная логика упрощенно представляет следующую структуру, которая может быть наполнена множеством примеров: «субъект воздействует на объект» = «Сталин репрессирует / терроризирует / уничтожает народ» = «палач уничтожает / преследует жертву» и т.п.. Соответствующая концепция тоталитаризма получила в западной историографии несколько наименований. Данное направление в интерпретации сталинизма чаще всего «тоталитаристской» или «традиционной школой», некоторые исследователи называют его «интенционализмом». Другой вариант наименования данного направления, пока что наименее распространенный, но, на наш взгляд, очень меткий, предложил Н. Верт: он говорит об этой парадигме как о «сталиноцентристской»2. «Традиционное» направление начало развиваться на Западе с 1950–1960-х гг., и его основная идея состоит в том, что с самого начала Сталин сознательно планировал Большой террор как средство навязывания своей воли советскому обществу посредством массового насилия и институциализации страха. «Была ли цель создания «тотального тоталитаризма» достигнута – это совершенно не интересно, но таково, говорят интенционалисты, было намерение. Этот взгляд на сталинские преступления сейчас разделяют многие постсоветские историки и интеллектуалы, которые считают его подходящим для объяснения ужасов прошлого как макиавеллевскими стратагемами злого диктатора и его коварных приспешников. В этом случае мучимые массы русских людей свободны от любого обвинения в сопричастности ужасному процессу»3. Й. Баберовски так характеризует позиции «тоталитаристски-ориентированных» исследователей: «Арендт, Фридрих и другие теоретики тоталитаризма видят в терроре средство, с помощью которого правящие круги вселяли в души людей ужас, чтобы держать общество в состоянии постоянного напряжения и в корне подавлять возможные ростки гражданского сопротивления. По их убеждению, террор пресекал малейшую попытку индивидуального самоопределения. <…> В прошлом немало исследователей сталинизма настаивали на том, что истоки террора надо искать в сознании диктатора. Сталин развязал террор, чтобы расширить границы своей личной власти и устранить всех конкурентов»4. «Общественно мнение в сталинской России – оксюморон. Там не было подлинного общественного мнения, было только созданное общественное мнение как конечный продукт советской пропаганды»5, – такова одна из известных позиций тоталитаристов. Она сформировалась преимущественно на основе социологических исследований опросов лиц, не вернувшихся в Советский Союз после Второй мировой войны6. Другим важным аспектом представлений исследователей, которые могут быть причислены к тоталитаристской школе, является идея о полном отсутствии оппозиции в стране, возникшем в результате тщательно и последовательно реализованного сталинского террора: «Ни одно из этих гигантских жертвоприношений человеческих жизней не оправдывалось raison d’état в старом смысле этого термина. Ни один из уничтоженных слоев общества не был враждебен режиму и, вероятно, не стал бы враждебным в обозримом будущем. Активная организованная оппозиция перестала существовать к 1930 г., когда Сталин в речи на XVI съезде партии объявил вне закона правый и левый уклон внутри партии, и даже эти слабенькие оппозиции вряд ли были способны создать себе базу в любом из существующих классов. Уже диктаторский террор (отличающийся от тоталитарного террора тем, что он угрожает только настоящим противникам, но не безвредным гражданам, не имеющим определенных политических мнений) был достаточно жестоким, чтобы задушить всякую политическую жизнь, будь то открытую или тайную, еще до смерти Ленина. Вмешательство извне, которое могло бы поддержать одну из недовольных групп населения, больше не представляло опасности, когда к 1930 г. советский режим был признан большинством правительств и заключил торговые и иные международные соглашения со многими странами»7. В конце 1970-х некоторые историки поставили под вопрос парадигму тоталитаристской школы – сформировалась направление исследований сталинизма, именуемое сейчас ревизионизмом. По его представлениям, общественное мнение у тех, кто жил в сталинскую пору, существовало, и реконструировать его требовалось не по интервью с советскими невозвращенцами в Кембридже и Массачусетсе, а ориентируясь на чтение «свежим взглядом» доступных документов (главным образом, Смоленского архива8). Когда прошла «зашоренность» Холодной войны, ревизионисты показали, чтó эти источники в действительности демонстрируют: обычные люди были не безмолвны и выражали множество позиций. Зафиксированные высказывания простых граждан подтверждали наличие внушительной и «поддержки снизу», и некоторого народного «сопротивления». Таким образом, в своем представлении, ревизионисты, переместили действующую силу от партии-государства к народу9. Ревизионисты, читая Смоленский архив, готовы верить, что за людьми записывалось именно то, что они говорили. Однако, точно так же, как последователи тоталитаристской школы, ревизионисты не признавали совместного существования множества мнений у одного субъекта в рамках узкого интервала времени. Ревизионисты также верят, что субъект должен быть только активным или пассивным, только сопротивляющимся или уступчивым. «Субъект, который одну минуту сопротивлялся, а вторую соглашался, не находил места в их схеме. Человек, рыдавший утром по умершему Сталину и рассказывавший антисталинские шутки вечером, был для ревизионистов не менее парадоксален, чем для их тоталитаристских предшественников»10. Ревизионистская методология предполагает относительную независимость общественного мнения от требований идеологии11. Ревизионизм не только говорит о том, что мнение в сталинском обществе существовало, но и порой возлагает некоторую меру ответственности на граждан за происходившее в стране12. Последователи этого подхода «доказывают, что террор происходил не на пустом месте, и что «сталинизм процветал на благодатной почве». Ее питательным составом были не только согласные коммунистически аппаратчики, правительственные официальные лица и НКВДшники, но и управленцы среднего уровня, рядовые члены партии, энтузиасты рабочего класса, радикальные оппоненты бюрократии, стахановцы и миллионы из «простого» народа»13. По мнению Ш. Фицпатрик, стремление подходить в большом масштабе к изучению тоталитаризма может показаться спорным в силу того, что «большевизм был, видимо, не главной заботой колхозов или 57% населения, называвших себя верующими»14. Однако подобные исследования внушают доверие по крайней мере в отношении двух пересекающихся групп населения: городской молодежи и жертв социальной стигматизации15. «Молодые люди в городах были полны энтузиазма и духа приключений (независимо от террора – в том числе, и во время него), отмечавшего собой 1930-е. Это они становились добровольцами в различных ситуациях вроде коллективизации и освоения Дальнего Востока и, судя по мемуарам и другим свидетельствам, были склонны считать советский проект своим собственным. <…> Есть свидетельства, что некоторые из наиболее приверженных власти, порой до истеричности поддерживавших Советы, были выходцами из семей, подвергшихся раскулачиванию или испытавших другие формы дискриминации. В числе таких людей зачастую была молодежь, принимавшая советские ценности и даже отказывавшаяся или отделявшаяся от своих стигматизированных родителей»16. Как отмечает Й. Баберовски, ревизионисты «рассматривают террор как исторический феномен, рождающийся в недрах общества и поддерживающий свое существование за счет конфликта интересов различных социальных групп. В силу этого политические вожди общества оказываются уже не в состоянии контролировать его. Эти историки приходят к признанию того, что у террора нет авторов, в нем следует видеть самостоятельный социальный феномен»17. Советология на Западе долго характеризовалась разделением между теми, кто интерпретирует сталинскую систему в терминах тоталитаризма, имея в виду амбицию Партии / Государства контролировать каждый аспект человеческой деятельности, и ревизионистами, которые вместо этого указывают на множество признаков не контролировавшегося поведения – на протяжении всей советской истории – как доказательства того, что тоталитарная модель неточная или неадекватная. С открытием советских архивов до беспрецедентного после распада СССР уровня доступа, тоталитарный аргумент был укреплен в исследованиях российских историков. В результате «ревизионисты» могут теперь продемонстрировать с большей компетентностью широко распространенные примеры автономии и сопротивления, которые отвергают идею тотального контроля. Вследствие этого упомянутое разделение теперь может быть расценено сразу и как состоятельное, и как чрезмерное18. Концепцией «сталинизма как цивилизации» пользуются представители молодого поколения исследователей, чья методология в современных исследованиях иногда называется постревизионизмом или неоревизионизмом. Следуя за ревизионистской школой, они концентрируют внимание не на «сталинистской субъективности», понимание которой близко фукианской рецепции Weltanschauung19. «Они понимают идеологию не как нечто влияющее на общество, а как нечто, продуцируемое самим обществом; они пытаются продемонстрировать, как процесс продуцирования работает у отдельных личностей (не групп). Это значит, что документы от первого лица (дневники, мемуары, различные автобиографические высказывания) часто выступают в качестве основной источниковедческой базы <…> Хотя постревизионистское течение использует особую терминологию, оно в некотором смысле также обращается к ревизионистской проблематике «общественной поддержки», так как те советские граждане, которые всерьез воспринимают себя в позитивной связи с «советским проектом» <…>, могут уверенно быть представлены как оказывающие поддержку режиму. Однако этот подход отличается от ревизионистского масштабом притязаний: у первого они меньше (интерес к индивидуальному, а не групповому или классовому), у второго они глобальнее (не ограничены отдельной группой или классом)»20. Итак, постревизионизм заинтересован в исследованиях индивидуального жизненного опыта, в том числе по дневникам очевидцев и участников событий – как правило, простых граждан. Один из самых известных и живо обсуждаемых в настоящее время примеров – дневник Степана Подлубного, выходца из кулацкой семьи, стремившегося стать «хорошим большевиком»21. К подобному академическому жанру близка и известная работа Натальи Козловой «Советские люди. Сцены из истории»22; интересно заметить, что хотя данный труд также в значительной мере ориентируется на индивидуальные жизнеописания, но при этом, судя по корпусу использовавшейся библиографии, мало опирается на близкие по тематике и жанру работы западных исследователей. Ученых, следующих по пути методологий ревизионизма и постревизионизма, Шейла Фицпатрик называет социальными историками сталинизма, структуралистами23. Эти исследователи, действительно, заметно выходят за рамки традиционных представлений о методологии исторического познания. Их взгляды довольно близки социальной философии, близки они и психобиографии как философско-антропологической дисциплине. Возникает закономерный вопрос: а не возникает ли ревизионистская (и производные от нее) схема в результате простого переворачивания взаимного расположения отдельных компонентов интенционалистской схемы? На наш взгляд, нет: более того, следует сказать, что реверсивным характером по отношению к социальной реальности обладает именно интенционалистская интерпретация, утверждающая статусы вождя – как палача, а народа – как жертвы, является результатом искажения интерпретации актуального социального порядка. Возможно, наиболее успешное на настоящее время объяснение антагонистичности этих двух схем предлагает теория фундаментальной антропологии Рене Жирара. Жирар говорил о многих явлениях – религия, миф, политика, – однако главным для него является не интерпретация относящихся к ним феноменов, а «метаконцепция», объясняющая структурную общность их некоторых компонентов. Жирар анализирует ситуации реализации насилия в процессе гонения, которое является результатом коллективного насилия24. Коллективное насилие – «машина по изготовлению мифов», и не просто многочисленных сюжетов, сопровождающих насилие, а таких, что призваны защитить насилие, вуалируя участие коллективного гонителя. «Толпа – это группа в расплавленном состоянии, община, которая буквально разлагается и заново собраться может только за счет своей жертвы, своего козла отпущения»25, – утверждает Жирар. Так, евангельские тексты не дают толпе реализоваться, они разоблачают ее, раскрывая секрет ее силы. Евангелия, как утверждает Жирар, приписывают Пилату сопротивлению требованиям толпы. Позже они показывают, что Пилат присоединяется к гонителям, но нужно это не для демонстрации всевластия толпы, а чтобы показать, «как верховная власть, несмотря на поползновения к сопротивлению, вынуждена уступить толпе»26. Есть два варианта репрезентации гонений: репрезентация гонений как таковых, чаще всего самими жертвами и репрезентация в текстах, созданных гонителями – в так называемых текстах гонений. Причем нельзя сказать, что выбор позиции здесь является относительным: есть определенные критерии, которые позволяют идентифицировать структуру и логику текста гонений. Простой шаг, который позволяет совершить фундаментальная антропология – представить тоталитарную власть как текст гонений. При возможной видимой экзотичности такое решение не является лишь словесной игрой: такая возможность интерпретации текста содержится как в ряде постструктуралистских концепций, так и в современных теориях дискурса и методологиях дискурс-анализа. Одним из наиболее драматичных последствий применения такой методологии становится обнаружение центральной роли в процессе гонения не «репрессирующего вождя», а «народа», «простого человека», – словом, того же субъекта, которому приписывается доминирующая значимость в современных теориях тоталитаризма. Рассматривая данную проблематику под указанным углом, важно учитывать роли, а не действия (по крайней мере потому, что действия в большинстве случаев диктуются именно позициями). Здесь важно «психологическое отношение»; если интерпретировать это отношение как психологическое отношении к преступлению (гонению) – то это, в частности, в общепринятом юридическом представлении есть ни что иное как вина. Однако отметим, что для дальнейшей разработки вопросов о применимости указанных подходов в социально-философских и философско-антропологических исследованиях следует решить ряд методологических проблем. Представленная схема «интенционализм-ревизионизмпостревизионизм» выработана в контексте ревизионистской методологии и, соответственно, не только определяет конструируемую ею оценку места человека в тоталитарной политике, но и является средством самоопределения ревизионистской методологии. В связи с этим необходимы специальные исследования для выяснения того, в какой мере эта схема подлежит переносу за пределы концептуальных рамок ревизионизма без деформации. Кроме того, заявляет о себе необходимость компаративных исследований возможностей ревизионистской переоценки ролей «вождя» и «народа» в других тоталитарных режимах – т.е. определения степени универсальности данной методологии. ПРИМЕЧАНИЯ 1. 2. Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-33-01009 а1). Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. – М.: РОССПЭН, Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2010. С. 147. 3. Wood A. Stalin and Stalinism. 2nd ed. – L., N.Y.: Routledge, 2005. — P. 46. 4. Баберовски Й. Красный террор. История сталинизма. – М.: РОССПЭН, Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2007. С. 131. 5. Plamper J. Beyond Binaries: Popular Opinion in Stalinism // Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism / Ed. by Paul Corner. – Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 65. 6. Ibid. 7. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М.: ЦентрКом, 1996. С. 427–428. 8. На протяжении многих лет т.наз. Смоленский архив был одним из основных источников исследований западными учеными советской политики и истории 1917–1938 гг. При захвате Смоленска в 1941 г. немецкие войска захватили местных архив НКВД. В 1947 г. небольшая часть документов архива попала в США (впоследствии именно этот корпус получил распространенное неформальное название «Смоленский архив»). В 1958 г. Соединенные Штаты предложили вернуть материалы Советскому Союзу, но коммунистическое правительство отказалось, утверждая, что это подделка, созданная ЦРУ. В 2002 г. материалы были переданы России (Головской В. Материалы о цензуре из смоленского архива // Индекс. Досье на цензуру. 2004. № 20. – http://www.index.org.ru/journal/20/smolensk20.html). 9. Plamper J. Beyond Binaries. P. 65. 10. Ibid. – P. 69. 11. «Согласно большинству определений, тоталитарные общества не имеют общественной сферы <…>. Когда тоталитарные режимы закрывают закусочные и кофейни, где и формируется мнение, подавляют добровольческие организации, напрямую не контролируемые государством, запрещают профессиональную автономию, цензурируют печать и наказывают людей за «антирежимные» разговоры, они ликвидируют гражданское общество и общественное мнение <…> оставляя только искусственное «общепринятое мнение», являющееся отражением пропаганды режима. Однако люди в Советском Союзе имели мнения, которые не были отражением пропаганды режима. <…> Они были частью обыденной общительности – распространялись друзьями и прохожими на работе, в поездах, на рынках, на кухнях коммунальных квартир и общежитий, в очередях. Они точно демонстрировали другую характеристику публичной сферы, по Хабермасу, – а именно, сознательное отделение в ней от сферы государственности» (Fitzpatrick S. Popular Opinion in Russia Under Pre-war Stalinism // Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism / Ed. by Paul Corner. – Oxford: Oxford University Press, 2009. P. 24). 12. В соответствии с этим, поддержка и оправдание различными сегментами советского общества таких явлений, как быстрая индустриализация, коллективизация или «чистки», является одним из основных интересов последователей ревизионистской методологии (Hoffman D.L. Introduction: Interpretations of Stalinism // Stalinism. The Essential Readings / Ed. by David L. Hoffman. – Oxford: Blackwell Publishing, 2003. P. 4). 13. Wood A. Stalin and Stalinism. – P. 46. 14. Fitzpatrick S. Popular Opinion in Russia… – P. 21–22. 15. Ibid. 16. Ibid. Чем можно объяснить такое поведение, и достаточно ли представить его как сублимацию страха и результат деформации сознания людей властью (см.: Сарнов Б. Империя зла. Невыдуманные истории. – М.: Новая газета, 2011. С. 93–137) – эти вопросы требуют отдельного изучения. 17. Баберовски Й. Красный террор. С. 131. 18. Shukman H. Introduction // Redefining Stalinism / Ed. by Harold Shukman. – L., Portland (OR): Frank Cass Publishers, 2003. P. 5. 19. Fitzpatrick S. Popular Opinion in Russia… P. 20. 20. Ibid. 21. См.: Hellbeck J. Revolution on My Mind. – Cambridge, L.: Harvard University Press, 2006. 22. Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. – М.: Европа, 2005. 23. Wood A. Stalin and Stalinism. P. 46. 24. Эти аспекты теории проанализированы нами ранее в одной из предыдущих публикаций: Карелин В. Опыт демаскировки гонений // Философский журнал. 2011. № 2 (7). С. 157–166. 25. Жирар Р. Козел отпущения. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. С. 173–174. 26. Там же. С. 174.