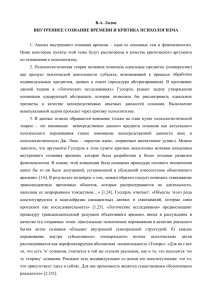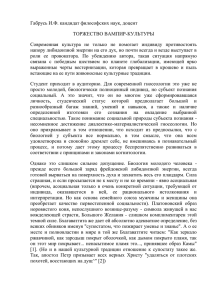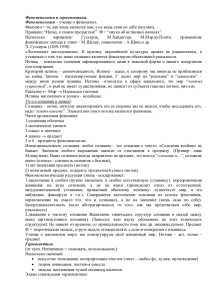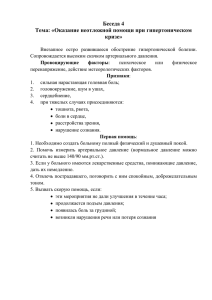Феноменология культуры
реклама
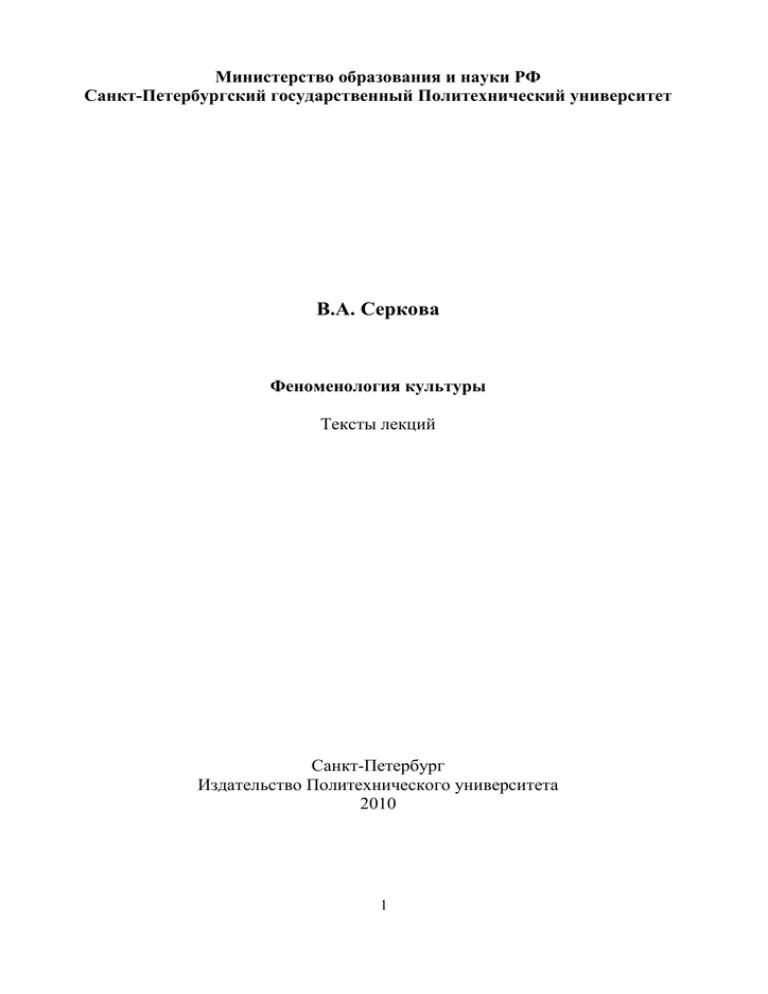
Министерство образования и науки РФ Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет В.А. Серкова Феноменология культуры Тексты лекций Санкт-Петербург Издательство Политехнического университета 2010 1 Серкова В.А. Феноменология культуры. Тексты лекций. – СПб.: Изд-во Политехнического университета., 2010. – 138 с. Тексты лекций по курсу «Феноменология культуры» построены по принципу феноменологического описания явлений культуры. Феноменология сложилась как теоретическая система в исследованиях немецкого философа Э. Гуссерля в начале ХХ столетия, и на сегодняшний день она представляет одно из наиболее респектабельных философских учений Европы. Метод феноменологии формируется, с одной стороны, практикой проведения феноменологических редукций, которые определяют строгость философского анализа, а, с другой стороны, дескриптивной, т.е. описательной, методологией, наиболее подходящей для характеристики разнообразных феноменов культуры. В лекциях приводятся примеры последовательного описания разнообразных культурных явлений и событий. Учебное пособие подготовлено кафедрой социологии и права и кафедрой отечественной и зарубежной культуры. Предназначено для студентов всех специальностей, изучающих философию и историю культуры. Печатается по решению редакционно-издательского совета СанктПетербургского государственного политехнического университета © Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2010 2 ВВЕДЕНИЕ Курс «Феноменология культуры» призван, с одной стороны, углубить представление о философском методе исследования, показать студентам, что значит «мыслить строго», освоить принципы феноменологической аналитики и необходимые феноменологические процедуры, составляющие основу дескриптивного (описательного) метода. Но более важной задачей является прояснение возможности практического использования феноменологической философии в прикладных дисциплинах (например, в социологии, культурологи, искусствознании), применения феноменологии к анализу разнообразных явлений культуры. В текстах лекций по феноменологии культуры анализируются такие проблемы, как «кризис европейской рациональности», проявившийся к началу ХХ столетия и охвативший естественнонаучные и гуманитарные науки. Родоначальник феноменологической философии Э. Гуссерль (1859-1938) много раз и в во все периоды своей научной деятельности обращался к анализу причин этого кризиса. Он анализировал способы его преодоления. Гуссерль полагал, что мы находимся только на пороге формирования философии как строгой научной дисциплины, и потому вопросы метода исследования, основанного на ясных, последовательных и необходимых принципах, считал самыми важными для будущего развития философии. Феноменологию можно назвать пролегоменами (общим введением) в философскую науку. Она определяет границы рациональности, в которых философские вопросы имеют смысл, поскольку они способствуют ясному пониманию проблемы. Феноменологом может называться только тот, кто практикует принцип феноменологических редукций. Это означает вот что. С точки зрения «нормального сознания» («естественной установки» в терминологии Э. Гуссерля) объективный мир - это постоянный, устойчивый, существующий независимо от нас первичный источник наших знаний о нем. С феноменологической позиции все обстоит как раз наоборот: само сознание является источником представлений о реальности. При этом Гуссерль вовсе не отрицает реальности внешнего мира, - реальное для него существует проблематически и гипотетически. Доступ к объективному, с феноменологической позиции, всегда блокирован примысленными к нему определениями, оценками, качествами, которыми наделяется предмет. Отсюда следует правило феноменологической редукции: не следует сравнивать реальные вещи с их отражением в сознании, но следует сравнивать разные способы осознания реальности, реконструировать разнообразные смыслы реального. Феноменологическая редукция означает «сведение» объектов, вещей, «реальностей» к их, так сказать, «мысленным эквивалентам», или феноменам. Следовательно, нужно изучать в первую очередь не «реальность», или «объективный мир», а само сознание, его структуры, способы формирования 3 знаний о предмете, или реальности. С этой целью проясняются разнообразные структуры, формы, предметы сознания, строгое соотнесение вариативных представлений с сущностным содержанием предмета, возможности приведения к единству многообразных истолкований предмета, преодоление обычной незавершенности, схематизма и бессодержательности формальной методологии. Рассуждения о методологической ценности философии важны в том случае, если мы на деле показываем сдвиги в понимании какого-либо конкретного материала. В задачи феноменологической науки входит: прояснение конкретного смысла использования феноменологической установки сознания в достижении очевидных и достоверных знаний о предмете; определение структуры феноменологического анализа и его схематики; анализ примеров, на которых осуществляется использование возможностей феноменологического метода. В этом отношении мы ставим и последовательно разрешаем вопрос о научности философского, и – шире – гуманитарного знания. Чтобы подчеркнуть практический, прикладной характер феноменологии, в текстах лекции привлекается большое количество примеров из культурологии и искусствознании, которые анализируются средствами феноменологического описания. При этом важно отметить, что обращение к единичному случаю, к «феномену», или к «примеру», не является способом популяризации теории, так же, как употребление примеров не мотивируется потребностью образного усвоения метафизического материала или его подтверждения (верификации). Напротив, если пример привлекается в феноменологическое исследование, от него в дальнейшем невозможно освободиться, он врастает в него не как его балласт, а как его опытная основа, которая подвергается феноменологической обработке. В этом смысле примеры не облегчают философское содержание, а вводят в него дополнительную сложность и напряженность. Они включаются в целостную структуру дескриптивного анализа. Примеры, которые используются в текстах лекций, взяты из области описания культурных пространств и относятся к предметам крайне сложным, к тому, что принято называть «большими событиями в культуре». Феноменология призвана помочь определить меру нашего участия в культуре как участников в производстве «явлений культуры», описать сложности этих процессов и понять ответственность за происходящее в них. Изучение феноменологии, как одной из наиболее утвердившихся в европейском университетском сообществе и респектабельных философских школ, позволит существенно повысить философскую, общегуманитарную и профессиональную культуру студентов СПбГТУ. 4 Лекция 1. Введение в дескриптивную феноменологию. Истоки феноменологической теории. Феноменология как одна из основных школ и направления современного философско-культурологического знания. 1. Понятие «феномена» в философии Иммануила Канта и Эдмунда Гуссерля. 2. Формирование феноменологической установки как основа феноменологического метода. Принцип феноменологических редукций. Феноменология как «строгая философия». 3. Пример как коррелят феноменологического анализа. Феноменология как «практическая философия». Феноменологическая дескрипция. 4. Своеобразие «предметов культуры». Описание феноменов культуры. Феноменология культуры. 5. Структура феномена 6. Трансцендентные и имманентные предметы. Проблема множественности описаний и проблема предметного единства 7. Проблема реального в феноменологии Феноменология как оригинальное направление развития философии начала ХХ века связано с именем немецкого мыслителя Эдмунда Гуссерля. Путь Гуссерля в философии определялся не только критикой важнейших для его времени философских направлений и школ, но и внутренним развитием его собственного феноменологического метода, упрочением той рефлексивной воли, которая руководила его поистине экспериментальными исследованиями. В этом смысле можно утверждать, что феноменология – это развивающаяся, а потому не догматическая (т.е. окончательно сформировавшаяся и не нуждающаяся в изменении) наука, но, кроме того, феноменология – это «строгая наука» (т.е. в ней существует правила метода, которых следует придерживаться). В чем состоит суть феноменологической философии с точки зрения способа философствования? Э. Гуссерль разрабатывал метод феноменологической дескрипции (феноменологического описания). Описывать нечто – значит видеть, понимать то, что подлежит описанию. Что конкретно описывается в феноменологии? Феномены. Феномен – это греческий термин, введенный в философию уже, по крайней мере, Платоном, и означает он «явление». Великий немецкий философ XVIII- н.XIX вв. Иммануил Кант в своем произведении «Критика чистого разума», явившемся основой немецкой классической философии, и, что для нас теперь наиболее важно, – началом феноменологической философии, дает определение понятия «феномен». «Неопределенный предмет эмпирического наглядного представления называется явлением» (И. Кант Критика чистого разума. СПб., 1993. С.49). Понятию «феномена» Кант противопоставляет понятие «ноумена», или умопостигаемого предмета. Таким образом, феномен – не мыслится, но предполагается нашим сознанием Феномен потому смутно дан как «неопределенный», что он предстоит нам еще «до» своего понимания, только 5 благодаря нашей способности быть данным посредством ощущений. Другое дело «ноумен», он есть результат иных способностей сознания, его свободы от ограниченности чувственного опыта. В самом деле, если мы хотим понять какую-нибудь картину, мы должны ее увидеть, т.е., согласно Канту, организовать ее как феномен, чтобы затем понять, а значит, - преобразовать ее в «ноумен». При этом рассудок демонстрирует свою свободу и отвлеченность от «чувственной картинки», поэтому ноуменальное наше знание, согласно Канту, является проблематическим, т.е. «не может быть познано как объективно реальное» (И. Кант Критика чистого разума. СПб., 1993. С.189). Стало быть, реальность осталась «по ту сторону сознания», а само сознание осуществляется посредством перехода от чувственного за счет «способности воображения». Значит «феномены» мы знать не можем, они осуществляются на уровне «предсознания», а «ноумены» как результат нашей познавательной способности, существуют «по ту сторону реальности». Вот настоящая трагедия познающего рассудка, ограниченного двумя основополагающими способами «реализации мира» в сознании: в чувственных представлениях и в познавательных ноуменальных формах. Гуссерль полагал (впрочем, к этому он пришел не сразу), что кантова структура познания изначально осложнена противопоставлением феноменов ноуменам, а потому и приводит к антиномиям и неразрешимому противоречию. Феномен, по его мнению, не следует рассматривать как форму «предсознания», всякий феномен реализуется как полноценное и структурно вполне определенное понимание, как абсолютно законный результат работы сознания. Феномены - это все, что является результатом деятельности сознания, что дано в качестве предмета и наделено конкретным, неважно ясным или смутным, значением и смыслом. Если обобщить это совершенно иное, по сравнению с Кантом, представление о феноменальном мире, которое предлагает нам Гуссерль, то следует сказать, что феномен – это и результат, и способ реализации предметов в сознании. Феномены – это ментальные (мыслимые) аналоги самым разнообразным вещам и предметам «реального мира». Но вот что особенно важно. «Класс феноменов» значительно шире «класса реальностей», и потому он обладает универсальным, всеобщим и абсолютным существованием. Феномены – это помысленное как таковое. Абсолютное существование такого рода предметов достаточно просто обнаруживается, стоит только задать себе вопрос – можем ли мы найти исключение – представить нечто такое, что нельзя помыслить. Это невозможно, потому что вопрос задается именно тогда, когда мы уже находимся в процессе производства такого рода предметов в сознании, т.е. мыслим «немыслимый» предмет как проблематичный, гипотетический, а, следовательно, уже реализованный сознанием как таковой. Для всех мыслимых предметов Гуссерль находит определение, взятое из средневековой философии «интенциональные» предметы, т.е. включенные в сознание. 6 Итак, феномен имеет абсолютную форму своего осуществления. Его возможность быть – быть представленным в сознании, и совершенно не важно, как, смутно или ясно и вполне очевидно, он нам является. Феномен имеет определенную структурную основу. Феномен - это 1) предмет, 2) смысл, которым наделяется предмет, и 3) форма сознания, благодаря которой он реализуется (один и тот же предмет мы или видим, или воображаем, или вспоминаем, или забываем). Эта структура феномена, - предмет – смысл – формы сознания, в которых даны предмет и смыслы - и определяет систематическую основу описания явлений в феноменологической аналитике. Понимание структуры феномена как явления, основой которого является его осознание, и методика его дескрипции (описания), - именно это составляет проблемное поле феноменологических исследований. Вопрос о продуктивности метода, как и вопрос о состоятельности какой-либо философской школы, имеет значение как осуществление «совместных научных занятий в духе серьезного сотрудничества и нацеленности на объективно значимые результаты», как утверждает Гуссерль, и главное, что отличает феноменологию, – это возможность применить дескриптивный исследовательский метод как описательную технику конкретных феноменов, и, вообще говоря, это означает еще раз произвести феномен в сознании, - уже как предмет нашего понимания и познания. А это значит, что формирование феномена и философская практика его понимания не совпадают, и мы, наблюдая феномен, описывая его, познавая, не всегда отдаем себе отчет в том, что при этом мы его создаем. Но всю новаторскую основу феноменологического метода невозможно прояснить отвлеченно, не опираясь на конкретные случаи феноменологической практики. В этом состоит ее практическое значение. Освоить методику феноменологического описания сложно. Мы будем учиться применять феноменологический метод для описания прежде всего феноменов культуры, и тем самым еще более осложним свою задачу освоения методикой феноменологического описания. Для чего же нам все так осложнять? Что значит для культурологии пользоваться философскими достижениями для описания своих предметов? Вообще все рассуждения о методологической ценности философии важны только в том случае, если мы на деле покажем сдвиги в понимании какого-либо феномена культуры. Явления культуры – это предельно сложные для описания предметы, поскольку они принадлежат к тому, что принято называть «большими событиями в истории», они всегда противоречивы в своих определениях. И поскольку они даны как описания одного и того же предмета в бесконечном множестве возможных, сама эта множественность как будто бы разрушает предметную тождественность. Но прежде, чем приступить к анализу возможностей феноменологического метода, следует определиться в вопросе о том, что, собственно, можно назвать феноменологией. На что здесь следует опираться? Прежде всего, феноменология - это корпус произведений Эдмунда Гуссерля, первая - совсем небольшая - часть которых была определена к печати 7 самим автором. Вторую, архивную часть его трудов (а это различные рукописи автора, - доклады, тексты лекций, наброски, комментарии, заметки на полях и т.д.) еще более, чем первую, можно отнести к «практическим» феноменологическим исследованиям. Среди всех работ Гуссерля следует прежде всего упомянуть его двухтомное произведение «Логические исследования» (1900 г. – 1 т., 1901 г. – 2 т.), благодаря которому он получил известность в академических философских кругах, кафедру в Геттингентском университете и множество последователей и учеников. Первый том посвящен критике современной Гуссерлю философии. Второй состоит из 6 исследований. В них Гуссерль еще не сформулировал последовательной феноменологической программы, но основное понятие «интенциональность», уже появляется. В Геттингене Гуссерль, находясь в должности экстраординарного профессора до 1916 г., формирует в своих лекциях и семинарских занятиях основы феноменологического метода, читает множество курсов, которые его ассистенты готовят к публикации, и в результате такой совместной работы появляются два важнейших феноменологических произведения – «Идеи к чистой феноменологии» (1913 - первая книга) и «Феноменология внутреннего сознания времени» (курс разрабатывался в 1905, 1910 и 1917 гг.). Затем в 1928 г. Гуссерль уходит в отставку по возрасту и начинает одну за другой издавать книги. В 1928 г. появляется «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», в 1929 г. – «Картезианские размышления» и «Формальная и трансцендентальная логика». Именно эти произведения составляют основу феноменологической философии. Остается вопрос о последователях Гуссерля. Являются ли в строгом смысле феноменологами, многочисленные ученики Гуссерля, - М. Хайдеггер, Р. Ингарден, Е. Финк, а также те, кто непосредственно не общался с философом, но самостоятельно осваивал феноменологию. Среди них - Ж.-П. Сартр, М. Фуко, М. Шюц. Здесь перечислены мыслители, которых нельзя упрекнуть в незнании учения Эдмунда Гуссерля или в непонимании его. Однако, тем не менее, не все они являются феноменологами. Почему? В предельно расширительном смысле к феноменологам можно было бы причислить вообще всех, кто хотел бы так называться, кто время от времени использует феноменологическую терминологию, но, как правило, сводит ее к «феноменологическому остатку». Но на наш взгляд феноменологом действительно может быть только тот, кто практикует принцип феноменологических редукций. Это основа метода Э. Гуссерля. И поскольку без них, без этих редукций, феноменология невозможна, приходится вводную лекцию начинать с объяснения наиболее сложного шага в феноменологической практике. Дополнительная трудность состоит в том, что Гуссерль осознавая значение феноменологической редукции для феноменологии, разрабатывал эту процедуру на протяжении всей своей жизни, так и не изложив ее в законченном и систематическом виде. 8 Целью феноменологической редукции было обоснование перехода от «естественной установки сознания» к феноменологической. С точки зрения «нормального сознания» («естественной установки») «объективный мир» - это постоянный, устойчивый, существующий независимо от нас первичный источник всех наших знаний. С феноменологической точки зрения все обстоит как раз наоборот: само сознание является основой реальности и всех представлений о ней. Именно в этом строго обозначенном смысле сознание является источником «реальности», и вне его не может быть никакого знания о внешнем для сознания мире. Феноменология - это очевидно - начинается с потрясения основ обыденного сознания и даже здравого смысла. При этом Гуссерль вовсе не отрицает реальности внешнего мира, - реальное для него существует проблематически и гипотетически и получает определенность в большей или меньшей степени, когда мы приписываем реальным предметам тот или иное содержание. Доступ к объективному с феноменологической позиции всегда блокирован примысленными к нему смыслами, определениями, оценками, качествами, которыми наделяется предмет. Таким образом, феноменологическая редукция означает «сведение» объектов, вещей, «реальностей» к их, так сказать, мысленным эквивалентам, «явлениям в сознании». Именно в этом состоит суть феноменологической редукции, как «феноменологического обращения» внешних объектов в феномены. Отсюда следует феноменологическое правило: не следует сравнивать реальные вещи с их мысленными отражениями (феноменами), но следует сравнивать разные способы осознания реальности, реконструировать разнообразные смыслы реального. Все, что принято считать реальным в естественной установке сознания, согласно которой вещи существуют вне нас (еще раз повторим, что это не оспаривается Гуссерлем), не является в строгом смысле предметом научной аналитики. Наука лежит не по ту сторону сознания, она и есть сознание как таковое, а именно, «род систематизированного единства представлений». После определения значения феноменологической редукции, вернемся к вопросу о практическом назначении феноменологии. Здесь вот что важно. Феноменология описывает «феномены», - бесконечно разнообразные предметно-смысловые модификации, или продукты сознания в виде ее собственных порождений (предметов и смыслов), причем дескриптивный метод – это именно описание феноменов как конкретных структур сознания, как их порождающей основы. Как ни в какой иной философской теории, в феноменологии огромное значение имеют примеры, т.е. анализ конкретных случаев, имеющих структуру феномена. Оригинальность феноменологической философии состоит именно в практике обращения к примерам. При этом единичные случаи, «феномены», или «экземплификации», не могут быть использованы как способ популяризации отвлеченной теории. Употребление примеров не мотивируется в феноменологии потребностью образного усвоения метафизического материала 9 или его подтверждения (верификации). Другими словами, пример не является в феноменологическом исследовании ни иллюстрацией, ни наглядным доказательством, ни приложением приблизительно подходящего случая к идеальному содержанию, которое подвергается философской интерпретации. Напротив, если пример привлекается в феноменологическом рассуждении, от него в дальнейшем невозможно освободиться, он врастает в исследование не как его, в общем-то, необязательный балласт, а как его необходимое содержание. В этом смысле примеры не облегчают философское содержание, а вводят в него дополнительную сложность и напряженность. Они включаются в целостную структуру дескриптивного анализа. Феноменология по своей сути – конкретная наука. Обращение к примеру – длительная и сложная, многотрудная феноменологическая процедура. Она не предполагает экономии аналитических ресурсов, а напротив, способствует необходимости задействовать все методологические правила и принципы, чтобы удержать единичный случай в феноменологическом исследовании, описать его - а значит - понять. Потому мы и будем изучать феноменологический метод как описания конкретных культурных феноменов. Феноменологическая редукция, вообще говоря, имеет значение в двух отношениях. Во-первых, она, как было показано выше, позволяет осмыслить, сколь сложно осуществлять переход к объективному порядку вещей и налагает запрет на наивное представление о смысле реальности. В более узком смысле феноменологическая редукция дает доступ к трехосновному анализу структуры феномена – 1) к его предмету, 2) к разнообразным смыслам, которыми он наделяется, и 3) ко всем возможным способам, какими он может «реализоваться» в сознании. Структура феномена лежит в основе феноменологической дескрипции. Рассмотрим каждую из основ феноменологического описания. Предмет. Гуссерль показывает, как мы предметно организуем нашу мыслительную деятельность. Главное, что следует здесь прояснить, это как предмет может быть определенным и многообразным одновременно. Предмет является как «“тождественное”, отделенное от меняющихся переменчивых предикатов», как некоторое фиксированное ядро явления. В этом смысле предмет – это “простое Х”, абстрагированное от всех конкретных качеств. Он представляет собой нечто, чему мы даем имя («это – стол», «это дождь», «это – сон», «это - я», «это – Петербург» и т.д.). Предмет – это «подразумеваемое как таковое». На полюсе идентичной тождественности предмет схватывается в категориальной интуиции (т.е. в простодушном и нерефлексируемом узнавании именно этого конкретного явления), просто как «вот этот предмет». Но при этом он обладает некоторой неопределенностью («неопределенной тождественностью»), в нем как будто то бы сосредоточен определенный резерв смыслов. При всех разноречивых характеристиках, которые мы можем дать, например, такому сложному предмету, как Петербург, является именно Петербург, и при всех интерпретациях этого 10 конкретного предмета нашего сознания, мы должны быть уверенными, что мы его не утрачиваем. В противном случае произойдет подмена предмета, и он станет «квазипредметом», «псевдопредметом». Итак, предмет – это фиксируемая самыми разнообразными способами (в словах, в именовании, в наблюдении, в интуитивной уверенности и даже в заблуждении) определенность явления. Смысл. При этом, как было сказано, предмету присваиваются все новые и новые смысловые качества. Смысловая целостность формируется на различных уровнях, - это может быть непрерывность восприятия, когда предмет осуществляется сознанием в длительности своего воспроизводства, в естественной установке мы говорим, что предмет нам дан как «внешняя реальность» в своем «объективном существовании» (например, мы едем в троллейбусе по улицам Петербурга и видим его меняющиеся виды). Мы можем вспоминать предмет, и он тоже нам предстоит как некоторая иным образом осуществляемая его явленность (например, мы вспоминаем, каким Петербург был десять лет назад). Мы можем воображать этот предмет (например, представлять, как Петербург изменится, если в нем появятся новые постройки). Мы можем рассуждать о «пушкинском Петербурге», «елизаветинском Петербурге», «Петербурге мирискуссников» и т.д., в соответствии с теми дополнительными к его неизменной – предметной – сути определениями, которыми мы его наделяем. Но стоит отметить, что, строго говоря и последовательно мысля, Петербург – это абсолютно идеальная сущность, и видеть такой предмет как Петербург невозможно, его можно только мыслить. Потому формы сознания, которые конституируют (буквально – учреждают сознанием) такого рода предметы, имеют не непосредственный, т.е. данный в восприятии, а репрезентативный (представленный в сознании) характер. И существование таких предметов возможно благодаря многообразным модификациям сознания – особым и бесконечно разнообразным способам деятельности сознания. Основными модификациями являются восприятие и воображение. Подведем итог. Анализ такого предмета сознания, как «Петербург» показывает, что он является производным от деятельности сознания как такового. При этом он относится и к «трансцендентным» предметам, для которых источником их явления служит внешний опыт сознания (восприятие), в котором окажутся представленными отдельные предметы (улицы, здания, площади и т.д.), и к «имманентным» предметам, т.е. таким, которых в восприятии не встретишь, источником их является представление. Совокупность трансцендентных и имманентных предметов и дает явление «Петербург». Источником его является сознание, и только сознание. Если внимательно относиться к такого рода различениям, то, согласно 11 феноменологической теории Гуссерля, мы могли бы увидеть отдельные здания, площади, даже кварталы в перспективе других зданий, находящихся в поле конкретного видения, заданного возможностями нашего зрения. Но мы никогда не увидим предмет, который в абсолютном и полном соответствии с его сущностью назывался бы «Петербургом», потому что «Петербург» - это чисто ментальная (мыслительная) предметная конструкция, удерживаемая в потоке сознания, в котором одновременно могут быть представлены, смутно или вполне отчетливо, и другие предметы. Любой предмет, данный в сознании, обременяется далекими и близкими ассоциативными отношениями, возникающими и спонтанно, и в контролируемых, последовательных, ожидаемых, «отлаженных» связках смыслов. Насыщенность предмета смыслами может соответствовать такому уровню, который Гуссерль определяет как «ноэма», или «фундаментальный кусок смыслов», или «согласованное единство смыслов». Итак, посредством принципа феноменологической редукции определяется своеобразная тематизация реального в феноменологии: “реальное” включено в структуру дескрипции не как предданная сознанию и независимая от него его основа, но как коррелятивная – смысловая его форма. Другими словами, реальное – это один из возможных смыслов, который присваивается сознанием предмету, точнее сказать, вменяется ему как “смысл реального”. В феноменологии такие понятия как “вещь”, “трансцендентное”, “множественное”, “внешнее”, “реальное” должны использоваться весьма осмотрительно. В свете феноменологической редукции коррелятом «Петербурга» является не реальный объект, с которым бы мы его сравнивали. Не стоит искать некоторый «реальный» предмет, не затронутый и не затемненный сознанием. В феноменологии сознание является вообще единственным источником света, и невозможно, или, как говорит Гуссерль, «противосмысленно» искать предметы вне этого источника. Сознание не противопоставлено «реальному объекту», а является единственно возможной порождающей его основой. Вот так. Если предметом описания является «Петербург», что, с точки зрения феноменологической дескрипции, входит в его содержание? Что конкретно описывается, если «реальный Петербург», или «Петербург-как-он-есть-насамом-деле», редуцирован? Поскольку феноменология – это описательная, к тому же еще «строгая» наука, следует всякий раз обращаться к конкретным случаям и на их основе строит феноменологическую дескрипцию. ЛИТЕРАТУРА. 1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. М., 1999 2. Гуссерль Э. Идея феноменологии. СПб., 2006 12 3. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994 4. Мотрошилова Н.В. Работы разных лет: избранные статьи и эссе.(Серия «Феноменология – Герменевтика») М., 2005 ЛЕКЦИЯ 2. Проблема множественности описаний в феноменологии 1. Эмпиризм и скептицизм в решении вопроса о множественности описаний 2. Критика Э. Гуссерлем эмпиризма и скептицизма в первом томе «Логических исследований» 3. Проблема тождества предмета описаний, или предметной идентичности 4. Роль описания конкретных примеров в феноменологии 5. Причины многообразия, несогласованности и противоречивости описаний, данных в “естественной установке сознания” (сложность структуры, идея материального воплощения сверхрационального порядка). 6. “Естественная установка” как основа предметного несоответствия. 7. Логика феноменологической редукции На рубеже ХIХ и ХХ вв. в философии не в первый раз и с новой силой развернулась полемика эмпириков и скептиков. В этот спор включился Э. Гуссерль. В 1900 г., как известно, выходит двухтомный труд Гуссерля “Логические исследования”, благодаря которому немецкий философ не только стал знаменитым в германских университетах, но следствием которого он вскоре пришел к обоснованию собственно феноменологической теории и сформировал общие принципы собственного исследовательского метода. Первый том посвящен анализу следствий, проистекающие из основных посылок эмпириков и скептиков. Представители эмпиризма, в новейшей истории философии его представителями стали позитивисты, стремились обосновать границы опытного исследования, и тем самым показать пределы истинностного, с их точки зрения, знания. Гуссерль доказал, что парадоксальным, но неизбежным итогом всякой позитивистской эмпирической программы становится ее противоположность - скептицизм. движущая сила. Скептическая философия также содержит в себе свою собственную противоположность: поскольку скептически ориентированное исследование возникает на почве радикального сомнения в возможностях разума непротиворечивым образом описывать реальность, то скептики приходят либо к пирронову1 варианту пустого, принципиально бессодержательного знания, либо к признанию эмпирической почвы как единственной формы разумного познания. Гуссерль усматривает в 1 Древнегреческого скептика Пиррона пытались убедить в том, что есть такие вопросы, на которые можно дать положительный ответ. И вот его спросили: «Пиррон, ты умер?». На что последовательный скептик ответил: «Не знаю». 13 исторических примерах скептического учения либо тезисы скрытого эмпиризма, либо формы радикального сомнения, значение которого не было понято самими скептиками, в силу которых те не смогли достичь позитивных результатов на почве, которую Гуссерль рассматривает как основу феноменологического учения о сознании. Общий вопрос, который определяет проблематику как скептической, так и эмпирической философии – это вопрос о субъективной природе всякого познания. Основная сложность, с которой мы здесь сталкиваемся, заключается в бесконечности опыта, состоящего из многообразного множества возможных мнений, открытого незаконченного ряда описаний, относящихся к одному и тому же эмпирическому объекту, из разнообразных предикатов и признаков, прилагаемых к изучаемому предмету. Возникает вопрос о тождественности предмета этих описаний, предметной идентичности. И каждый раз, удостоверившись в том, что во всех случаях имеется в виду “одна” действительность, один и тот же объект, определяются причины расхождения в описаниях, ставится вопрос о влиянии субъективных обстоятельств, об ограничениях, налагаемых условиями опыта, об историчности, неизбежно влияющей на знания. Реконструируя весь ход эмпирических исследований, сравнивая результаты различных опытов, можно прийти к скептическому выводу о принципиальной невозможности однозначного решения проблемы приведения к единству, однозначности и истинности эмпирического описания. Проведенный во всей полноте эмпирический опыт приводит к скептическому выводу об ограниченности и относительности человеческого знания о реальном мире. В каждом пункте эмпирического исследования радикальное скептическое сомнение либо оставляется без внимания, либо интерпретируется как неустранимая граница познания и одновременно как его историческая движущая сила. Чтобы оценить радикальность феноменологического подхода к подобным проблемам следует проанализировать решение всей этой проблематики методом описания (дескрипции) самого Гуссерля. Для более ясного понимания различия в эмпирическом и феноменологическом способах описания обратимся к конкретному примеру, к частному случаю описания объекта, доступного восприятию. Для этого воспользуемся описаниями известной византийской достопримечательности – константинопольского собора св. Софии. Источники этих описаний могут быть разного рода – ненаучными и научными. Но для нас это различение не имеет смысла, поскольку материал, который историк извлекает из какой-либо мемуарной литературы, можно рассматривать как пример ненаучного описания, как эмпирическую данность разной степени очевидности. Но включенный в ученый комментарий он приобретает в исторической науке смысл источниковедческого материала разной степени достоверности. Поэтому будем рассматривать все описания просто как формы 14 разнообразных восприятий, как непосредственные интуитивные данности сознания, как материал в установке “естественного сознания”. В знаменитом письме Епифания Премудрого Кириллу Тверскому, относящемуся к началу XV века, мы находим такое описание собора св. Софии Константинопольской: “...достоинство и величина ее подобны Московскому Кремлю, – таковы ее окружность и основание, когда обходишь вокруг. Если странник войдет в нее и пожелает ходить без проводника, то ему не выйти, не заблудившись, сколь бы мудрым ни казался он, из-за множества столбов и околостолпий, спусков и подъемов, переводов и переходов, и различных палат и церквей, лестниц и хранильниц, гробниц, многоразличных преград и пределов, окон, проходов и дверей, входов и выходов, и столпов каменных”2. Николай Гумилев, побывавший в св. Софии на пять веков позднее, описывает ее в “Африканском дневнике” и наделяет совершенно иными характеристиками: “Мы отринули повешенную в дверях циновку и вошли в прохладный, полутемный коридор, окружающий храм. Мрачный сторож надел на нас кожаные туфли, чтобы наши ноги не осквернили святыни этого места. Еще одна дверь, и перед нами сердце Византии. Ни колонн, ни лестниц, ни ниш, – этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух. Сорок окон под куполом кажутся серебряными от проникающего через них света. Узкие простенки поддерживают купол, давая впечатление, что он легок необыкновенно”3. Еще одно описание того же самого храма дано в “Путешествии в Стамбул” И. Бродского: “Но мечети Стамбула! <...> В них и в самом деле есть нечто угрожающе потустороннее, абсолютно герметическое, панциреобразное. <...> И если перо не поднимается упрекнуть ихних безымянных правоверных создателей в эстетической тупости, то это потому, что тон этим донным, жабои крабообразным сооружениям задан был Айя-Софией – сооружением в высшей степени христианским. <...> Архитектурный стандарт Византии был доведен до своего логического конца. <...>, и сама-то она была сооружением не римским, но именно Восточным – Сасанидским. Как и нельзя упрекать того, неважно-как-его-зовут, султана за превращение христианского храма в мечеть: в этой трансформации сказалось то, что можно, не подумав, принять за глубокое равнодушие Востока к проблемам метафизического порядка. На самом же деле за этим стояло и стоит, как сама Айя-София с ее минаретами и христианско-мусульманским декором внутри, историей и арабской вязью внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все в сущности есть узор ковра”4. 2 Письмо Епифания Премудрого к Кириллу Тверскому // Изборник. М., 1969. С. 3 Г уми л е в Н . Африканский дневник // Зов Африки. М., 1992. С. 116. Б р о д с ки й И . Путешествие в Стамбул // Город и мир. Л., 1991. С. 38–39. 401. 4 15 Дмитрий Мережковский продолжает ряд описаний Айя-Софии: “...Мекка – Иерусалим магометан – лежит к юго-востоку, – и вот ныне главный алтарь в м е ч е т и А й я - С о ф и я не в середине храма, а чуть-чуть правее. Желтые свежие циновки, сплошь устилающие пол, низкие лампады, кое-где низкие скамьи и подушки – все это как бы стягивается, влечется устремлением вправо, слегка, полузаметно, но упорно, и если вы это увидите, то уже нельзя отделаться от какой-то мутящей тоски, от впечатления внешней перекошенности всего здания, такого строгого и стройного в своей сущности. Какой крошечный, низенький балдахин над новым алтарем магометанским и как величествен широкий купол над древним пустующим алтарем!”5 Итак, все описания относятся к “естественной установке”. Что это значит? Только одно - что все авторы видели предмет описания перед собой как «объективную реальность». Попытаемся собрать в одну коллекцию сведения, содержащиеся в разных источниках. Итак, во всех приведенных выше описаниях отражается восприятие определенной архитектурной формы. Все они характеризуют одно и то же ранневизантийское архитектурное сооружение VI века н.э. – времени расцвета оригинального стиля христианского зодчества, возникшего в юстиниановскую эпоху в столичном Константинополе. Множество причин определяло характер конструкции, символическую и образную структуру ранневизантийских христианских соборов. Стиль храмовой архитектуры складывался постепенно. Возникнув на территории Римского государства с устоявшейся архитектурной традицией, основы которой были заложены античной ордерной системой, византийское зодчество не ограничилось греко-римским каноном. В Византии проявились как классическая античная архитектурная традиция, так и влияние восточной культуры. В ранневизантийской архитектуре использовались самые разнообразные типы сооружений – базилика с каменными сводами или со стропильными деревянными перекрытиями; центрические сводчатые конструкции и пр. Но ко времени правления императора Юстиниана в результате синтеза двух архитектурных элементов – римской базилики и купольной конструкции – христианство приобрело одну из основных форм своих культовых сооружений – купольную базилику. В VI веке в Константинополе почти одновременно строятся сооружения, которые послужили образцами для архитектуры всей последующей тысячелетней истории Византии, – церковь Сергия и Вакха, церковь св. Ирины и тот самый, описанный русскими авторами храм св. Софии Константинопольской. Если два первых сооружения еще сравнительно скромных размеров (это одноапсидные храмы с нартексом и двором-атриумом), то храм Софии Константинопольской прославился как “чудо и слава века”. Его возвели малоазийские зодчие Анфимий из Траллеса и Исидор из Милета. 5 М е р е ж ко в с ки й Д . Больная Россия. Л., 1991. С. 83. 16 Архитектура этого храма поистине удивительна. И внешне храм производит впечатление своими внушительными размерами, но нужно войти вовнутрь, чтобы по достоинству оценить продуманность в соединении разнообразных внушительных пространственных объемов, связанных в одно целое с невиданной до того органичностью. Пространственная целостность составляет стержень всех многообразных впечатлений, которые можно извлечь из созерцания этого собора. Несмотря на то, что в интерьере используется ордер, который задает соразмерные человеку пропорции, принцип устройства внутреннего пространства совершенно иной, нежели в античной архитектуре. Все здесь подчинено мистагогии, т.е. все должно производить впечатление чудесного, непостижимого, недоступного человеческому разуму совершенства. Эффект мистагогии состоит в извлечении из материально-телесного состава сооружения смыслов незримо-значимых. Византийский историк Прокопий Кессарийский, посвятивший св. Софии специальный труд, первым описал купол будто бы парящим в воздухе, как бы подвешенным на золотых цепях к небу. В сооружениях такого рода логика конструктивной схемы должна быть скрытой, не такой рационально ясной, как в ордерной системе. Пилоны, которые служат опорой для очень большого купола, укрыты в толще стены, от них вверх незаметно – от куба подкупольного пространства к полусфере завершающего объема – поднимаются сферические треугольники парусов, на которых держится огромный низкий барабан, сплошь прорезанный аркадой окон. Распор купола (давление его веса на несущие опоры) гасится двумя полукуполами, примыкающими с восточной и западной сторон основного объема. С юга и севера его вес перераспределяется на контрфорсы – стеновые утолщения главного нефа, которые принимают на себя тяжесть давящей сверху массы. Один гигантский пространственный объем присоединяется к другому, за счет этого одна совершенной формы часть пустоты сочленяется с другой. И, как во всяком совершенном творении, именно рисунок пустоты и представляет в архитектурном произведении основную эстетическую ценность. Причем, как во всяком христианском сооружении именно внутренняя организация пространства была главной целью устроения. Св. София входила в целый комплекс жилых сооружений императорского квартала, и это в немалой степени способствовало впечатлению некоторой беспорядочности и разбросанности, которое она производит извне, и тем разительнее выступает его ясная, но разнообразная пространственная структура внутри храма. Итак, многообразие и противоречивость впечатлений, отраженных в четырех описаниях, отчасти спровоцированы самой структурой конструкции и идеей материального воплощения сверхрационального порядка. Но сразу же уточним позиции. Описывающие храм авторы стоят на “естественной установке сознания”, т.е. все характеристики храма, которые они дают, относятся не к структуре восприятия-сознания как такового, а к его объективированному образу. Другими словами, нигде ни одним автором не 17 высказано ни малейшего сомнения в том, что храм св. Софии является “на деле” чем-то иным по сравнению с тем, как его описывают. Но может ли в непосредственном восприятии разрешиться проблема сущностного выражения описываемого предмета? Или можно так сформулировать вопрос: отражают ли авторы суть того, что им предстает в их опыте видения этого храма? Видимо, несмотря на множество интерпретаций (включая и ту, которую можно характеризовать как историкокультурологический комментарий, который здесь также был представлен и который в основном опирался на исследования знатока византийских древностей П. Кондакова), мы не можем из них извлечь представление о том, как на самом деле выглядит собор св. Софии. Почему? Не только потому что их – множество и они противоречат одно другому. В них самих заключается источник недостоверности. Проясним это положение и тем самым покажем не только сложности в знании «истинного положения вещей», но выявим причины ограниченности опытного знания в гуманитарных науках, явившихся основой идей в скептической теории. Первое описание представляет интерес не столько потому, что Епифаний Премудрый был одним из замечательных русских авторов, жившим на рубеже XIV и XV веков, подвизавшимся в Троице-Сергиевом монастыре, знавшим многих знаменитых людей своего времени, и среди них – Феофана Грека, о котором идет речь в письме, – сколько потому, что в этом документе Епифаний Премудрый описывает то, чего он никогда не видел. Вся оригинальность и ценность этого письменного источника состоит именно в том, что в нем зафиксированы не непосредственное созерцание собора и не воспроизведенные по памяти впечатления, но совершенно иного рода представления. Поскольку Епифаний никогда не был в Византии, источником описания являются, повидимому, образцы тех церквей, которые он мог видеть на Руси в начале XV столетия. Встает вопрос, мог ли Епифаний Премудрый встретить сооружения, сравнимые с константинопольской постройкой? Есть смысл обратиться к трем русским Софиям – Новгородской, Киевской и Полоцкой, которые являются самыми представительными русскими храмовыми постройками, и относятся они к XI веку. Киевская София – девятиглавая базилика с крытой, вероятно, не сразу, обходной галереей по периметру основного объема. В ней тяжелые цилиндрические (а не более легкие крестово-купольные, как в константинопольской Софии) своды опираются на массивные внутренние опоры. Обилие куполов создает конструктивные сложности для размещения большого количества опорных устоев, которые поддерживают купола внутри храма. Они разгораживают церковь на множество пространственных ячеек. Все вместе взятое определяет ее конструктивные особенности и порождает тот характер внутреннего устройства, которое описывал в своем письме к Кириллу Епифаний Премудрый, а именно: громадное сложное пространство, загроможденное и запутанное внутри. 18 Другой тип храма складывается в следующем столетии на другой оконечности тогдашнего русского мира – во Владимиро-Суздальской земле. Ядро такого пространства составляла сравнительно небольшая одноглавая церковь, которую обносили обходной галереей, а по углам ставили еще четыре купола. Так создавался знаменитый и послуживший впоследствии образцом для многих русских храмовых построек Успенский собор во Владимире. Еще чаще первоначальная ячейка пространства расширялась за счет многочисленных приделов, т.е. за счет приращения близлежащего внешнего пространства. Все эти постройки могли быть величественными и грандиозными снаружи, но затесненными и перегороженными изнутри6. Итак, в изображении Епифания Премудрого византийский константинопольский собор больше похож на древнерусские храмы. Характерную внутреннюю пространственную перегруженность, дробность и затесненность, возникающую из-за множества куполов и, следовательно, из-за массивности внутренних опор, “описывает” в качестве константинопольской святыни Епифаний, перенеся особенности местного русского зодчества как норму на главную византийскую святыню. Но, с другой стороны, Епифаний повествует даже не о самом лучшем христианском храме, но об идеальном архитектурном устройстве, поэтому его сверхумную сложность и тщательно проработанную пространственную организацию следует отнести на счет идеи сверхрационального порядка. Очевидно, что в письме Епифания Премудрого к Кириллу Тверскому отражаются сплетение и несовпадение двух различных культурных основ – византийской и древнерусской, а византийская идея храма как воплощенного божественного миропорядка в его описании наделяется признаками типично русского конструктивного решения. Если судить об источниках описания константинопольского храма Епифания Премудрого, то ими могут быть не только его личные впечатления от конкретных русских церквей; но и многочисленные для того времени рассказы паломников – их описания константинопольского собора также входят в структуру епифаниева письма. 6 XV век – трагический для православия, в середине этого столетия пала Византия, Константинополь был превращен в Стамбул, а св. София – в турецкую мечеть. В следующем столетии русская культура отходит от византийской архитектурной формы, и в церковном зодчестве утверждаются совершенно новые образцы, более всего ориентированные на русские столповые смотровые башни. В 1555 г. при Иване Грозном на Красной площади освящается Покровский собор, "что на рву", более известный как храм Василия Блаженного. Девять столповых церквей на одном основании – такова конструкция этой церкви, в которой полностью угасает византийский строительный канон. И в более откровенной форме в этой конструкции проявляется все та же "сложносочиненная" основа русского храмового строительства, дробность и тяга к пространственным вертикальным колодцам. 19 Подведем итог: мы видим, что описание конкретного предмета состоит не только из свидетельства глаза (причем опосредованного многими обстоятельствами и потому косвенного), но и из множества мыслительных конструктов, которые едва ли не в большей степени повлияли на содержание характеристики предмета, которую дает этот автор. Другими словами, свидетельство о предмете имеет источник не только во внешнем восприятии, но и в самом сознании. И это принципиально для феноменологической установки. Описание Николая Гумилева строится на иной конститутивной (т.е учреждаемой сознанием), как сказали бы феноменологи, основе. Н. Гумилев ищет подтверждения своему старинному переживанию в повторном посещении святыни и в соответствии с акмеистической традицией воспроизводит некий изначальный, идущий из самого источника, отчетливый и ясный образ св. Софии. Но несмотря на то, что Н. Гумилев апеллирует к непосредственному переживанию – изображает то, что вот сейчас открывается ему в прямом зрительном опыте-созерцании, текст этого описания также свидетельствует о разных формах опосредования. Сравнение (православный храм – исламская цитадель – католический готический собор), которое является опорой и основой образа, вместе с ассоциативными связками и отсылками, в которых выражается спонтанная психическая деятельность сознания («поток сознания»), определяют содержание того, что как будто бы является в ничем не опосредованном конкретном восприятии. Также и некоторая умозрительная мера, заключенная в понятии “пустота”, влияет на характер формирования реально наблюдаемых признаков объекта. Нет сомнения в том, что значение слова “пустота” здесь требует смыслового прояснения. Тем более, что оно выступает одновременно и в смыслообразующей предметной функции (“как бы восприятия”), и в качестве своеобразного архитектонического субстрата самого константинопольского сооружения. Можно выявить два значения, в каких используется понятие «пустота» в описании византийской церкви у Гумилева: 1) как незанятое материальными телами место и 2) как особая энергия, раздвигающая и рассредоточивающая плотные архитектурные массы. Крупные юстиниановские постройки формировали тот тип грандиозного храмового сооружения, в котором пустота выступала архитектонической целью конструкции, исходно управляющей архитектурной массой и придающей зримые качества пространству. В этом смысле пустота визуализирована в византийской архитектуре, вылеплена в ней как результат особой архитектурной телеологии (цели) и особых усилий архитекторов. В аристотелевской терминологии взаимодействие пустоты и материи, которое задает форму великим архитектурным шедеврам, определяется понятием «субстрат», оно характеризует отношение материи, формы и того, “что из них состоит”. (Заметим здесь, что мы в своем анализе описаний пока что стоим “на пороге” феноменологии, поэтому, и анализ описаний, и сами описания имеют под собой 20 критикуемую Гуссерлем “естественную установку”. Тем не менее становится очевидным, что непосредственные зрительные впечатления, которые Н. Гумилев передает в своих описаниях, во многих отношениях замешаны на метафизической основе. Главное, что мы извлекаем из множественных характеристик храма, заключается в том, что “реальное”, которое представляет собой предмет описания разных авторов, обнаруживает свою ментальную природу, или, в соответствии с определением Э. Гуссерля, оно является интенциональным, т.е. включенным в сознание, его содержанием.) Другой ментальный коррелят (т.е. смысл, с которым предмет описания постоянно соотносится и который определяет направление его “эйдетического» /смыслового/ развития), связан с комплексом зрительных впечатлений, имеющим отношение к готике. Готика задает определенный порядок зрительных м умозримых ожиданий и ассоциативных отсылок. У Николая Гумилева противопоставление “византийско-турецкой действительности” “готическим ассоциациям” осуществлялось в плоскости “истинных/неистинных” предикатов. Конечно, следует иметь в виду, что корректность аргументации вообще здесь не проблематизируется, но в соответствии с акмеистической программой поэта Гумилева объект описания сам выступает как будто бы некоторой мерой, полнотой совершенства, энтелехией (совершенной формой), регулирующей процесс правильного атрибутирования адекватных ему признаков. Готическая архитектура хоть и не выходит непосредственно из тех же истоков, что и византийская, в ней не менее важное значение имеют контрасты пустого и протяженного. В готике пустота перестает быть неподвижной целокупной пространственной средой, она, если можно так выразиться, претерпевает здесь существенные трансформации. Корпус готического собора выполняет роль гигантской машины, закачивающей пустоту вовнутрь, но не для того, чтобы она приняла там форму покоящейся однородной и неизменной массы. Готический храм так же, как пифагорейское небо, “дышит пустотой”, которая здесь движется, вибрирует и, пропущенная через фильтры храмовых стен, отстаивается и превращается в пустоту-цвет, пустоту-звук. В готическом сооружении архитектурная коробка – это резонатор пустоты, преображающий ее и извлекающий из нее особые возможности. Такой музыкальный инструмент, как орган, мог появиться именно в подобном пространстве. Первичный звук пронизывается своими отражениями и в диапазоне от полутона до октавы возвращается к звуку-источнику, соединенный в тональные единства. Сцепленный в звуковой ряд, он теперь существует в целостности мелодии. Готический витраж также не является случайно возникшим здесь декоративным излишеством: многоцветные стекла, фильтрующие прозрачную среду, раскладывают свет на цветовые элементы в предуготованном для такого рода превращений пространстве. В готическом сооружении средствами архитектуры также определен порядок мистериального взаимодействия на границах видимого и невидимого. 21 Зрительные впечатления и эстетические переживания благодаря такому архитектоническому замыслу развиваются в определенном направлении. Вопрос состоит только в том, откуда в “непосредственных” описаниях константинопольского собора у Н. Гумилева берется “чистый фантазм” готики, который прямо влияет на форму того, что является перед ним как некая “другая” “реальность”. Если описание Епифания Премудрого все целиком – с позиции здравого смысла – имеет фантазматический (придуманный) характер, то характеристика св. Софии Гумилева скорее прививает фантазм как побочную ассоциативную аналогизирующую отсылку. Вывод, который напрашивается как результат сравнения этих двух описаний, и который приближает нас к началам феноменологии, состоит в том, что как первое, так и второе описания имеют точки опоры в “объекте” в той же мере, в какой в самих наблюдающих. При этом здравый смысл требует, чтобы на полюсе объектности описание стремилось бы к адекватным сущностным характеристикам (которые в пределе сводятся к указыванию на объект, потому что даже имя объекта выражается, как правило, неоднозначно). На полюсе субъектности описание беспредельно расширяется в бесконечном многообразии предикатов. Это значит, что описание, которое производится с позиции «естественного полагания», несет в себе неразрешимое противоречие. Что касается путешествия И. Бродского, то в его описании еще явственнее проступает влияние частных обстоятельств в производстве содержания описываемого предмета. Появление автора в константинопольских пределах столь же случайно, сколь и закономерно. Причиной путешествия в Стамбул является неустранимая неприкаянность автора и ностальгия, заставляющая его перемещаться по параллели и меридиану, на пересечении которых стоит Ленинград, откуда поэт был насильственно выдворен и куда он не имел возможности долгое время вернуться. Накладывание на матрицу Ленинграда разных точек пространства приводит к тому, что наш путешественник всегда стремится туда попасть и всегда оказывается “не там”. Попытка преодоления неопределенности пространства и времени составляет субъективный мотив его передвижений и переживаний. В соответствии с исходной установкой он принципиально не хочет принадлежать ни одной точке пространства как точному, узнаваемому и однозначно именуемому месту, поэтому название храма изначально неопределимо, всегда относительно, как и предметная суть его, что это – православный ли это храм, или мечеть, или музей, точно так же, как и город – Византий – Константинополь – Стамбул – Истанбул или, может быть, Ленинград – Петроград – Петербург – Питер, и так до неограниченного множества. У Иосифа Бродского скептицизм в отношении объективного определения предмета описания совершенно очевиден. Эмпирическая непосредственность восприятия угасает в структурах рационального выражения содержания опыта. Итак, проблемы, которые возникают в определении Бродского связаны в первую очередь с неопределенностью 22 смыслов, которые присваиваются изображаемому предмету, начиная с его наименования. В описании Д. Мережковского проявляется слой “идеологических содержаний”, так или иначе влияющих на непосредственные переживания объекта. Мережковский воссоздает двойственность и противоречивость самого первоначального впечатления. Целью его описания, по-видимому, является выражение переживания превращения, трансформации святилища в “кумирню”. Византийская святыня, как известно, была обращена в мусульманскую мечеть после захвата Константинополя турками-османами. Мережковский не утверждает, что находится в месте, лишенном святости, наоборот, он оказывается в самом средоточии ее, но “трансцендентность” (т.е. то, что находится за пределами возможного понимания) оказывается невыразимой в переживании, а ее смысл остается абсолютно непроницаемым, он не может быть выражен в привычных – христианских - ценностных значениях. Для отображения своего переживания Д. Мережковский описывает ощущение незначительного пространственного перекоса, едва заметного, но ведущего к физически неприятному состоянию нарушения равновесия, к головокружению и легкой тошноте. (Посредством описания явного физиологического дискомфорта Мережковскому удается отразить пространственную аномалию с завихрениями, воронками, пространственными сквозняками). Ему важно показать нечто вроде ложноустроенного локуса, в котором очевидны пространственные сдвиги и перекосы. Таким образом, наш четвертый автор не столько показывает сам предмет, сколько описывает те эффекты, которые связаны с восприятием пространства в чистом виде, но делает это, опираясь на изначальные смысловые несоответствия, которые приобретает предмет описания (он теперь не византийский храм, но мусульманский). Кажется, какая разница, как назвать предмет, стоящий перед глазами. Но вот с очевидностью показано, что предметно-смысловая корреляция столь сильно меняет объект описания, что он оказывает в разных смысловых контекстах разное физиологическое воздействие. Таким образом, описывая реальный объект – “вот-этот-собор-которыйрасполагается-здесь-непосредственно-перед-нами”, четыре автора приходят к столь различным результатам, что возникает вопрос, какой же в самом деле предмет имелся в них в виду, и является ли он одним и тем же. Все описания в неявной форме имеют допущение, что наблюдается и описывается сам “порядок вещей”, само “объективное”, сама реальность, “сама св. София Константинопольская”. Эта предпосылка столь безусловно принадлежит всем без исключения описаниям подобного рода, что Гуссерль и назвал такое допущение “естественной установкой”. Очевидно, что на конкретном примере решение проблемы множественности описаний сущего, т.е. возможность сознания формировать свой предмет в бесконечных вариациях смыслов, порождает определенные сложности. Решение этой проблемы породило спор эмпириков – приверженцев опытного обоснования 23 философского знания и скептиков, которые подвергали критике основные достижения рационалистической и эмпирической философии. Прежде чем обратиться к феноменологическому истолкованию всей этой проблематики, попробуем разобраться в том, что является причиной бесконечного регресса описаний, с которым имеет дело каждый эмпирик и на который как на контраргумент указывает всякий скептик. Уже в “Логических исследованиях” Гуссерль выдвигает в качестве критического условия формирования философии как строгой науки требование отказа от “естественной установки”, которое на этапе зрелого феноменологического учения оформляется в метод феноменологической редукции. Смысл естественной установки заключается в том, что в соответствии с ней всему, что попадает в поле сознания, приписывается предикат существования, все предстает как “объективное положение вещей”. Гуссерль не считал критику “естественной установки” делом раз и навсегда решенным, – наоборот, он великое множество раз обращался к описаниям того, как она воспроизводит себя в сознании в силу его, так сказать, природного догматизма, коль скоро она проявляется именно как естественная. В “Идеях к чистой феноменологии”, своем программном сочинении, в котором уже заключены основные пункты его феноменологической теории, проблема преодоления – редукции – «естественной установки» является главной. Гуссерль воспроизводит логику здравого смысла, лежащую в основе «естественной установки»: “Поразмыслим над тем, что это означает: если нам начинать как людям с естественной установкой, то действительный объект – это вещь, она – там, снаружи. Мы видим вещь, мы стоим перед ней, мы устремили на нее свой взор; обретая ее в пространстве напротив себя, мы описываем ее и делаем свои высказывания о ней. Равным образом мы занимаем свою позицию, оценивая ее: это находящееся напротив нас, что видим мы в пространстве...”7. Заметим, что Гуссерль очень похоже излагает основание позиции всех наших вышеупомянутых авторов. Именно это нормальное и привычное отношение к тому, что дано “напротив” сознания, как к “объекту” Гуссерль и подвергает анализу. Радикализм его критики не сразу обнаруживает себя, так же как и все следствия, проистекающие из гуссерлевского сомнения относительно “объективного”. Суть его позиции состоит в том, что объективное (или объектное) находится не снаружи сознания как его источник и противоположное ему по способу бытия, а наоборот, оно находится “в” самом сознании как его собственный результат, более того, вне сознания объекты вообще не существуют. Гуссерль не боялся упреков и обвинений в идеализме. Он готов был признать себя идеалистом, всякий раз однозначно определяя, в каком именно смысле он соответствует этим определениям. Но с точки зрения Гуссерля, 7 Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 202. 24 строго говоря, феноменологически последовательный исследователь не является ни реалистом, ни идеалистом, совершая радикальное воздержание (он называл эту процедуру греческим словом «эпохе») от вопросов относительно существования по “ту сторону сознания”. Движение от первого ко второму тому “Логических исследований” состоит в том, что в первом Гуссерль осуществляет всестороннюю (историкофилософскую и методологическую) критику естественных полаганий, а во втором с позиции интенциональности и феноменологической редукции он замещает всю объективистскую проблематику интенциональнофеноменологической. Теперь все, что ранее приписывалось объективным вещам в качестве их реальных свойств, рассматривается как работа сознания, производимая относительно самих интенциональных содержаний сознания. Анализ “естественной установки” имеет значение для понимания природы обыденного сознания (в «Идеях к чистой феноменологии», в первой книге Гуссерль исследует его как структуры “нейтральных полаганий”). Посредством интенциональной установки Гуссерль обращается к той сфере, где реальность «полагается», т.е. к «реальности» сознания. Возвращаясь к нашему примеру, следует признать, что после произведенной редукции вопрос о том, каков в действительности предмет, который мы называем “храмом св. Софии в Константинополе”, является феноменологической противосмысленным, поскольку за пределами сознания, в котором предмет осуществляется в форме восприятия, или представления, или воспоминания, или воображения этого предмета, объектное отношение вообще невозможно. Таким образом, произведя “выключение” “реального”, “объективного”, “внеположенного” сознанию, Гуссерль делает бессмысленным и тот вопрос, над которым в естественной установке мы бились бы без всякой надежды на его разрешение, а именно – над вопросом о “пятой” св. Софии Константинопольской, т.е. над вопросом о том, что этот храм представляет собой “на самом деле”. В классической философии существовало несколько способов разрешения проблемы множественности описаний. Первый способ состоит в продолжении производства этих описаний и создании еще одного в бесконечном ряду возможных. Новое описание осуществляется при особом контроле над его производством. В этом смысле “естественная установка” имеет форму эмпирического оптимизма и подпитывается характерным для всего опытного познания стремлением увидеть нечто “собственными глазами” посредством прямого созерцания описываемого, которое, как предполагается, предоставляет преимущества в процессах познания, поскольку в описаниях регистрируются непосредственно наблюдаемые качества предмета. Результатом такого контроля должны бы стать “факты” или “положения дел”, которые следовало бы выражать синтаксически адекватным образом в предложениях, в которых предметы и смыслы состояли бы в однозначных и обратимых отношениях. Такой вариант решения проблемы описания предлагают все эмпирики 25 позитивистского толка. В нашем примере эта проблема имела бы разрешение тогда, когда бы мы стремились описать храм на основании одних только фактов, причем полученных из достоверных источников. В идеальном случае это означало бы возможность прямого созерцания, либо же обращение к фотоили киноматериалам, в которых опять-таки осуществлялась бы опора на непосредственное впечатление. Такой подход лишил бы всякой значимости рассуждение Епифания Премудрого, в описаниях остальных путешественников следовало бы вычленить непосредственный фактографический уровень изображения объекта. И вообще фактологический принцип познания, повидимому, совершенно неприменим к области описания предметов культуры, поскольку фактологически-фотографическая форма описания уступает индивидуально исторической. Но и таким образом построенная фактология не осуществима. Гегель в “Феноменологии духа” прикладывает много усилий к тому, чтобы показать, как, по его выражению, выдыхается истина непосредственности. Он осуществляет критику феноменологизма с присущими тому представлениями об “истинах чистой непосредственности”. Гуссерль критикует эмпиризм, опираясь на интенциональную установку, в соответствии с которой не может быть никакой “чистой фактографии”, кроме интенциональных созерцаний, которые в дескриптивной аналитике проясняются в принципиально иных аналитических процедурах, чем посредством так называемой объективной проверки. Второй классический подход к разрешению проблемы множественности описаний сущего предполагает некоторое совокупное описание, скрепленное правилом метода. Каждое из составляющих его анализируется с позиции полноты, достаточности, точности, аргументированности. Результатом такого поэтапно-последовательного объективного продвижения в исследовании становится, как правило, производство некоторого конечного истинностного описания, которое, тем не менее, должно быть подвергнуто новому акту ревизии. Тем самым регрессия смыслов и значений, характеристик и предикаций объекта не прекращается, и цели подобного методологического проекта никогда не бывают исполненными, что мы наблюдаем в варианте феноменологии Гегеля (особенно в частях, касающихся критики современной ему области “наличной” культуры), в герменевтике Х.-Г. Гадамера, в структурализме К. Леви-Стросса и т.д. Такой метод описания, так или иначе, всегда подчиняется определенной, но скрытой телеологии. А объективное изображение предмета оказывается звеном в регрессивном ряду описаний, как и в вариантах наивного эмпиризма, только в этом случае мы втягиваемся в “парадокс третьего”, описанный еще Аристотелем, суть которого заключается в разрешении проблемы истинностного описания в следующей, “более объективной” инстанции. Если перейти к нашему примеру, то определением того, какова церковь св. Софии в истинностном описании, может стать обращение к источникам, которые могут рассматриваться как “действительно 26 объективные”, научные, например, к искусствоведческой литературе, в которой содержание подчинено методу объективной проверки, что отличает его от мемуарного исторического источника.8 Знаменитый ученик Гуссерля М. Хайдеггер в работе “Мой путь в феноменологию” вспоминает, что его феноменологическим увлечениям предшествовали самостоятельные исследования вопроса о “множественности значений бытия”. Следуя интенциональной теории Гуссерля, Хайдеггер, по его собственному утверждению, “делал свои первые беспомощные попытки прорваться в философию. Моим побудительным мотивом, хотя и весьма неопределенным, было следующее размышление: если бытие обсказывается как имеющее множество значений, то какое же из них ведущее и основное?”9 Третья система разрешения проблем конструирования описания может быть представлена в гуссерлевой дескриптивной феноменологии. Как мы уже убедились, Гуссерль имеет склонность к использованию разного рода примеров. Исследователи феноменологической теории, например, В.У. Бабушкин полагают, что “интенциональный анализ может быть в той или иной мере эффективным только в том случае, если он опирается на уже имеющийся эмпирический материал (будь то повседневный или научный опыт) или же применяется в самом процессе научного исследования”10. Уже из этого понятно, что феноменология не содержит в себе запрета на работу с конкретными “случаями”, наоборот, основной мотив феноменологического исследования состоит в дескриптивном их описании, что позволяет нам, с одной стороны, определить как строится метод описания каких-либо объектов, а значит, и проясняются возможности феноменологической дескрипции, а с другой стороны, как выявляется 8 Парадоксальным сочетанием первого и второго подходов в решении проблемы описания является герменевтическая интерпретативная практика. Не ставя перед собой специальной задачи ее подробного анализа, можно отметить, что исходные определения в ней рассматриваются как принадлежность текста, а конечной задачей исследования текста является понимание, т.е. “сосредоточенность внимания «на самых фактах»", как характеризует процедуру Х.-Г. Гадамер в своей герменевтике фактичности (In-der-Welt-Sein). В "Истине и методе" Гадамер полагает, что "герменевтическая задача сама собой переходит в фактическую постановку вопроса" ( Га д а ме р Х . - Г. Истина и метод. С. 321.). Каким образом текст, который в интерпретативном исполнении имеет тенденцию к бесконечному расширению, соотносится с фактическим положением дела и каким образом обросший интерпретациями объект проявляет свою изначальную фактичность, остается в герменевтике неразрешенной проблемой. 9 Цит. по Б и мме л ь В . М . Хайдеггер, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Пермь, 1998. С. 38. 10 Б а б уш ки н В . У. Особенности феноменологического исследования научной проблемы (критический анализ) // Феноменологическая концепция сознания. Проблемы и альтернативы. М., 1998. С. 33. 27 структура того, что описывается, т.е. феномена, как раскрывается предмет и его конкретные смыслы в ходе феноменологического исследования. Очевидно, что проблема множественности значений является одной из фундаментальных проблем феноменологической науки. И главное, что мы должны извлечь на первом этапе феноменологических исследований - нам в первую очередь нужно избавиться от стремления свести проблематику в плоскость “естественной установки”, т.е. не сводить все к проблеме истинности или ложности тех определений, которыми в нашем примере наделены многочисленные описания собора св. Софии. В более жесткой формулировке это вопрос о соответствии описаний церкви реальной объективной вещи, какой является “реальная”, “действительная” София Константинопольская. Именно в такой форме вопрос невозможен в феноменологии. Итак, подведем итог нашему введению в феноменологическую проблематику. Феноменология Э. Гуссерля, в которой мы будем искать разрешение проблемы множественности предметных значений, с самого начала формировалась как философская процедура описания, как разработка особого дескриптивного метода исследования. Способ такой дескрипции в корне отличается от эмпирической установки на отражение “реального”, “фактического положения дел”, “самого объекта” или “объекта-как-он-есть-насамом-деле”. Уже на раннем этапе формирования феноменологии разные варианты объективистского подхода подлежат критике, и определяется действительный статус реальных объектов как интенциально представленных содержаний сознания. Описать их как феномен означает для Гуссерля в целом следующее: понять все культурно-исторические интерпретации не как структуры отражения, а как формы конституирования (учреждения, формирования, порождения) сознания. Он готов признать их поначалу “квазиобъективностями” или “квазиреальностями”, в дальнейшем он различает “реальное” (или объективное) положение дел в мире и “реальное” сознания, обозначая первое понятием “reale”, а второе – “reell”. Но затем Гуссерль заключает “объективности” мира в скобки в практике “эпохе”, т.е. налагает запрет на то, чтобы говорить о феноменах как реальностях или отражениях некоторой (неизвестно откуда берущейся помимо сознания) объективности. Сам Гуссерль множество раз начинал феноменологическую работу с последовательного и очень осторожного анализа объективистских заблуждений. В первом томе “Идей к чистой феноменологии” в главе, посвященной естественной установке и ее преодолению, Гуссерль обращается к самому простому, даже тривиальному примеру - описанию стола таким, каким он представляется в качестве объективной вещи. В этом описании феноменолог сначала сосредотачивается на том, что лежит в основании “опыта действительности”, что порождает у нас представление о мире как собрании 28 реальных вещей, представленных в практике “непосредственного наглядного нахождения мира”11. Он анализирует как будто бы неопровержимые и не требующие подтверждения основания полного принятия реальности как факта, как такого рода вещной самопроявленности, отрицать которую было бы чистой бессмысленностью. Однако, с позиции Гуссерля осмысленным является прямо противоположное, а именно, принятие этого существования как содержания (фактичности) сознания. Гуссерль обращает внимание на то, что пространственно “обналичиваются” не только те вещи, которые становятся предметами чувственного восприятия, зрительно-тактильных контактов с вещами, многообразных познавательных манипуляций с предметами (наблюдения, мышления, воления и т.д.), но и те, на которые непосредственно не направлено внимание, но которые тем не менее входят в сознание как неопределенный “фон”, как другого рода данности. Иными словами, в поле сознания попадают как вещи актуального окружения, доступные органам чувств, так и те, которые вообще не присутствуют непосредственно и в данный момент, но которые, однако, включаются в сознание, они как бы «маячат» в нем. Так вместе с письменным столом в сознание входят “периферийные” вещи – часть улицы, веранда, а вместе с ними и то, что является не “со-воспринимаемым” в созерцаемом пространстве, а “сознаваемым” в нем окружением, “неясно сознаваемым горизонтом неопределенной действительности”. Таким образом оказывается, что, с одной стороны, мир является неопределенным в горизонте эмпирической множественности, с другой стороны, сама неопределенность выступает формой осознания вещей, одним из модусов сознавания. Кроме того, сознание “застает” мир узнанным не только со стороны его пространственно-временных параметров, он оказывается уже “снабженным как свойствами вещей, так и ценностными характеристиками”. Можно сказать, что в “нормальном” сознании (т.е. в полном здравомыслии и во взрослом возрасте – эти оговорки в феноменологии важны) мы застаем мир вполне определенным благодаря конститутивной способности сознания производить эти определения12. “Естественная установка” в некотором смысле является формой угасшего сознания, т.е. сознания, которое просыпается во втором акте собственного представления в тот момент, когда мир видится ему возникшим помимо его собственного участия. Не принимая во внимание эту производящую деятельность, сознание относится к миру как к внешней действительности, как к “сущей – как такой, какой она мне себя дает”13. Выключение естественной установки в данном контексте означает возвращение к полному акту производства мира в сознании и в то же время 11 Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 65. Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 65–67. 13 Там же. С. 69. 12 29 исключение тезиса о полагании мира «существующим», «действительным», «реальным», «преданным сознанию», уже «готовым». В нашем примере посредством “выключения” естественной установки уточняются характеристики объективируемого сознанием содержания как производимого с разных позиций в разном смысловом фоне предмета, определяемого каждый раз как “собор св. Софии Константинопольской”. В конкретных, «позитивных» науках, или во всех возможных формах “реалистического естествознания”, ставятся наивные (непроблематизируемые и потому неразрешимые) исследовательские задачи создания дисциплин с объективным содержанием. Отсюда становится понятным радикализм гуссерлевского исследования – под сомнение ставится вся европейская традиционная наука, причем Гуссерль апеллирует не только к ее несовершенствам и недостаткам, но и к самим ее достоинствам, – его критика направлена на то, что принято рассматривать как устои рационального мышления. Эта тема всего философского пути Э. Гуссерля, начиная от “Философии арифметики” и заканчивая “Кризисом европейских наук…”. Важное уточнение в этом контексте состоит в следующем: на основании критики европейского рационализма феноменологию в целом никак нельзя рассматривать как новую форму интуитивизма и тем более как форму иррационализма. Смысл феноменологического анализа научных и философских теорий заключается в радикальном обновлении рационалистических аргументов с параллельной критикой мнимых очевидностей, предрассудков и выводов, сопутствующих им. Гуссерля никак нельзя отнести ни к эмпирикам, ни к скептически настроенным философам. В “Логических исследованиях” Гуссерль остроумно возражает Эрдману, философу-скептику, критикуя его за антропологический аргумент, суть которого состоит в утверждении, что человеку доступно только его родовое мышление, и он не в состоянии конструировать что-либо, принципиально от него отличное. Гуссерль полагает, что логически неантропологическое мышление возможно. Но, добавляет он при этом, если “нормальному” человеку, чтобы понять теоремы о трансцендентных Абеля, понадобилось бы пять лет, ему потребовалась бы тысяча лет для того, чтобы постичь истины ангелов14. Здесь имеет значение, в первую очередь, декларированный рационалистический оптимизм Гуссерля. Он утверждает принципиально неограниченные познавательные способности сознания, и проблема множественности знания имеет здесь своеобразный смысл – познание мыслится в диапазоне от прирожденного антропологического до трансцендентного (т.е. недоступного в непосредственном опыте), которое дается не в откровении, но в последовательном продвижении к такого рода знанию. 14 Г ус с е р л ь Э. Логические исследования. С. 278–279. 30 Итак, мы подходим к проблеме описания конкретного сложного пространственного предмета с двух принципиальных позиций. Во-первых, мы опираемся на неудовлетворительные с феноменологической точки зрения результаты различных философских подходов, во-вторых, позиция объективизма также требует своего прояснения со стороны того, как формируется это псевдореалистическое заблуждение в “естественной установке». ЛИТЕРАТУРА. 1. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Ведение в феноменологическую философию. СП.., 2004 2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. М., 1999 3. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 2. Ч. 1. Исследования по феноменологии и теории познания. Соб. соч. Т.3 М., 2001(1) 4. Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. Пролегомены к чистой логике // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994 5. Гумилев Н. Африканский дневник //Зов Африки. М., 1992 6. Бродский И. Путешествие в Стамбул.// Город и мир. Л., 1991 7. Мережковский Д. Больная Россия. Л., 1991 8. Письмо Епифания Премудрого Кириллу Тверскому // Изборник. М., 1969 Лекция 3. Проблема времени в феноменологии. Часть 1. Структуры первичной памяти. 1. “Феноменология внутреннего сознания времени” Э. Гуссерля как пример конкретного описания феномена. Структура феномена. 2. Время как основная предметообразующая модификация сознания. 3. Характеристики объективного времени. 4. Редукция реального времени. 5. Основные понятия теории времени в феноменологии (поток сознания, точка-теперь, ретенция) 6. Структуры первичной памяти Итак, посредством метода феноменологической редукции Гуссерль утверждается на позиции радикального пересмотра того, что принято называть «объективными вещами». Он показывает, что правильно называть их феноменами, или явлениями, произведенными сознанием. Эти феномены имеют определенную структуру, в которой взаимодействуют 1) интенциональные предметы, 2) смыслы, или конкретные содержания, которыми наделяются эти предметы, и 3) определенные формы сознания, от которых также зависит, какими именно будут эти предметы. Но какие 31 конкретно формы (Гуссерль называет их «модификациями сознания») порождают феномены, благодаря которым они становятся особого рода «реальностями»? Как сознание продуцирует явления? Первая и основная форма, которая позволяет сознанию реализовывать предметы, - это способность восприятия. Гуссерль подробно описывает восприятие в своем труде “Феноменология внутреннего сознания времени”. Это произведение представляет собой результат обработки ассистентами Э. Гуссерля лекционных курсов, прочитанных им студентам Геттингенского университета и материалов семинаров, проведенных во Фрайбургском университете и «Фрайбургском феноменологическом обществе». Это самое практическое с позиции выполненного феноменологического эксперимента произведение Гуссерля, оно целиком построено на работе с “примером” и обладает тем бесценным преимуществом, что учит нас искусству описания феноменов (у Гуссерля это конкретный случай восприятия звучащей мелодии). Оно имеет особое значение и для понимания самых фундаментальных основ феноменологической теории, и в частности, анализа структуры времени. Подчеркнем еще раз, что “Феноменология внутреннего сознания времени” является осуществленным опытом феноменологического описания, в котором феномен анализируется как особая структура «модифицированных смыслов предметного полагания». Предмет как конструктивная основа феномена в сознании может быть дан («положен») в разнообразных формах («модификациях»). Основная модификация –восприятие предмета. Восприятие, поскольку мы, осуществляя феноменологическую редукцию, уже не можем говорить о простом отражении внешней реальности, представляет чрезвычайно сложный конструктивный процесс сознания. И вот почему. Причиной сложности восприятия является его процессуальный характер, т.е. временное разнообразие, заложенное в его основу. Сознание «реализует» предмет. Но признание предметообразующей природы сознания заключает определенную трудность в изображении того, что для сознания всегда дано как актуально настоящее, и при этом не может быть иначе представлено, как во временной размерности. Это значит, что время является в описании феномена либо неустранимой помехой, либо его следует включить в него как конструктивную, структурирующую явление форму. Описания феноменов, которые производит Гуссерль в “Феноменологии внутреннего сознания времени”, являются принципиально новыми формами дескрипции, основанными на реконструкции внутреннего временного порядка сознания, его производящего. При этом феноменологическая редуктивистская тактика сохраняется – время понимается не как свойство “объективной действительности”, как реальное качество “меняющихся вещей”, оно входит в феноменологию как структура самого сознания, как порядок формирования последовательности многообразных предметных единств. С точки зрения реалистической, или объективистской, философии все, что противостоит сознанию, существует от него независимо, по своим собственным 32 законам, и сознание только открывает эти законы. Время в таком случае есть существующее независимое от сознания единство событий, что-то вроде единой упорядоченной хронологии мира. Образом представления о времени как об абсолютном внешнем порядке может служить ось с нулевой отметкой, относительно которой распределяются события и эпизоды истории, как в учебнике по всемирной истории. Объективное время можно назвать также космическим, или космологическим, или еще хронологическим порядком. В объективистской картине мира выявлены все основные характеристики времени: 1. линейность – события выстраиваются одно за другим, или совпадают по точкам отсчета; 2. необратимость: настоящее и прошлое уже совершилось по определенному сценарию и другим быть не может; 3. однонаправленность: события чередуются в определенной последовательности, - из прошлого в будущее через настоящее на так называемой стреле времени; 4. транзитивность: переход событий из прошлого в настоящее и из настоящего в будущее; 5. дискретность: события выделяются в определенные целостности в зависимости от того масштаба, в котором мы их рассматриваем. Таким образом, объективное время совпадает с хронологией, порядком чередования происходящего, с осью времени, по которой синхронизируются совершающиеся события. Однако, при внимательном отношении к этим характеристикам обнаруживается, что они не отражают всех возможных временных отношений. Например, мы говорим: «то, что есть, станет бывшим», нарушая определенный порядок транзитивности мы будущее мыслим как прошедшее. Или «то, что есть, это будущее прошлого». Сознание позволяет нам представлять живым умершего человека, переживать уже совершившиеся события и т.д.. Сознание как будто не всегда четко разграничивает прошлое и воображаемое, будущее часто бывает для нас уже пережитым, прошлое воскресает и переживается как настоящее. Короче говоря, время в действительном своем осуществлении в сознании бывает гораздо более разнообразным, чем это ему позволяется в объективистской последовательности прошлое-настоящее-будущее. В науке были сформулированы парадоксы, связанные с попыткой выстроить непротиворечивую концепцию объективного времени. С появлением теории относительности и квантовой теории некоторые из объективистских характеристик времени оказались несостоятельными. Осуществлялись различные теоретические попытки фундаментально переосмыслить теорию времени. Так Дж. Уитроу, написавший фундаментальный труд «Естественная философия времени», полагает, что «идея времени /…/ является продуктом 33 человеческой эволюции»15. Феноменология оказалась в состоянии отразить меняющиеся и усложняющиеся представления о времени. Опираясь на важнейшее для феноменологии понятие интенциональности, Гуссерль исследует способы, какими совершается предметное осуществление в сознании. В “Феноменологии внутреннего сознания времени” отправной точкой исследования служат “первичные импрессии”. В отношении к принципу интенциональности это означает, что в любой момент мы застаем сознание содержательно загруженным (заполненным, занятым, даже засоренным). Сознание изначально не является ни «пустым», ни «чистым». Его содержания – это переживания в смысле данных в нем актуализированных им предметов, например, восприятие дома, окрестности, ландшафта даже если процесс полагаемых предметов остается незамеченным для самого полагающего. Итак, первым шагом к последовательному анализу восприятия является редуцирование объективного времени как структуры внешнего порядка, как чистой хронологии, по которой мы синхронизируем и упорядочиваем события, ко времени феноменологическому, т.е. поворот в исследовании ко времени как структуре самого сознания. Примечательно, что один из самых основательных исследователей естественнонаучных концепций времени Дж. Уитроу, высказывается прямо-таки феноменологически: «… наше осознание временных явлений, по-видимому, в первом приближении должно основываться исключительно на фундаментальном и ни к чему не сводимом личном опыте. Тем не менее при дальнейшем анализе становится ясно, что наше восприятие явлений времени, как и восприятие многих других явлений, которые мы иногда рассматриваем как ни к чему не сводимые, является комплексной деятельностью, приобретаемой нами путем обучения. Как мы уже отмечали ранее, мы должны различать между последовательностью представлений и нашим осознанием временной последовательности, которая заключена в них»16. Личный опыт, в котором время является формой упорядочивания предметов восприятия посредством временных отношений, является фундаментом общих для всех представлений о времени, - вот что подчеркивает Уитроу. В этом, собственно, и заключается смысл феноменологической редукции в отношении ко времени: посредством редукции производится сведение вторичного и производного значения времени к изначальному и фундаментальному временному опыту, и вопрос о том, как функционирует временная конструкция, преобразовывается в проблему «каким образом производится время сознанием». Время появляется как форма, упорядочивающая многообразие того, что наполняет сознание в каждый момент настоящего. Гуссерль анализирует реальное многообразие содержаний сознания, вводя понятие «поток сознания». 15 Уитроу Дж. Естественная философия времени. М.: Едиториал УРСС, 2003 . С.94 16 Там же. С.94-95 34 Поток сознания. Точка-Теперь. Првичные импрессии. Главная проблема в анализе временных структур сознания состоит в том, что «течет «вся сразу» множественность феноменов, одни феномены прекращаются, другие еще не проявились и в сознании присутствуют как неясный фон, третьи все еще длятся. Поэтому Гуссерль и выявляет «первичные импрессии», т.е. в непрерывном потоке сознания выделяется «точка “Теперь”«, которая для сознания является опорной, всегда актуальной, непосредственно интуитивно данной. Это – абсолютный временной центр для сознания. Но эта точка-Теперь вытесняется новыми точками-Теперь, образуется их непрерывно возобновляющаяся связь, и - в то же время – увеличивается расстояние по отношению к новому актуальному «Теперь-мгновению». Из этого абсолютного временного центра сознания – из точки-Теперь – сознание, удерживая содержания воспринятого и присоединяя их к новым восприятиям, – бесконечно обновляющимся в потоке моментов “теперь”, – обнаруживает себя вовлеченным в темпоральную (т.е. временную) стихию. “…темпоральный предмет вместе со своей временной определенностью погружается назад во времени, вследствие чего образуется постоянно увеличивающееся расстояние по отношению ко все заново и заново конституирующемуся актуальному Теперь...”17). В “Феноменологии внутреннего сознания времени” Гуссерль рассматривает многообразие потока сознания и ориентирует исследование на описание множества фаз, принадлежащих потоку. Осуществляемый в “Феноменологии внутреннего сознания времени” феноменологический опыт является попыткой перейти к новой феноменологической аргументации – к эксперименту с темпоральным событием. Понятие потока вводится как некоторая исходная наполненная самыми разнообразными предметами структура, опираясь на которую Гуссерль описывает процессуальные события разного рода: как восприятие, продолжающееся устойчивым образом, или как воспринимаемое, которое постепенно перестает быть данностью интуиции, т.е. непосредственно уже не воспринимается, но присоединяется к таким фазам потока, в которых оно сохраняется в особых формах, или как восприятие предметов, которые осознаются как только-что-бывшие-воспринятыми, но при этом угасающие моменты восприятия еще представляют “живой горизонт Теперь”18. За основу моделирования производства времени сознанием Гуссерль берет восприятие и показывает его не как точечное, мгновенное событие, а как длящееся в различных модификациях усилие сознания. Гуссерль опирается именно на восприятие, эту феноменологически первичную структуру сознания потому, что она выступает основой всех последующих многообразных модификаций, в которых “первичный материал” так или иначе, в той или иной 17 18 Г ус с е р л ь. Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С. 67. Г ус с е р л ь. Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С. 45. 35 модифицированной форме проявляет себя в сознании как его исходная данность. Итак, в сознании предметы имеют свою длительность, или время существования в потоке сознания, они могут угасать, вытесняться из его предметной сферы, оставаться в форме отчетливого или, наоборот, размытого воспоминания. Эти интенциональные, имеющие свою опору исключительно в сознании, предметы являются индивидуальными событиями, изменяющимися или неизменными в своей тождественности и идентичности единствами. В целом интенциональные предметы определяются либо первичным содержанием сознания, на основе которого осуществляются все последующие акты-модификации, при этом само сознание не становится для себя предметом (классический пример – любое восприятие, разворачивающееся по схеме “я вижу какой-либо предмет”), либо эти предметы представлены в соответствии с двойной интенциональной направленностью (на предмет и на собственную производящую этот предмет деятельность), т.е. даны в сознании в полном феноменологическом объеме – когда мы не только что-либо видим, но само это видение тоже «видится сознанием». Эта тонкая понятийная организация исследования дает Гуссерлю возможность различать понятия «временной объект» и «временное конструирование». Становится очевидным, что тема «времени», или «темпоральности», или «темпоральных синтезов сознания» входит в феноменологический анализ как обязательный этап исследования. Редуцируя время как “объективно текущий временной поток”, в котором в последовательности и одновременности разворачиваются события истории, Гуссерль сосредоточивает внимание на исследовании темпоральности самого сознания, на такой его функции, которую можно было бы определить значением “временение”. Его аналитический интерес направлен на описание процесса погружения предметов сознания во время, а также на выявления структур, в которых само сознание конституируется как временное. Феноменологическая постановка вопроса относительно времени заключается в том, чтобы научиться описывать порядок, в котором посредством времени выражается взаимодействие единства и множественности предметных содержаний сознания, длительности явлений и последовательности их протекания. Но как разворачивается процесс восприятия конкретного явления в сознании, как настоящее совмещается с его прошлым и, тем более, будущим? В конце концов, вопрос можно переформулировать и в более аффектированной форме: как проблема времени не оборачивается для сознания катастрофой невыразимости. Здесь уместно вспомнить сочувственное внимание Гуссерля к мукам блаженного Августина, которые он претерпевал, пытаясь постичь природу времени. Августина он рассматривает как своего непосредственного предшественника в исследованиях времени. 36 Обратимся к примеру восприятия какого-либо архитектурного сооружения, например, Казанского собора19. Прежде всего, мы проводим Что в этом случае сказал бы историк культуры? Что это первое ампирное сооружение в Петербурге. Оно было воздвигнуто по проекту Андрея Воронихина с 1801 по 1811 гг. Архитектор решал сверхсложную градостроительную задачу, оформляя не только красивейший участок Невского проспекта на пересечении его с Екатерининским каналом, но и прилегающие улицы и площади. Канал плавно изгибается в этом месте города, не случайно поначалу протоки, входящие в состав канала, назывались Кривушами. Поскольку главный вход в христианский храм должен располагаться с западной стороны, то задача архитектора осложнялась еще и тем, что на Невский проспект выходила не абсидная, восточная, и не западная, портальная части, а северная, с боковым фасадом, к которому архитектор пристраивает великолепную колоннаду с четырьмя рядами канелированных колонн коринфского ордера. Концы величественной и очень красивого рисунка колоннады завершены мощными порталами. В плане собор имеет форму креста, над средокрестием возвышается купол на высоком барабане с расположенными между окон колоннами. Трудно передать все богатство пластических впечатлений от этого собора, поскольку оно строится на контрастах мощи, силы классического ордерного сооружения и особой мягкости в лепке архитектурных форм. И хотя А. Воронихин воплотил далеко не все, что намечал (в частности, ему не удалось построить симметричную северной южную колоннаду собора, не были оформлены северная и западная площади в соответствии с планами Воронихина), и в замысле, и в воплощении Казанский собор все-таки - это настоящее ампирное сооружение. Все эти характристики, еще раз повторяем, обычные для историко-культурного анализа для феноменологической теории не имеют никакого смысла на первом этапе дескриптивной аналитики. Они все должны быть подвергнуты редукции, согласно правилу редукции, или эпохе. Почему? Да потому что, когда мы что-либо видим – конкретный архитектурный объект, на нем самом нет никаких признаков стиля, эстетических качеств и т.д. Все это = всю эту смысловую нагруженность - мы привносим в него, наделяя всевозможными смыслами. Предмет ни красив ни некрасив, сам по себе. И более того, к этому самому-по себе-предмету у нас нет никакого дочступа. Получается парадокс – мы не можем увидеть Казанский собор вне этих привнесенных сознанием качеств, даже то, что мы его «просто видим» - это фиксированный нашим сознанием модус его восприятия. Гуссерль ищет фундаментальные, лежащие в основе структуры сознания, без которых не может осуществиться ни одна, даже самая элементарная работа сознания. Итак, без сознания – нет предмета. А в самом сознании нам следует, отвлекаясь от бесконечно разнообразных структур и форм сознания найти его базовые сущностные необходимые, или на феноменологическом 37 феноменологическую редукцию и переходим от представления, что нам – т.е. нашему сознанию, противостоит «реальный» Казанский собор, к представлению, что мы «реализуем» предмет («Казанский собор») посредством восприятия. Мы имеем дело только с феноменом - мысленным единством предметных значений, соответствующих предмету «Казанский собор». При этом мы начинаем мыслить этот предмет уже в восприятии, потому что то, что мы видим, мы уже определяем как нечто вполне определенное, чему мы даем название - «Казанский собор». Конечно, мы можем ошибаться или не узнать его, или даже просто не иметь о нем никакого понятия. Но это только значит, что «по мере понимания», «по мере явления» и «по мере восприятия» у нас будет происходить сложная многообразная корреляция с определенным значением «Казанский собор». При этом совершенно не важно, какая именно опора лежат в основе корреляции (предметного соотнесения). Это может быть фотография, с которой мы сличаем вид, непосредственно нам доступный, или мысленный его отпечаток, вспомненное словесное описание двойной колоннады этого сооружения или чье-то авторитетное мнение: «да, не сомневайтесь, перед вами Казанский собор, сооружение Андрея Воронихина». Способы идентификации (удостоверения тождественности, подтверждения) нашего восприятия могут быть самыми разными. Но главное, что это процесс, растянутый во времени и развернутый в длительности нашего узнавания этого предмета. Многоразличные способы «реализации в сознании» такого сложного пространственного предмета, как Казанский собор, называются модификациями, и все они имеют временную основу. Время внедряется в феноменологическую аналитику, когда обнаруживается, что акт восприятия – это не точечное мгновенное событие, а длящееся в различных модификациях усилие сознания. Когда мы обращаемся к содержаниям восприятия, мы выявляем в нем разнообразные временные формы, а когда обращаемся к самой осуществляемой при этом деятельности, мы обнаруживаем его собственную процессуальную длительность и выявляем многообразные фазы и способы осуществления феноменов. Все это Гуссерль называет «временными синтезами (связями, осуществляемыми посредством временных отношений)». Но что важно – никакого другого, нетемпорального (и, значит, – нефеноменологического) представления о восприятии быть не может, поскольку именно в такой реконструкции (в феноменологическом дескриптивном описании фаз постепенно являющегося) выявляется целое феномена. Следовательно, темпоральность входит в акт “простого” описания как его сущностная основа. И, таким образом, темпоральная рефлексия есть часть феноменологического описания. До тех пор, пока темпорально языке – аподиктические и априорные структуры. И Гуссерль такие находит в непосредственном восприятии его основы – темпоральные, т.е. временные, синтезы сознания. 38 развернутая характеристика не станет стержнем описания предмета, оно, с точки зрения Гуссерля, не может претендовать на полноту. Итак, феномены даны 1) в темпоральном (временном) осуществлении и никак иначе, т.е. развернутыми во времени; 2) в потоке сознания как сосуществующие с другими феноменами, одновременно или одно за другим, рядом с другим, перед другим, внутри другого, как целое, ограниченное другим целым, как сцепленное ассоциативными связями с другими феноменами. В темпоральном анализе интенциональных содержаний сознания Гуссерль утверждает, что они отнюдь не сводятся к непосредственным сенсуальным данностям, но всегда поддерживаются «данностями эйдетической интуиции»20. Эйдетическая интуиция, которую Гуссерль еще называет идеацией, - это способность сознания мгновенно схватывать сущность предмета. Это становится очевидным, когда мы видим собор и понимаем без особых усилий, что это именно собор. Гуссерль показывает нам, какая невероятно многообразная – но вот в чем парадокс – незаметная для самого сознания работа совершается здесь всякий раз! Это способность именовать предметы и использовать имя как опору предметного производства. Когда мы воспринимаем знакомый или незнакомый предмет, мы либо определяем его с некоторой степенью уверенности как «именно этот», и никакой другой предмет, либо эта уверенность заменяется другими модификациями сознания – сомнением (мы в таком случае можем сказать «наверное, это Казанский собор»), ощущением неполноты восприятия, неочевидностью, гипотетичностью и т.д., и все эти модификации дают сознанию дополнительные оттенки понимании или непонимания. Гуссерль также исследует причины принципиальной неадекватности восприятий, которые “непрерывно переходя друг в друга, сходятся в единство восприятия, в каком непрерывно длящаяся вещь показывает все новые и новые (или же – с возвращением назад – прежние, старые) свои «стороны» во все новых и новых рядах «нюансирования-проецирования» <...> неопределенности – определяются и конкретизируются, <...> в обратном же направлении ясное, правда, вновь переходит в неясное...”21. Феноменологическое прояснение процессов осознавания чего-либо не ориентировано на усовершенствование структуры непосредственного восприятия, и задача улучшения человеческой природы никак не входит в телеологические намерения феноменологии, хотя существует множество телесных практик как эмпирического, так и эзотерического характера, нацеливающих усилия именно в этом направлении. Но с учетом всех следствий теории временных синтезов феноменология по-новому “ставит зрение” исследователя, дисциплинирует тем самым умозрительное – теоретическое в платоновском смысле – созерцание. Исследовательница феноменологической 20 21 Там же. С. 56. Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 95. 39 теории Гуссерля Элизабет Штрекер говорит даже о феноменологическом “культивации особого рода видения”22. Кроме понятий «поток сознания» (или «первичного временного поля»), «Теперь-сознание» (или сознание актуального настоящего, или «первичное впечатление») Гуссерль вводит понятия «ретенция» и «протенция». Как мы уже прояснили, в восприятии феномены всегда являются как актуальное настоящее, но с определенными поправками, модификациями. Настоящее является как более или менее прошлое, т.е. в работе сознания мы фиксируем беспрерывно сдвигающуюся временную определенность мгновения-Теперь. Вот сейчас мы смотрим на Казанский собор, и наше восприятие можно рассматривать как ряд его моментальных снимков, фиксируемым сознанием. Понятно, что моменты так сказать «презентации» этого предмета из положения «теперь вижу» отклоняются в состояние «вижу вот только что бывшее Теперь». Они, эти состояния актуально воспринимаемого, как бы скользят по временной шкале с бесконечно малыми, почти неразличимыми, интервалами времени, так, что состояние «еще настоящего» и «уже прошлого» оказываются одним и тем же, хотя в восприятии в любое мгновение может произойти настоящий «катаклизм» (например, я вхожу в Казанский собор, и его внешняя сторона оказывается для восприятия совершенно недоступной). Но такие маленькие «катастрофы восприятия» происходят непрерывно, и мы их в нашем обыденном опыте вовсе не воспринимаем трагически. Тем не менее, существенно, что у восприятия есть определенные временные границы, и в них моменты настоящего непрерывно перетекают в моменты прошедшего. Но вся суть этих синтезов состоит в том, что без этой непрерывности нам не приходилось бы говорить о тождественности предметов, которые могут существовать радикально непрерывно. Получается множество синхронизирующихся с «точкой-Теперь» упорядочивающих феноменологическую картину временных связей. Повторим, что здесь мы фиксируем феноменологическую постановку вопроса относительно природы времени с точки зрения предметного конституирования, и она заключается в том, чтобы показать временной (темпоральный) порядок явлений, и понять, что источником этого порядка является само сознание. Очевидно, что анализ временных связей внутри формирования одного явления, данного в восприятии и длящегося «по мере явления», или «по мере протекания в сознании», Гуссерль противопоставил представлению о физическом объекте как «уже готовом». Таким образом, Гуссерль совершенно по-иному реконструирует смысл «объективной реальности», чем это было принято в объективистских концепциях, где противоречивый и сложный процесс изменения вещей внутри тождественного единства никак не проблематизировался, за исключением, правда, гегелевской философии, в 22 Ш тр е ке р Э. Гуссерлевская идея феноменологии как обосновывающей теории науки. С. 382. 40 которой этот процесс описывался диалектически, но базовые структуры сознания, такие как восприятие, там вообще не имелись в виду. Никакого другого – нетемпорального восприятия не может быть, время входит в конструирование феномена как его сущностная основа. Именно поэтому временные синтезы становятся основой феноменологического описания предмета. Гуссерль как бы ставит эксперимент с темпоральным событием, и главная сложность здесь состоит в том, чтобы сохранить в реконструкции восприятия его временную объемность, показать временные преобразования (модификации) в процессе конструирования предметов сознания с тем, чтобы выразить их тождественность. Именно с этой целью Гуссерль показывает, как настоящее сосуществует одновременно с прошлым и будущим. В качестве исходного материала для анализа содержаний сознания Гуссерль рассматривает «первичные импрессии» («первичные впечатления»). И вот оказывается, что, поскольку «Теперь» модифицируется в «только что бывшее теперь», «простого настоящего» недостаточно, чтобы конструировать целостность феномена, а тем более показать его «историю» («постоянно расширяющуюся непрерывность прошлого», как сказано в «Феноменологии внутреннего сознания времени»). В языке отражена эта трудно формализуемая сложность отражения временного существования предметов – в том объеме, в котором в разных языковых системах выражаются формы времени настоящего, прошлого и будущего. Итак, Точка-Теперь нескончаемо сдвигается, вытесняется, но при этом остается в сознании. Такую структуру, в основе которой лежат вытесняемые в прошлое Теперь-мгновения, Гуссерль называет ретенцией. Ретенция – это восприятие в горизонте прошлого к ближайшей точке-Теперь. Смысл ретенции можно выразить словами «уже в прошлом, но пока еще присутствует». Ретенции в такой же степени относятся к настоящему, как и к прошлому. Это «только что бывшее настоящим». Эту структуру – «актуальное настоящее + ретенция» - Гуссерль называет «первичной памятью». В ней настоящее и прошедшее оказываются взаимодополняющими элементами воспринимаемого23. Прошлое и настоящее непрерывно продуцируются актуальными Теперь-мгновениями. Ретенция осуществляет функцию длительности, непрерывности событий. Ретенция актуализирует прошлое, позволяет ему «вынырнуть в настоящем». Но сознание состоит не только из удерживаемых, но и вытесняемых содержаний. Ретенция, таким образом, рассеивает первичные впечатления. Ретенции, все более отдаляясь от актуальных Теперь-мгновений, вытесняются, забываются и 23 У А. Бергсона в работе «Материя и память» можно встретить подобное рассуждение:»ваше восприятие, каким бы мгновенным оно ни было, состоит из неисчислимого множества восстановленных памятью элементов, и, по правде говоря, всякое восприятие есть уже воспоминание. На практике мы воспринимаем только прошлое, а чисто настоящее есть просто неуловимая грань в развитии прошлого, въедающегося в будущее». Собр. соч., т.3,СПб., 1909, стр. 149+ 41 уже не могут, в конце концов, актуализироваться в первичной памяти. Ретенция освобождает место для новых точек-Теперь и в то же время удерживает то, что уже вошло в поле сознания. Так сознание конструирует временной мир, все явления синхронизируются и предстают во временной плотности. Осью координат является не внешняя временная система, а само воспринимающее сознание, производящее временные связи, то есть определенный порядок восприятия. Так выходит, что время является продуктом деятельности сознания, но в то же время оно – его главная опора в конструировании предметов внешнего опыта. Содержания ретенции не исчерпываются данностями первичной импрессии. В ретенции сознание, благодаря своей двойной интенциональной направленности не только удерживает (воспризводит) имманентный объект в формах первичной памяти того, что только что было дано в импрессии. Гуссерль проявляет и другое конститутивное качество первичной памяти: ретенция есть сознание, удерживающее сознание. Каждый теперь-момент не ограничен отношениями с прошлыми стадиями восприятия, он связан еще и с ожиданием, а значит, с некоторым горизонтом будущего, или со своей опережающей перспективой. Фон первичной памяти охватывает не только то, что удерживается из прошлого, но и то, что предполагается в качестве ближайшего будущего (мы непосредственно выражаем эти временные перспективы в словах «я так и знал» или «вот так неожиданность»). Восприятие строится по принципу сохраняющейся предметной тождественности и потому включает в себя протенции, то есть первичные ожидания, без которых невозможна была бы идентификация предмета (подтверждение его тождественности, «того же самого в нем», его совпадения с самим собой) в ближайшей перспективе. Такую ожидаемую, но непосредственно примыкающую к настоящему Теперь-мгновению временную отсылку Гуссерль называет протенцией. Протенции – это гипотетическое, предполагаемое содержание, суть которого сводится к тому, что предмет, как именно этот предмет, будет существовать в следующее ближайшее мгновение. Но протенция является неопределенной с открытой возможностью другого бытия или небытия. Протенции не представляют собой какой-то особенный тип восприятия, они сопровождают вообще всякий интенциональный акт. «Ретенция - точка-Теперь – протенция» – это и есть полный континуум феноменов в первичной памяти. Сознание устроено так сложно, что его нельзя представить как пример изображения на кинопленке, потому что этот реальный «кинопоказ сознания» осуществляется в разных режимах: ускоренном, впередназад, показ одновременно на разных экранах. Если бы сознание состояло только из склеенных точек-Теперь, то его структура была бы похожа на первые монтажи кинофильмов эпохи братьев Люмьер. При этом каждый мгновенный снимок как бы вибрировал в своей точке, отражая тем самым ретенциальнопротенциальные “толчки” восприятия, имитируя временное “дыхание” сознания. 42 Процесс восприятия можно изобразить как скрепленные моментом-Теперь его ретенцииальные и протенциальные фазы, структурно связанные предположением, что предмет остается тождественным тому содержанию, которое уже оказалось представленным в сознании. Все это свидетельствует о том, что восприятие в гуссерлевой логике проявляет себя в модусе определенного верования, которое содержится в каждом “простом” акте сознания. Самый известный пример временных синтезов, который проанализировал Э. Гуссерль в «Феноменологии внутреннего сознания времени» – звучащая мелодия. Она представляет собой чередование тонов, и мы воспринимаем не только каждый звук в отдельности, но мелодию целиком, то есть не только слышимый тон, но и отзвучавший, слитые в едином впечатлении. Они даны не одновременно, но, тем не менее, они соприсутствуют в сознании. При этом сущность протенциальных синтезов (связей) заключается в том, что они есть становящееся-воспринятым-предполагаемое бытие, тем самым акты ожидания осуществляют связь будущего с прошлым, становящихся настоящим. Таким образом, в протенциальном сознании содержится (предвосхищается) и феноменологически обнаруживается состав гипотетического, предполагаемого содержания. В феноменологической дескрипции мы совершаем как бы обратное объективному течению времени (с позиции здравого смысла) движение, предполагая некоторое опирающееся на непосредственно данное содержание, в котором в одинаковой степени присутствует прошлое, настоящее и будущее. Гуссерль изображает эту перемену времен следующим образом: “когда появляется ожидаемое <...> то само состояние ожидания (уже) прошло; если будущее стало настоящим, то настоящее стало относительно прошлым”24. Таким образом, принципы однонаправленности времени, трансгрессивности, линейности и необратимости отнюдь не исчерпывают всех возможных темпоральных корреляций с точки зрения в феноменологической теории времени. Главная феноменологическая сложность в конструировании процесса длительности состоит в том, чтобы структурно сохранить тройную нить времени, представить поток времени разворачивающимся в трех направлениях темпоральности, причем ретенциальный и протенциальный фоны – как ближайшее “темпоральное окружение” – формируют не только структуру настоящего времени, но и оказываются необходимыми для того, чтобы передать плотность прошедшего и будущего в явлении. Так, воспоминание вовсе не есть ожидание, однако “оно обладает горизонтом, направленным на будущее”. В этом свете содержание таких оксюморонов, как, например, воспоминание о будущем или предвосхищение 24 Т а м ж е . С. 60. 43 прошлого, утрачивает свой парадоксальный оттенок и приобретает у Гуссерля характер явления, для которого возможно дескриптивное развернутое описание. Теперь-момент, ретенция и протенция в их единстве и переходах одного в другое дают «временное поле», или «конкретное настоящее». При помощи структур первичной памяти реконструируется элементарнейшая из модификаций сознания – восприятие. Но временные модификации восприятия дают возможность выявить всю его сложность, оно, несмотря на свою обманчивую простоту, не является процессом очевидным. Восприятие (как отмечает Петер Прехтль) не может быть сведено к одной фазе, поскольку оно находится в непрерывном изменении в потоке сознания. Модификации отражают многообразие форм и структур процесса восприятия. Временные модификации сознания (ретенции, протенции, первичные импрессии) позволяют нам понять работу сознания в произведении предмета. Время, как и сам предмет, – это результаты работы сознания. Время позволяет зафиксировать в сознании одновременно тождественность и длительность вещей, событий, явлений. И это не отдельная работа, а напротив, существенный момент любого предметного полагания. При этом предмет восприятия, меняясь, не перестает приниматься как тождественный, тот же самый. Феномен во временных связях и отношениях остается предметом устойчивости и изменчивости одновременно. Феномен во временных связях и отношениях остается предметом устойчивости и изменчивости одновременно. Таким образом, первичная память дает нам длительность происходящего, и тем самым упорядочивает феномены сознания, находящиеся в потоке. При этом следует отметить, что Гуссерлю важны не парадоксы в духе стоиков или Ж. Делеза, но выявление двух основных структур феноменологической дескрипции – структуры идентификации, сопутствующей всем без исключения актам сознания, как выражение тождественного предметного содержания, с одной стороны25, и формы описания процессов временных преобразований интенционального содержания, – с другой. Проблема понимания того, как происходит сохранение и репродуцирование принадлежащего сознанию первичного материала в ретенциальных и протенциальных модификациях, а также в модификациях вторичной памяти и вторичного ожидания, – является одной из сложнейших в феноменологии. Вернемся к нашему примеру. Воспринимая Казанский собор, мы можем позволить себе обойти его с разных сторон, при этом мы видим, что он меняется, например, северная, украшенная колоннадой сторона его очень отличается от восточной, где помещен алтарь. Непрерывно обходя собор с 25 Идентификационная деятельность имеет двойной смысл: в идентификации проявляется как тождественность предмета, так и целостность самого сознания, в котором ведется работа по упорядочиванию структур временного порядка, – различения бывшего настоящего; настоящего, обладающего актуальным Теперь; настоящего, продолженного в будущем и т.д. 44 разных сторон и ни на секунду не теряя его из виду, мы ведь не накладываем свои впечатления на матрицу одного его фрагмента. Не он, а некоторая идеальная мера удерживает целостность нашего восприятия в границах предметного тождества. Но это уже функция вторичной памяти, в которой, как раз и находятся во всегда доступном наличии такого рода предметы, как «собор», «дом», «человек». Эти определенные предметы, которым наглядно может и ничего не соответствовать в наличном восприятии, кореллирующие с определенными смыслами (такими, как «посвященный Казанской Божьей матери», «построенный архитектором Воронихиным», «ампирное сооружение» и др.), тем не мене дают нам точную и определенную основу воспринятого. Эти предметные смыслы, источником которых выступает уже вторичная память и совершенно иные лежащие в ее основе темпоральные связи, также вступают в фазу Теперь-мгновения в едином потоке предмето- и смысло-образования. Итак, время представлено в феноменологии Гуссерля как определенность интенционального содержания в различных модусах и фазах переживания, как схватывание восприятия в его отдельных моментах, отнесенных к сознанию как единому потоку (континууму) разнообразных переживаний. Гуссерль сетует, что ему “не хватает названий” для этой двойной бухгалтерии описания феноменов во времени, т.е. для выражения идеи существования временного предмета, раскрывающегося во временном же существовании самого сознания. В действительности ему приходится быть чрезвычайно изобретательным в определении разнообразных положений во временном континууме восприятия, мгновений-состояний, которые относятся к настоящему в такой же степени, как и к минувшему или еще только наступающему. Чтобы выразить темпоральную природу сознания, он использует множество выражений: время, временение, временность, темпоральность, длительность, ретенция, протенция, первичная память, первичное ожидание, имманентная длительность, континуум времени, прошлое-настоящее-будущее, «точка Теперь», «грубое Теперь» (в котором еще не различены с достаточной очевидностью настоящее и ближайшее прошлое) и пр. и пр.. Время выстраивается как множество все новых подключаемых Теперьсодержаний, в которых прошлое и будущее оказываются динамичными и подвижными, так же как и настоящее, постоянно контролируемое из непрерывно продуцируемого актуального Теперь-мгновения. Анализ сознания Гуссерль осуществляет таким образом, что оказывается возможной реконструкция временных модусов, в которых сохраняется временная определенность и уникальность мгновений восприятия, соотнесенных не с линейным, гомогенным порядком времени, а с континуальной («объемной») его структурой. Но временная реконструкция процесса восприятия позволяет отразить не только понимание длительности переживания и разнообразия его фаз, но и то, что, меняясь, предмет не перестает узнаваться как тождественный, и показать, как сама эта предметная тождественность, в свою очередь, соотносится с 45 целостностью и тождественностью самого сознания. Как мы видели, Гуссерль в анализе темпоральных форм сознания исходит из некоторой самоданности мгновения “Теперь”. Но точка-Теперь, хоть и служит неизменным ориентиром для внутреннего упорядочивания феноменов сознания, осуществляющихся в потоке переживаний, тем не менее пригодна лишь для описаний квазивременного порядка, структура которого ограничена возможностью организации текучести потока только в серии доактуальных и послеактуальных фаз. Одной точки-Теперь недостаточно, чтобы конституировать формы имманентного, объективного, подлинного времени (здесь все приведенные временные предикаты, разумеется, следует принимать в редуктивнофеноменологическом смысле).26 Для выражения единства и полноты сознания-времени Гуссерль употребляет понятие темпоральной окрестности, посредством которого вводятся в феноменологическое описание временные фоны сознания. Это означает, что временная вещь наполняется временным содержанием и включается во временной мир (синхронизируется в этой структуре с другими временными вещами), а с другой стороны, сама временная вещь берется в своей изменяющейся ориентации по отношению к “живущему Теперь” (т.е. соотносится с осью координации – в самом воспринимающем сознании)27. Включение предмета в определенный дескриптивно-синхронизирующий порядок описания расширяет горизонт темпоральности – связка неопределенного настоящее-прошлое-будущее дополняется структурными описаниями “плотности” ближайшего временного окружения. Если вернуться к примеру с Казанским собором, то разницу между феноменологическим и нефеноменологическим способами описания можно представить следующим образом. Любые нефеноменологические описания всегда выступают частью бесконечной, требующей все новых дополнений, коллекции определений. Феноменологическое описание предмета не может складываться из суммы, извлекаемой из разных источников, поскольку такое сложенное всегда будет трансцендентным (внешним) для сознания. Имманентный (присущий конкретно этому сознанию) предмет конституируется как интуитивная и непрерывная последовательность восприятий и воспроизведений в структуре первичной и вторичной памяти, а также в опережающем (протенциальном) сознании-восприятии. Но и имманентный предмет еще не определяет структуру полной дескрипции. Явление собора – как устойчивое абсолютно тождественное содержание восприятия – невозможно в феноменологическом описании, которое всегда является разверткой многообразных переживаний, дескриптивное “изображение” также не равно сумме данностей воспринимающего сознания, ограниченного как момент потока, как срез в сознании, скрепляющем разновременные объекты. 26 27 Г ус с е р л ь. Э. Там же. С. 36. Г ус с е р л ь. Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С. 58–59. 46 Следовательно, для описания восприятия необходимо эксплицировать как смысл настоящего, так и смыслы прошлого и предчувствуемого будущего. Гуссерль отмечает: “В этом отношении интуитивный опыт ожидания есть перевернутый интуитивный опыт воспоминания, ибо в последнем Теперьинтенции не предшествуют процессу, но следуют за ним. Они, как пустые интенции окрестностей, лежат в противоположном направлении”28. Само восприятие, несмотря на свою обманчивую простоту, хоть и имеет интуитивную основу производства своих содержаний, не является процессом, изначально прозрачным для сознания, его производящего, поскольку представляет собой сложную модифицированную структуру, которая только в ходе своего реконструирования может быть определена как очевидностно дескриптивная. Очевидность в гуссерлевском прочтении является результирующим показом, позволяющим увидеть предмет сознания наделенным особым феноменологическим смыслом как реконструированное (восстановленное), как предшествующее немодифицированное в последующем модифицированном29. Моделируя процессы восприятия, Гуссерль употребляет почти искусствоведческий термин “импрессиональное восприятие”, смысл которого соответствует “идеальной возможности точно соответствующего 30 воспроизведения” . Характеризуя предметности восприятия, Гуссерль выражает различие “трансценденого” (вещественного, данного в восприятии как «внешняя» вещь, как предмет внешнего опыта) и “имманентного” (не имеющего адекватных коррелятов во внешнем мире) смыслов явления. Импрессионально воспринятое Гуссерль относит целиком к области явленного, это – в строгом смысле слова – феномен. “Имманентный” предметный смысл “обретается во взаимосвязи переживания”31. “К вещи как таковой, во всякой реальности в подлинном смысле <...> по самой сути и вполне «принципиально» принадлежит неспособность быть имманентно воспринимаемой, а тем самым быть вообще обретаемой во взаимосвязи переживания. Так что вещь сама, вещь вообще называется трансцендентной. В этом как раз и сказывается принципиальная различность способов бытия, какая вообще есть на свете, – различенность сознания и бытия”32. Только в идеальной возможности полного сущностного («ноэматического») описания предмет представляется как данный весь в сознании. В этом отношении феноменологическая дескрипция обещает нам дать предмет в идеальном воспроизведении. 28 Там же. С. 58–59. Г ус с е р л ь Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С. 85. 30 Там же. С. 92. 31 Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 92. 32 Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 92. 29 47 Таким образом, время служит Гуссерлю основанием к последовательному переходу от описания феномена в его уникальной предметной изолированности в воспринимающем сознании к предмету как “самой вещи”, которая перестает быть для Гуссерля характеристикой “трансцендентного” (или “объективного”) порядка. Вещь лишается всяких признаков мистической недосягаемости для феноменологически дисциплинированного сознания. В воспоминании, как в структуре принципиально отличной от восприятия и относящегося уже ко вторичной памяти, интенциональная природа сознания проявляется более наглядно, чем в актах восприятия. Если отдельные ретенции можно конструировать как простое всматривание, схватывание и по своей природе они, как было показано выше, представляют сложный процесс связей различных фаз настоящего, то формы осуществления воспоминания – вторичной памяти - выступают как репродуцирование содержаний, уже содержащихся в сознании (этот процесс с наглядностью проявляется, когда воспоминание “всплывает” в нашей памяти). При этом оно может быть смутным или ясным, может иметь форму длящегося воспоминания или моментального снимка. Воспоминание, другими словами, является “действительно «вос-производящим»”, повторяющимся содержанием. Тем не менее, воспоминание как осуществляемый акт, является сознанию изначально как первично конституированное содержание, а затем уже – как нечто уже бывшее. (Т.е. в нем также, как и в восприятии, можно обнаружить первичное импрессиональное содержание и ретенциальные структуры, в которых “временной предмет снова полностью выстраивается в континууме воспроизведений”, когда он как бы снова воспринимается, вплоть до ретенций, но с индексом (поправкой) на репродуктивные модификации). С точки зрения феноменологии в восприятии, т.е. в непосредственном интуитивном схватывании “реального объекта”, идеальный состав воспринятого (например, то, что он распознается как «собор») свидетельствует о том, что само это реальное представляет собой уже идеально конституированное образование, – значит, к одному идеальному (любому так называемому объекту) мы присоединяем другое идеальное – любой предикат, например, “красивый”. В феноменологии, таким образом, “непосредственному”, “импрессиональному”, “данности” присвоен такой индекс сознания, который показывает, что сфера мыслимого перекрывает сферу эмпирического, сфера опосредованного мышлением – сферу непосредственного чувственного, сфера интенционального – сферу объектного и объективного33. Гуссерль снимает проблему “бесконечного регресса” первичного материала восприятия: это первичное либо занимало бы весь горизонт сознания, ретенциально воспроизводясь и выталкивая все другие формы и источники предметного присутствия, и одно и то же воспринятое поглощало бы сознание все целиком и длилось бы бесконечно, либо же картина сознания в каждый 33 Г ус с е р л ь Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С. 36. 48 момент времени представляла бы собой пеструю мозаику разнообразных дискретных содержаний, меняющихся от мгновения к мгновению, при этом предмет не распознавался бы как тот же самый. Следовательно, в феноменологическом описании Гуссерлю необходимо было показать источники связи содержаний внутри сознания, а также ввести коррелирующие механизмы, которые бы включали в описание динамическое многообразие импрессии. Эти сложности анализа восприятия разрешались Гуссерлем в “Феноменологии внутреннего сознания времени”: хотя “течет вся сразу множественность”, но сознание мыслит определенную фазу “только как фазу, и без возможности расширения”34. В рефлексии будущее и прошлое имеют общую границу: они возникают как два луча, берущие начало из одной и той же точки-Теперь, причем первичная память (т.е. прошлые содержания) устремлена в будущее так же, как и протенция (ожидаемые содержания), сцеплена с уже определившимся, прошлым. Эта обратимость феноменологического времени играет чрезвычайно важную роль в процессах предметной идентификации, поскольку понимание предмета как “того же самого” в актах сознания, которые абсолютно не опираются на референтные (соотнесенные с определенным представителем) или денотативные (обозначающие некий предмет) отношения, было бы неразрешимой проблемой, если бы в самой темпоральной организации процесса восприятия Гуссерль не вычленил содержания, которые как бы “выходят из берегов” ограничивающей их формы. Гуссерль задается вопросом, что представляет собой целое предмета с точки зрения восприятия (которое может длиться до бесконечности), и показывает, что это целое реконструируется по-разному в зависимости от темпоральной стратегии исследователя. Он полагает, что если интенция направлена на весь временной объект целиком, то точка-Теперь охватывает всю историю предмета, и воспринимаемое относится к исторически растянутому целому. Если на отдельное, то целое оказывается всегда уже “прошлым”. При восприятии собора св. Софии в Константинополе некоторые характеристики этого предмета будут существенно меняться в зависимости от того, что мы удерживаем в сознании как целое. Например, византийские мозаики являются частью истории собора, целиком отнесенной к его прошлому, никак не связанному с его последующей исламской историей. Или, например, когда в византийском соборе мы наталкиваемся на щит с арабской вязью, то в отношении к “целому” (истории) собора эти содержания переживаются как данности исторического Теперь, и мы оказываемся в границах “мусульманского настоящего” собора. Если же мы имеем в виду “всю” его временную историю, то она репрезентируется как христианское-православноемусульманское-“и-еще-как-то-иначе- исторически-возможное”. Если мы 34 Г ус с е р л ь Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С. 131. 49 ограничиваемся частью его истории, то византийская форма попадает в его “прошлое”, если интенция направлена на целое – она является настоящим собора. По сути дела, исторический подход по форме “целого” предполагает надвременную структуру восприятия из точек всех мыслимых Теперь. В “Картезианских размышлениях” (в пятом размышлении) Гуссерль уточняет принцип конструирования “исторического” и “культурного”: “Тот факт, что каждый ... предикат мира возникает в результате временного генезиса, а именно такого генезиса, который укоренен в человеческом претерпевании и действии, не нуждается в доказательстве”35. Таким образом, восприятие зависит от интенциональной обращенности на целое-части. Объем содержания воспринятого меняется, хотя объект остается одним и тем же. Это означает, что явление разворачивается в истории не соответственно своей вещной (“объективной”) законченности, но по правилам темпорального конституирования феномена, или по правилам интенциональной длительности. Итак, время с позиции феноменологии невозможно наблюдать как объективное вещное качество, его невозможно объективировать, поскольку оно являло бы в этом случае систему вещных отношений, а придавать смысл реальности тому, источником чего явилось это сознание, – это феноменологически противосмысленно. Вспомним, что Гуссерль в процессе феноменологической редукции устраняет вопрос об объективном времени. Однако, он не исключает возможности реконструирования феноменологического смысла “вещи опыта в объективном времени”. И речь, по-видимому, идет о феноменологическом смысле таких предметов, как хронологическое единство или линейный временной порядок, как единство неодновременного, но субъективно или интерсубъективно тождественного содержания восприятий, как различение предметов одновременного или разновременного опыта, как значение темпоральной нейтральности или, наоборот, значимости времени в описаниях “вещей физики” и т.п.36. Но при этом феноменологическая установка определяет и ограничивает смысл этой объективности – во-первых, темпоральность всегда ориентирована на абсолютно конститутивный порядок потока сознания, и в этом смысле, во-вторых, временные структуры имеют только, так сказать, интенционально-инструментальный смысл. Временная форма, являясь в феноменологическом описании “чистой” структурой сознания, никогда не может быть пустой, не заполненной событиями смысла или конституированными явлениями, раскрывающимися как временные. ЛИТЕРАТУРА 35 36 Г ус с е р л ь Э. Картезианские размышления. С. 256. Г ус с е р л ь Э. Феноменология внутреннего сознания времени. С. 77. 50 1.Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962 2.Уитроу Дж. Естественная философия времени. М, 2003 3. Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М., 1969 4. Молчанов Ю.Б. Четыре концепции времени в философии и физике. М., 1977 5. Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. № 8, 1989 6. Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант. 7. Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994 Лекция 4. Проблема времени в феноменологии. Часть 2. Теория воображения. Вторичная память. 1. Проблема реальности в феноменологии. Значения «реального». 2. Понятие воображения, или вторичной памяти. 3. Модификации вторичной памяти: пассивные синтезы сознания, рефлексия, нейтральные полагания, фантазм. 4. Примеры Воображение, или фантазия, составляет, наряду с восприятием, базовую основу предметной деятельности сознания и представляет одну из важнейших его модификаций, когда предмет сознания предстоит в модусе “как бы” существования. Поэтому теория воображаемого многое проясняет в структуре феноменов. Анализ фантазии, или воображения, занимает особое место в феноменологической теории Э. Гуссерля. Фантазия связана с «всеобщим понятием возможности», которое, как следует из “Картезианских размышлений”, “в модифицированном виде дублирует все бытийные модусы”. Как это часто бывало в теоретической практике Гуссерля, исследования фантазии поначалу осуществлялись в его преподавательской деятельности. Эти исследования в виде подготовительных материалов к лекциям были опубликованы в 1980 г. в 23-м томе “Гуссерлианы” под названием “Фантазия, образное сознание, память”. Гуссерль предупреждает против того, чтобы рассматривали фантазию только со стороны ее “содержаний” (т.е. нафантазированного, типа «кентавра»), хотя он и отдает дань “кентавромании”, прибегая к подобного рода примерам. Воображение понимается Гуссерлем как основа деятельности вторичной памяти. В некотором смысле именно воображение проявляет возможность сознания конституировать объектность как таковую, поскольку класс воображаемых 51 (идеальных), или как говорит Гуссерль, имманентных37 предметов неизмеримо больше, чем трансцендентных38. Гуссерль обращает внимание на то, что “ясные фикции предоставляют <...> не только столь же хорошее, но – и в большом объеме – лучшее основание, нежели данности актуального восприятия и опыта”39. Важно здесь то, что идеальные имманентные предметы являются основой деятельности воображения. Однако, Гуссерль утверждает еще и то, что при помощи воображения мы переходим к “совершенно другому понятию восприятия” и реальности, более расширенному, а потому дающему бесконечные многообразия предметностей мира. Но в каком отношении предметы находятся к реальности? Ведь реальность в ходе феноменологической редукции сведена к феноменам, основой которых являются предметы сознания. Пафос феноменологической теории состоит в том, чтобы «противостоять физическим объектам, как уже готовым». Ведь ясно, что воспринимаемый в “естественной установке” в качестве вещи объект – это отнюдь не однородная, “простая” и доступная реальность. Проблема онтологического статуса интенциональных предметов должна разрешиться с полной определенностью. На первый взгляд кажется, что реальное оказывается редуцированным по эмпирическим признакам этого реального к данностям “внешних чувств” или к историческим, культурным и другим “формам реального”. В феноменологии осуществляется попытка реконструировать смысл и структуры реального. Редуцируя объект к интенциональному предмету, Гуссерль делает очевидной деятельность сознания в производстве “вещи”, которая приобретает чрезвычайно сложную и, так сказать, многослойную структуру (предмет – смыслы, ему приписываемые, – модификации сознания, посредством которых предмет реализуется в сознании). Редуцируется в феноменологии только та “вещь”, за которую в естественной установке мы выдаем за мгновенный и ускользающий образ. Подвергаются ревизии все формы объективистских полаганий – объективное время, пространство, вещественный характер предметов, исторические факты и культурные события и артефакты. Ясно, что если бы мы упорно придерживались натуралистическиреалистической позиции, согласно которой только внешние чувства (восприятие) дают нам доступ к реальности, для нас только то, что непосредственно находится перед нами, то, что мы как-то воспринимаем было 37 Имманентные предметы - это такие предметы, источником которых является не восприятие, а потому сознание как источник предметной деятельности очевиден даже для здравого смысла, что становится явным, когда мы ищем и не находим некоторым предметам адекватных объектов в реальности 38 Трансцендентые предметы – это такие, источником которых является восприятие, или внешний опыт сознания. 39 Гуссерль Э. Идеи к чистой … С. 169. 52 бы “объективным”, а то, что мы представляем или вспоминаем – оказывается всегда воображаемым, нереалистическим. С другой стороны, очевидно, что трансцендентальная (феноменологическая в том числе) философия, оцениваемая с точки зрения естественной установки (как с позиции здравого смысла, так и с позиции эмпирического рационализма), содержит идеалистическую подоплеку, суть которой состоит в том, что мир может быть представлен не иначе как в тотальности сознания. (Поддразнивая реалистов всех мастей сам Гуссерль в “Идеях к чистой феноменологии” говорит, что «фикция» составляет жизненную стихию феноменологии”40). Пафос феноменологического «дисциплинирования» фактов заключается в 41 “противостоянии физическим объектам, как уже готовым” . Мир, реконструированный в интенциональных содержаниях, можно назвать миром воображения, миром иллюзии или фантазма. Поэтому прояснение смысла производства всей сферы воображаемого не могло не стать одной из главных проблем во всех вариантах трансцендентальной феноменологии, включая гуссерлеву. И в этой связи для Гуссерля и для его последователейфеноменологов всегда актуальна задача понимания как содержания воображения, так и смысла реальности. Общий смысл теории воображения-фантазии можно изложить следующим образом. Основой феноменологической теории для Гуссерля является феноменологическая установка, и все суждения о реальном как о внеположенном сознанию существовании в трансцендентальной аналитике рассматриваются как противосмысленные. “Реальное ” в трансцендентальной феноменологии, как мы видели, подвергается различным формам редукции, оно, другими словами, уточняется, проясняется его суть. Чтобы последовательно реконструировать смысл «реального», следует осуществить феноменологическую редукцию, т.е. понять «реальное» как феномен сознания. Однако однажды осуществленная редукция не гарантирует того, что естественная установка раз и навсегда окажется преодоленной, редукции должны проводиться повторно, вновь и вновь. И, кроме того, то, что вынесено за скобки в осуществленном феноменологическом «эпохе», т.е. в воздержании от привычного разговора о предметах как о «реальностях», «фактах», «вещах», - все это, весь редуцированный материал возвращается в феноменологическое исследование в ходе осуществления следующих шагов феноменологического описания предметов – на этапах эйдетической и трансцендентальной редукций. Именно таким образом в дескриптивной (описательной) феноменологии производится систематическое выявление структур «смутной конкретности» и описание их как явлений (феноменов) сознания. 40 Гуссерль Э. Идеи… С. 63. Mohanty J.N. Intentionality and noema// The Journal of Philosophy, 1981, Vol. 78, № 11, P. 729. 41 53 В феноменологической дескрипции Гуссерль с самого начала вводит онтологическую проблематику, расширяя реальность до абсолютных пределов: «быть реальным» - значит «быть представленным в структурах сознания», реализовываться в сознании в разных формах и модификациях. Феноменологическое “реальное”, как мы уже видели, коррелируется (соотносится) не с “реальными вещами”, а «ноэматически», т.е. со смысловыми единствами сознания, следовательно, нужно исследовать способы, какими вещи являются нам в разных формах опыта. Подтверждая эту мысль, Я.А. Слинин пишет: “В самом деле, согласно тому, что сказано Гуссерлем в “Логических исследованиях”, не бывает предметов воображения или предметов мысли, существующих отдельно от тех объектов, которые постигаются перцептивно /в восприятии – В.С./: и перцепция, и воображение, и интеллектуальная интуиция по-разному дают одни и те же объекты – объекты интенциональные. Если так, то можно отбросить общепринятое мнение о том, что воображение и мысль всегда имеют дело с имманентными сознанию объектами (образами и концептами), в то время как чувственное восприятие всегда дает объекты ему трансцендентные. Вслед за ним можно отбросить и мнение о том, что критерием истины является соответствие или несоответствие чего-то, всегда пребывающего внутри сознания, чему-то, всегда находящемуся вне его”42. Это, теперь мы видим, не значит, что Гуссерль раз и навсегда покончил с “реальностью”. Напротив, “реальность” всегда во всяком феноменологическом контексте представляет одну из основных проблем: реальность (вещность, объектность, конкретность) постоянно довлеет над феноменологией, следовательно, и редукции должны проводиться повторно, вновь и вновь. Таким образом “вынесенный за скобки” редуцированный материал возвращается в феноменологию – как предмет с индексом «реальный». В разных произведениях Гуссерля реальное выступает в разных значениях. Во втором томе «Логических исследований» реальность определяется как 1) результат пассивных синтезов (то есть восприятия) сознания. В первой книге «Идей к чистой феноменологии» реальное, вследствие феноменологической редукции, обращается в 2) феномены, т.е. в структуры и формы, данные исключительно посредством сознания. В «Феноменологии внутреннего сознания времени» реальное анализируется как 3) предметы восприятия и воображения, в «Картезианских размышлениях» представления о реальном дополнены 4) структурами «жизненного мира», или формами «допредикативных синтезов» - интуитивной (непосредственной) работы сознания. В «Кризисе европейских наук» реальность осмысляется еще и как 5) коррелят естественнонаучного опыта. 42 Слинин Я.А. Очерки феноменологической философии. СПб., 1997. С. 80. 54 Итак принципиальный пункт феноменологической интерпретации реального – решение вопроса о его онтологическом статусе. Быть, - с точки зрения феноменолога, означает единственное – быть представленным в сознании. Феномен – это и есть реальное с точки зрения Гуссерля. И именно такого рода реальное следует аналитически описывать. В феноменологическом описании выявляются примысленные к предмету восприятия качества, – как комментарии сознания к собственной деятельности (они могут как подтверждаться, так и опровергаться в дальнейшем). Феноменологическое описание направлено не на выявление «подлинной картины мира» как очищенного от всех домыслов знания реальности или «чистого факта», а на реконструкцию всех слоев сознания, которые накладываются на этот факт, и, более того, конституируют (утверждают) его. Понять как «объективируются», или реализуются в сознании вещи – это значит восстановить процесс производства «объективного в сознании». Воображение – это не скачок от восприятия (воспроизведения внешнего предмета в сознании) к представлению предмета, не данного наглядным образом, а некоторая исходная структура сознания вообще. Как и восприятие, которое отнюдь является «простой», доступной в очевидности реальностью, которая открывается сознанию по типу «копирования» или «фотографирования», воображение также, и причем с большей очевидностью, конституируется, т.е. учреждается в самых разнообразных модифицированных актах сознания. Наиболее явным образом это проявляется в структурах вторичной памяти. Феномен – это вещь, которая в феноменологической редукции перестала пониматься как внешняя предоставленная сознанию реальность, но осознается как включенный в сознание предмет, данный разнообразными способами в структурах первичной (в восприятии) и вторичной (в представлении) памяти. В феноменологии предмет понимается как имеющий опору в сознании, а не достающийся из «бесхитростного созерцания вещи». Итак, реальность в той же степени принадлежит воображаемым в сознании предметам, как и предметам воспринимаемым. В чем же тогда между ними разница? В предыдущей лекции (о первичной памяти) было показано, как в каждый следующий момент времени в Точке-теперь объект меняется и, однако, пребывает тем же самым объектом, но в модифицированном виде. Эта важная операция по идентификации интенциональных объектов, пребывающих в постоянном преобразовании, осуществляется не в самой Точке-теперь, а в области первичной памяти43. Но если бы работала исключительно первичная память, мы бы только и могли, что следить за такими предметами, которые даны сознанию извне, как трансцендентные. Однако огромную часть нашего опыта составляют предметы, источником которого является уже само сознание. Эти предметы называются имманентными. Модификация, которая поставляет См.: Я А. Слинин. Трансцендентальный субъект. Феноменологическое исследование. СПб., 2001. С.211 43 55 сознанию такого рода предметы, в феноменологии называется воображением. Первичная и вторичная память радикально различаются тем, что в первичной свободная, не привязанная к «реальности», деятельность сознания не очевидна, во вторичной же она составляет его основу. Воображение, или вторичная память, является базовой структурой сознания потому, что оно «достраивает» наш трансцендентальный опыт, оно является в такой же мере основой предметной деятельности сознания, как и восприятие. Но если восприятие прикреплено к фиксированной Точке-теперь как к такому источнику, с которым оно постоянно коррелирует (соотносится), то воображение – это реактуализация, или воспроизведение сознанием первичного материала, которое не так однозначно зависит от внешних источников. Воображение более очевидным образом проявляет способность сознания конструировать объекты. Мир в свете такой абсолютной конструктивности предстает в «тотальности сознания». В этом смысле фантазия связана с всеобщим понятием возможности (какого угодно представленного в сознании существования). Но воображение, поскольку оно является связным и длительным процессом, также, как восприятие, осуществляется на основе «внутреннего времени». Потому предметы, источником которых является воображение, даны также в ретенциально-протенциальном фоне. Его коррелятами могут быть предметы и в трансцендентальной, и в имманентной сферах (смотря что реконструируется и вспоминается). Одно дело, когда в качестве предмета сознание имеет «вот этот видимый объект». Иллюзия его «реальности», или существования «по ту сторону сознания» осуществляется за счет врожденного или, как говорил Гуссерль, «натурального, природного догматизма». Восприятие Казанского собора – для натуралиста – процесс предельно простой, тривиальный, само собой разумеющийся. Для феноменолога – «реализация» Казанского собора невозможна без участия сознания, и описывается этот процесс в феноменологической дескрипции как непрерывное производство разнообразных синтезов, связей, корреляций множественных усилий сознания в темпоральной длительности. Но воображение является основой еще и иного порядка темпоральных синтезов, радикально отличных от временных порядков восприятия. Общий смысл теории воображения-фантазии можно реконструировать следующим образом. Изобразим символически процесс преобразования первичных импрессий в сознании, как это показал Э. Гуссерль в «Феноменологии внутреннего сознания времени», в приложении. 1: a –у (xa)΄ (гдe a - первичная импрессия, ΄ - это длительность, а x, у – различные модификации сознания (например, «х» – восприятие, а «у» - фантазия). В формуле запечатлено, что предмет, который мы прежде воспринимали, теперь мы воображаем, например, представляем его в своем воспоминании (я вспоминаю Казанский собор, который видел вчера). 56 Поскольку сознание – это поток разнообразных предметов, то следует говорить о непрерывных модификациях предыдущих модификаций, идущих одновременно с преобразованием другого первичного материала. (Например: мы слышим стук в дверь и, подходя к ней, предполагаем, отчетливо или неотчетливо, кто бы это мог быть – в модификации «воображение», или вторичной памяти. Когда за дверью мы видим (воспринимаем уже в модификации первичной памяти) источник стука, наши ожидания в воображении и в реальном восприятии могут совпадать или не совпадать, это разрешится в корреляции двух этих модификаций. Точно так же мы можем разобрать пример с восприятием произведения искусства, например того, который мы уже привлекали – восприятие собора св. Софии Константинопольской, скореллированное в нашем восприятии и представлениях других людей.) Символически записать процесс изменений первичного материала в потоке сознания мы можем следующим образом: a – (x a΄) → в (x a΄) → у в΄ (x a΄)΄ → ((у в΄ )΄ ((x a΄)΄ )΄ и т.д. (Мы видим собор св. Софии Константинопольской и вспоминаем описания его Епифанием Премудрым). Первичные восприятия подхватываются и поддерживаются ретенциальными и протенциальными фонами в горизонте интуитивно данного и в потоке сознания сосуществуют с воображаемыми (идеальными) предметами в первичных импрессиях. Предыдущие импрессии будут поддерживаться, воспроизводиться или затухать, наслаиваться на другие восприятия, на первичную импрессию в разнообразных модификациях сознания (таких, как внимание, рассеянность, усталость, спонтанная рефлексия, систематическое мышление, смутное понимание, неадекватное восприятие, ясное представление и т.д. и т.д.). Таким образом, воображение дает нам предметы сосуществующими с воспринимаемыми в разнообразных смысловых контекстах, источником которых является само сознание в строгом смысле слова. Для того, чтобы выявить различия в двух базовых модификациях сознания (восприятии и воображении), Гуссерль обращается к картезианской терминологии, и в дальнейшем уточняет ее: datum – данное в сознании, которое может быть смутным или ясным, точным или неопределенным, неадекватно или адекватно представленным, и cogitatum – предданное, помысленное также с разной степени очевидности Воображение лежит в основе вторичной памяти и рефлексии как принцип всех возможных в данном контексте модификаций сознания. Но в чистом виде восприятие и рефлексия – это феноменологические абстракции. Как упорядочивается внутреннее время сознания, позволяющее сознанию осуществлять разнообразную работу в целом «потока сознания»? Не только Эдмунда Гуссерля интересовала такого рода проблематика. В замечательном 57 рассказе Х.-Л. Борхеса “Фунес, чудо памяти”44 описана подобная практика синхронизирования внешних событий с внутренним “сознанием времени”. Осуществленное здесь усилие можно определить как анализ возможности совпадения темпоральных структур имманентного и трансцендентного видов. Борхес повествует о человеке, который обладал “феноменальной”, как говорят в таких случаях, памятью. Если он вспоминал что-либо, его абсолютная память актуализировала полную событийную континуальность, т.е. он вспоминал “все”, его воспоминание разворачивалось в длительности полностью, во всех точках, синхронизированных с независимым от него «внешним» порядком времени, когда сознание целиком, без мало-мальских провалов и купюр, регистрирует происходящее, ориентируясь на шкалу “другой” временности, когда протяженность какого-нибудь внутреннего события, любого акта сознания оказывается соотнесенной, например, с длительностью роста травы, и воспоминание не может закончиться ни на мгновение раньше, чем совершатся события во внешнем объективном существовании. В случае, о котором повествует Борхес, наглядно проявляется максима теоретического моделирования – моделью может быть только сам описываемый объект и ничто другое. Нельзя показать брутальности объективизаций подобного рода в более изощренной форме, чем это сделано Борхесом, и преодолеть их основательнее, чем это произведено в Гуссерлевой “Феноменологии внутреннего сознания времени”. Но если мы в контексте нового, феноменологически продвинутого описания феноменов обратимся к восприятию, то и в нем мы обнаружим конструкции воображаемого, например, когда мы смотрим на человека, т.е. – воспринимаем его в первичной памяти, - мы говорим про него – он человек, высокий, милый, симпатичный. Все эти определения взяты «из» сознания, они не находятся в самом «внешнем объекте», с которым, мы, к слову сказать, простились еще на этапе феноменологической редукции, они присоединяются к нему как существенные или несущественные второстепенные его имманентные характеристики. И любая из них источником имеет не «реальное как таковое, данное в естественной установке», а именно «реальное сознания». В восприятии все имманентные – т.е. внутренне присущие сознанию, идущие «из» него – определения приписываются внешнему (трансцендентному) предмету. Для характеристики явлений, осуществляющихся в восприятии, Гуссерль использует понятие «пассивный синтез». Сознание реализует предмет не по своему собственному сценарию, а, так сказать, в жанре «документального кино». Пассивные синтезы сознания оформляются «по мере явления». Но и это прикрепленное ко внешнему опыту производство предметов не является простым их отражением, поскольку уже в нем Гуссерль выявляет определенные модификации предметной тождественности, например спонтанную рефлексию, 44 Х.-Л.Борхес. Проза разных лет. М:.Радуга, 1989. С. 93–98. 58 или идеацию, как интуитивное сущностное схватывание, понятийную определенность, отражающуюся, в назывании предмета, его именовании – например, мы говорим «вот – храм», «там – дерево», «это - студент». Пассивное сознание регистрирует данные восприятия, поддержанные в первичной рефлексии. Формы пассивных синтезов – идеация, категориальная интуиция, внимание, сосредоточенность, различные аффекты, напр., чувство опасности, чем-либо мотивированный интерес, предвосхищение – все это позволяет сознанию «экономно» осуществлять сложнейшие виды предметного отождествления. Происходит то, что Гуссерль называл еще «категориальной интуицией», или «предикативной очевидностью» - как осуществление возможности интуитивного оперирования далекими от созерцания понятиями. Восприятие дает в феноменологическом контексте предмет с разнообразными поправками сознания, зависящими от темпоральных корреляций и от идентифицирующих (вносящих определенность) синтезов. Если поначалу процесс восприятия представлялся нам очевидно простым, то в ходе описания структур первичной памяти, в нем обнаружилась многообразная работа сознания. Теперь мы дополнили представление о «потоке сознания» структурами из «вторичной памяти», которые Гуссерль называет «воображением», или «фантазией». Воображение является основой активной стороны сознания, («активных синтезов»). Воображаемое – это реконструкции содержаний сознания в «мыслимо широком смысле». Мы уже показали, что элементы вторичной памяти присутствует в пассивных синтезах, напр., в идеации. Мы, не задумываясь, определяем вещи, даем им названия, напр., «это - стол», «это - университет», «это – студент такой-то» и т.д., не вникая в механизмы этой деятельности, т.е. не всегда являясь свидетелем многообразной работы собственного сознания, просто в процессе «явления» вещи, «по мере явления». Активное сознание осуществляется «по мере познания». «Вещь, данная сначала в пассивном созерцании, является затем в многообразных способах явления», - говорит Гуссерль. Теперь мы можем действительно реконструировать «поток сознания», включая такие модификации сознания, как рефлексия, или целенаправленная аналитическая деятельность, в которой сознание имеет своим предметом свою собственную работу. Первичный материал, преобразованный в спонтанной рефлексии, многократно переструктурируется. Спонтанное пассивное восприятие отличается от целеполагающей осмысленной рефлексии как две совершенно различных модификации сознания. В рефлексии сознание становится свидетелем собственной деятельности. Первичный материал сознания может быть реактуализован в рефлексии в серии явлений в любой момент времени. В этом смысле рефлексия (или сознание в полном смысле слова) существенно расширяет собственную свободу. Восприятие – непрерывно в своей фазе, а рефлексия – дискретна – как ряд волевых, направленных целеполагающих усилий, или как мотивированные действия и операции. Рефлексия вмешивается в работу «непосредственного» производства 59 явлений и встраивается в единый поток сознания. Рефлексия есть ничто иное, как 1) обращение к содержаниям, включенным в сознание и 2) понимание природы собственной смыслопорождающей и предметообразующей деятельности. Проясним для себя структуры первичной и вторичной памяти на примере. Представим процесс восприятия как чередование мгновенных изображений на кинопленке. Если бы сознание состояло только из одних пассивных синтезов (т.е. структур первичной памяти), то вся деятельность сознания сводилась бы к тому, что похоже на первые монтажи кинофильмов эпохи братьев Люмьер. При этом каждый мгновенный снимок как бы вибрировал в своей точке, отражая тем самым ретенциально-протенциальные “толчки” восприятия, имитируя временное “дыхание” сознания в формах пассивного синтеза. Но сознание при этом оказалось бы не полностью выраженным, поскольку оно состоит не только из непрерывного и равномерного чередования восприятий-снимков, – сознание действует таким образом, что к двенадцатому восприятию-кадру может присоединиться “вынутый” из сознания второй кадр, а в третий кадр может быть вмонтирован еще не имеющий в «реальном» течении событий пятнадцатый, – и потому схема изображения как ряд последовательных кадров непрерывного восприятия мира должна быть дополнена такими структурами, в которых выражается совершенно иное сосуществующее с ним содержание, – в них должны быть репрезентированы различные контексты сознания, связанные как с прошлыми событиями, так и с предстоящими, а также данными в сознании в опережающей перспективе. Именно эти структуры Гуссерль относит к формам воображения, которые могут быть совершенно спонтанными, нерегулируемыми какой-либо телеологической, т.е. осмысленной как целеполагающая, деятельностью, но тем не менее всегда выражающей активную сторону сознания. Протенции, ретенции, синтезы внимания45 относятся к пассивному 45 Как акт схватывания какого-либо предметного единства и удержания его в "гилетическом поле" спонтанного интереса, внимание является пассивным, внимание служит основой идентифицирующей деятельности, но, как артикулированный интерес, оно входит в структуру представления, т.е. уже является "наполненным" актом воображения. Таким образом, очевидно, что, вычитая воображение из структуры восприятия и тем самым существенным образом меняя смысл брентановского воображаемого, Гуссерль получает возможность более точного описания как структуры этого воображаемого, так и разнообразных модификаций представления. В “Идеях“ и в “Феноменологии внутреннего сознания времени” он, описывая воображаемое, выражает его смысл в формулировке принципа свободного варьирования содержаний сознания, тематизированного еще во втором томе “Логических иследований”, теперь описываяемого как в актах 60 синтезу, в то время как к активному синтезу принадлежат различные структуры вторичной памяти и рефлексии. Именно в этом контексте Гуссерль отождествляет воображение и вторичную память, рассматривая первое как форму активности сознания, а вторую как описанный временной механизм ее проявления и одновременно как источник активности воображения. Вернемся к нашему примеру описания храма св. Софии и попробуем проанализировать их со стороны структур воображаемого. Содержание этих описаний относится к воображаемому, к фантазматическому в строгом феноменологически выявленном смысле. Описание в них производится на основе деятельности спонтанной рефлексии или свободного ассоциативного связывания разнообразных содержаний, включенных в сознание. При этом остается совершенно не выявленным сам источник этих содержаний, который, как во всяком “литературном” произведении, вообще говоря, является весьма прозрачным. Литература – деятельность фантазматическая по своей природе, и тем не менее в отношениях авторов к описанному явственно проступает естественная установка, согласно которой они описывают не видимое или видимость, но то, что является ее внешним источником, – саму реальность. С феноменологической точки зрения описания показывают, что, как это ни странно прозвучит вне феноменологического контекста, их авторы “являются свидетелями собственного воображения”. Рефлексивная деятельность направляется исключительно на одну сторону интенционального отношения – предметную, которая определяется в многообразных характеристиках. Предикаты извлекаются из интенциированного (мыслимого) предмета, но приписываются при этом предмету трансцендентному (как бы существующему параллельно сознанию). В ходе феноменологического анализа Гуссерль выделяет особо «псевдодеятельность» сознания, которая выражается в интенциональной «захламленности» сознания, не откоррелированного, не проясненного в своих сущностных основаниях, в собственном своем осуществлении и проявлении. Такую деятельность он называет еще «нейтральными полаганиями», когда сознание бессильно понять те структуры, которые само оно создает, но вовсю пользуется ими (действует как компьютер). Потому это - квазидеятельность. В ней нет никакой внутренней соотнесенности. Не выявлены утверждения или отрицания относительно существования предметов, так же как убеждение либо сомнение относительно коррелятов существования (когда мы, например, просто пересказываем содержание услышанного, сплетничаем). Деятельность сознания не обращена ни на предмет сознания, ни на его собственную деятельность. Нет понимания основы собственных суждений, допущений, умозаключений. Это то, что Гуссерль называл «думанием себе». Его нельзя спонтанной рефлексии, так и в структуре целенаправленных актов как произвольного преобразования первичного содержания сознания. 61 опровергнуть как неправильное, либо подтвердить как правильное. Это «бездумные созерцания и их вариации в неясных представлениях». Это полная неопределенность относительно понимания многообразных модусов воспринятого. Но нейтральные полагания существенно отличаются как от восприятия, так и от воображения. Восприятие и воображение – универсальны и изначальны, а нейтральные полагания представляют рефлексивную неопределенность, т.е. вполне конкретную модификацию этой универсальной основы сознания. Нейтральные полагания имитируют деятельность восприятия и противостоят рефлексии. В дальнейшем естественная установка в них либо проясняется, либо закрепляется как объективирующий механизм. Итак, еще одно очень важное выявленное в рефлексии качество «нейтрального» восприятия, - наличие в нем «естественного полагания», прилагающегося к любой картинке (например, вижу стол) как не различенного в рефлексии дополнения к воспринимаемому без всякого рефлексивного контроля, приписываемое как «принадлежащее этому предмету его реальное качество». Как специфическую модификацию сознания Гуссерль выделяет “рефлексию в фантазии”, или “фантазм”. Лучшим примером такого рода является сновидение, хотя эту область опыта сознания, целиком узурпированную психоаналитиками, Гуссерль не сильно жаловал, вообще избегая строить свои анализы на “плохих примерах”. Тем не менее именно в деятельности сознания во время сна проявляются некоторые коррелятивные механизмы, имеющие особое значение в рефлексивной деятельности. В определенном смысле в анализе сна наглядно вскрываются как отношения восприятия и рефлексии, так и различные уровни самой рефлексивности. Осознание материала сна может осуществляться как внутри него, так и в припоминании его содержания в состоянии бодрствования. В первом случае осознание производится по типу сознания-восприятия: в нескончаемом присоединении новых содержаний формируются специфические феноменологические события–переживания, проявляются содержания потока сознания, при этом не проблематизируются осуществляемые в этом потоке разнообразные синтезы, с помощью которых само сознание корректирует то, что является во время сна, все события сна (будь то восприятие, репродукция, воображение, суждение, оценка и т.д.). Рефлексивная деятельность оказывается парализованной, внутри сна она проявляется как квазидеятельность, основная функция которой сведена к воспроизводству и связыванию “кусков воспринимаемого” в своеобразной фантастической логике, которая присваивает всем содержаниям сна статус реальности, вытесняя таким способом необходимость модального различения этих содержаний как действительного – недействительного, реального – нереального, возможного – невозможного и т.д. Так оказывается, что сон запечатывает себя печатью своих собственных содержаний, которые являются его единственными коррелятами. Во сне мы производим работу, которую впоследствии в процессе рефлексирующей 62 реактуализации переживаний оцениваем как полное отсутствие или угасание таких обычных оценок содержаний, как различение актуального – потенциального или воображаемого – воспринимаемого. Исходя из проблематики сна, понятным становится стремление Гуссерля выделить некоторый чистый опыт фантазии – “явления-в-фантазии”, или фантазм. В сравнении с “восприятием”, сон является формой, в которой первоначальные содержания сознания уже модифицированы. Но и в нем можно опереться на некоторое первичное ядро содержания, на изначальную “импрессию”, где “материя воспоминания далее не модифицируется”. Какой смысл имеет редукция репродуктивных структур сознания к их первоначальным содержаниям? Допустим, мы вспоминаем умершего близкого человека. В воспоминании он является нам живым, что же в этом случае будет феноменологически изначальным? Будет ли первичный смысл заключаться в том, что сознание может реконструировать его живым, отодвигая смерть как необратимую реальность, или же смысл того, что нами осознается, при этом искажается, и сознание его смерти должно непременно войти в состав первичного содержания переживания, как то, что существенным образом корректирует смысл переживаемого? Вот в предельном значении проблема онтологического статуса того, о чем мы думаем с величайшим напряжением и страданиями, – о близком умершем человеке, который не перестал быть для нас таковым несмотря на то, что воспринимать его как здесь присутствующего, как «реально существующего» мы не можем. Реальность ему придаем мы – здесь эта феноменологическая истина предстает в своей эмоциональной, даже аффективной, патетике. Мы много чего реализуем своим сознанием, – мы реализуем весь мир, который предстает нам как явления. Но среди множества данных в сознании предметов этого мира, пожалуй, самыми необходимыми являются эти хрупкие его произведения, – хранящиеся в памяти умершие, которые подчас являются более существенной реальностью, чем те, сквозь кого мы проходим в толпе, реальность кого может в прямом смысле слова нас опрокидывать. Может быть этот онтологический аргумент существования является самым существенным для феноменологии. ЛИТЕРАТУРА. 1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. М., 1999 2. Гуссерль Э. Идея феноменологии. СПб., 2006 3. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994 3. Мотрошилова Н.В. Работы разных лет: избранные статьи и эссе.(Серия «Феноменология – Герменевтика») М., 2005 63 Лекция 5. Проблемы логики в феноменологии. 1. Критика Э. Гуссерлем формальной логики в работе «Логические исследования». 2. Анализ языка как носителя смыслов. 3. Онтологический статус интенциональных предметов. 3. Принцип очевидности Логика оставалась предметом интереса Э. Гуссерля на всех этапах философской деятельности. Известность и слава Гуссерля начинается с выхода в свет «Логических исследований». Он обращается к проблемам логики в специальных работах – в “Логических исследованиях” (1900–1901), в “Формальной и трансцендентальной логике” (1929), в “Опыте и суждении” (1939). Гуссерль ведет курсы, посвященные общим и специальным вопросам логики, - так, в зимний семестр 1910 11 г. в Геттингене он руководит семинаром по общей логике, в 1925–1926 гг. читает лекции, посвященные анализу пассивного синтеза. В таких работах, как “Философия арифметики” (1891), “Идеи к чистой феноменологии” (1913) и “Картезианские размышления” (1929) Гуссерль органично вплетает логическую проблематику в общую ткань своих феноменологических исследований. В чем причина интереса Гуссерля к логике, которая, как полагалось, сложилась как формальная наука в философии Аристотеля и завершила свое развитие еще в средневековье? Действительно, классическая логика в аристотелевской традиции имеет формальный характер, то есть представляет собой нечто вроде логического синтаксиса, – правил элементарной грамотности в построении мысли, и предписаний, как не совершать в системе логического вывода (силлогистике) формальных ошибок. Формальная логика, основа логики классической, зиждется на трех сформулированных Аристотелем законах: 1. тождества (А = А) 2. непротиворечия (А не= не-А) 3. исключенного третьего (либо А, либо не-А) Следующим, аристотелевым же достижением, являются правила силлогических умозаключений, или правила логического вывода из большей и меньшей истинных посылок: Все А есть В (большая истинная посылка) Все В есть С (меньшая истинная посылка) ________________________ Все А есть С (вывод) Вопрос Гуссерля Аристотелю: Что такое истинная посылка? Чем подтверждается ее истинность? Следует отметить, что без формальной логики не было бы впечатляющих достижений ХХ века, в частности, все структуры искусственного интеллекта, или компьютерного мышления, связаны именно с правилами формального 64 вывода, со структурами символической логики, с другими нормативными правилами и основанными на них системами. Гуссерль, никак не оспаривая успехов в этой области, обращается к той сфере, которая остается за пределами формального регулирования, а это – не много ни мало – все живое, непосредственное, т.е. опосредованное не только нормативными логическими законами, мышление. С точки зрения феноменолога формальная логика только и может что удерживать предмет в тавтологическом утверждении А=А. Но в соответствии с темпоральными синтезами, которые сознание продуцирует непрестанно, такого рода тождественность изначально следует поставить под сомнение. Предмет, данный в восприятии, - это непрерывный процесс становления смыслов, потому логика как результирующая форма не отражает всего сложного спонтанного процесса мышления. Спонтанность в восприятии дополняется в сознании систематической рефлексией, которая также не всегда поддается описанию с помощью формальных правил. Гуссерль полагал, что никакая нормативная система не позволит описать сознание и результаты его деятельности – феномены. В логическом же суждении, согласно Гуссерлю, «соблюдается скорее грамматическая нормативность, чем формальнологическая». По этой причине Гуссерль характеризует формальную, или школьную аристотелеву логику как науку, в которой воплощена наивность «высшего уровня», поскольку в основе формальной логики лежит либо никак не проблематизированное положение о соответствии правил мышления объективному порядку вещей, либо конвенциональное соглашение такого типа: «давайте будем считать истинным такое-то и такое-то утверждение». Есть еще одна причина, по которой логика не могла претендовать на роль фундаментального основания феноменологии. Если коротко сформулировать причину, по которой и логика, и семиология не могут стать методологической или фактической базой исследования сознания, – это “всеобщая, неизбежная двусмысленность речи”46, обусловленная природой понятий, - основы логической деятельности. Исследованию языка как системе объективации идеальной предметности посвящен второй том “Логических исследований”. Оглядываясь на работу, осуществленную в этом произведении, Гуссерль в “Начале геометрии” пишет: “Легко заметить, что уже в человеческой жизни, и, прежде всего в индивидуальной, от детства до зрелости, изначально чувственносозерцательная жизнь, в разнообразной активности создающая на основе чувственного опыта свои изначально очевидные образы, очень быстро и по нарастающей впадает в и с к у ш е н и е я з ы к о м . Она все больше и больше впадает в речь и чтение, управляемые исключительно ассоциациями, вследствие чего последующий опыт довольно часто разочаровывает ее в таким вот образом полученных оценках. Теперь можно сказать, что в интересующей нас здесь сфере науки, мышления, направленного на достижение истин и на 46 Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 268. 65 избегание заблуждений, нас с самого начала очень заботит, разумеется, каким образом можно воспрепятствовать свободной игре ассоциативных образов”47. Гуссерль окончательно определяет для себя, что в феноменологическом дескриптивном описании он не может опираться на язык. Язык – это формальная структура, и лингвистическая конструкция для Гуссерля является только нормативной формой, такой же отвлеченной от реального процесса производства смысла, как и логическая. Понимание, или интуирование смысла, идет скорее в разрез “фактам языка”. Но, тем не менее, на позднем этапе развития феноменологической концепции Гуссерль с иных позиций возвращается к тем проблемам, которые он исследовал во втором томе “Логических исследований”. На первый план анализа выдвигается процесс производства идеальной предметности в сознании, а также вопросы, связанные с языком как системой описания, хранения и трансформации идеальных содержаний. Гуссерль никогда не шел на поводу у языковой инерции. Поскольку в своей ранней предфеноменологической философии он прошел стадию “искушения языком”, то впоследствии ясно представлял себе причины логической противосмысленности, укорененные в природе языка, и связанные с его функционированием (сюда относятся все случаи эквивокаций, парадоксов, паралогизмов и т.д). Лингвистически-логическая или семиологическая концепции знания, в которых язык является выражением и формой опыта, для Гуссерля являются неприемлемыми, он полагает, что на их основе невозможно построить фундаментальную теорию сознания. Гуссерль рассматривает язык как своеобразную осадочную духовную породу (“языковые окаменелости”), которые “могут быть переняты кем бы то ни было только пассивно”48. Язык является для Гуссерля “низшим слоем выражения”. В “Идеях…” он весьма скептически оценивал возможности адекватного смыслового выражения, которое могло бы быть осуществлено в языке. Для философа язык таит в себе опасности регресса смыслов, когда один отсылает к другому, и так до бесконечности. Язык - это система, в которой не прекращается свободная игра ассоциаций. Можно, по-видимому, утверждать, что аналитика языкового выражения во втором томе “Логических исследований” оказалась неудовлетворительной для Гуссерля потому, что язык, как любая другая идеальная конструкция, не является изначально прозрачной структурой, он сам требует своего многообразного прояснения. Суть феноменологического описания содержаний языка состоит в том, что вытесняются смысловые случайности, проясняются формы ассоциативных сцеплений смысла. Ассоциативные отношения могут быть поняты как регрессирующая в бесконечность последовательность смысловых отсылок. Процессы прояснения 47 48 Г ус с е р л ь Э. Начало геометрии. М., 1996. С. 222. Там же. 66 цепочек ассоциаций с точки зрения Гуссерля могут сознательно кореллироваться только в рефлексии49. В отношении к языку можно было бы применить метод феноменологической редукции. Но осуществление такой редукции проблематично постольку, поскольку недостижим такой рефлективный очевидностный уровень анализа, в котором бы чистое значение, чистая предметность и чистый смысл находились в абсолютно однозначном сущностном отношении. Гуссерль обращает внимание на то, что сам факт многообразных передач, транслирующих смыслы посредством языка, еще не обеспечивает объективности идеального образа. Необходимы специальные операции для того, чтобы удостоверить процесс устойчивого существования “идеальных предметов”50. Требуется не только ревизия содержания с тем, чтобы “осевший” смысл стал очевидным, но и анализ модификаций сознания, делающих возможным такого рода трансляции. В связи с этим “делом общей ответственности” Гуссерль полагает заботу об однозначности языкового выражения и о сохранении однозначного выражающего результата посредством тщательнейшей выделки точных слов, предложений, фразовых взаимосвязей – “и так [должен поступить] не только каждый отдельный новоизобретатель, но и каждый ученый как товарищ по научному сообществу при перенятии того, что подлежит перенятию”51. Что касается собственно феноменологических терминов, в которых осуществляется дескриптивное описание, Гуссерль не может отрицать того, что эти понятия происходят из общего языка и являются потому многозначными и неопределенными по смыслу. Более того, Гуссерль полагает, что они “должны оставаться в текучем состоянии, как бы в постоянной готовности немедленно дифференцироваться по мере продвижения анализа сознания и по мере распознавания все новых феноменологических наслоений”52. С феноменологической точки зрения вопрос об идеальных предметах состоит в том, чтобы понять, каким образом понятия присоединяются к интуированным (воспринимаемым) данностям. Показателен пример виртуозной работы с понятиями самого Гуссерля, которую он проделал в “Феноменологии внутреннего сознания времени”. Гуссерль не однажды восклицает, что в аналитике темпоральных структур сознания “для всего этого не хватает слов”, но с блеском подчиняет понятия дескриптивной аналитике. Можно надеяться, что это служит свидетельством того, что для феноменологии оказывается доступным выражение слоя подлинных очевидностей сознания. Свое глубокое неразрешимое недоверие к языку он сохранил и впоследствии определенно выразил в утверждении: не следует идти на поводу у языка. Возможно, что 49 Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 54. Г ус с е р л ь Э. Начало геометрии. С. 220. 51 Там же. С. 222–223. 52 Г ус с е р л ь Э. Идеи… С. 186. 50 67 окончательно Гуссерль нашел подкрепление своим сомнениям в отрицательных для себя результатах работы М. Хайдеггера, представленной в незавершенном “Бытии и Времени”. В формальной логике не может учитываться вся сложность мыслительного процесса. Гуссерль подвергает сомнению все три логических закона – тождества, непротиворечия, исключенного третьего. Что касается «логического принуждения», т.е. применения универсальной формы умозаключения и правил вывода, - реальном процессе мышления логика всегда конкретизируется жизненными обстоятельствами. С конца XIX века, в третий раз после расцвета аристотелевской и схоластической философий, логика вновь возрождается. Именно в логических исследованиях переосмысляются результаты достижения двух наук – математики и психологии, во многом определивших дальнейшее направление развития философской науки. С логикой обычно связывался и вопрос о “философии как строгой науки”, и расцвет неклассических геометрий, и других математических открытий второй половины XIX – первой трети XX, века, что в целом привело к радикальному переосмыслению принципов и законов классической логики. Гуссерль основывает логику на теории интенциональности. Не случайно это средневековое понятие служило основанием онтологического аргумента. Быть, с точки зрения феноменологии, – значит быть представленным в сознании. Интенциональное представление не сужает сферу всех возможных предметностей, а напротив, - расширяет ее, поскольку интенциональный предмет всегда «реализован» в той или иной форме сознанием. Интенциональный статус дает предмету всеобщую универсальную форму существования. И такой предмет мы всегда можем включить в логическую конструкцию, основой которой является глагол-связка «есть». С позиции интенциональности «кентавр – есть /вымышленное существо/», реалист или материалист сказал бы «кентавра нет». С феноменологической позиции такие предметы, как «кентавр» и «студент» различаются не тем, что один есть, а другого нет, или один «имеется в наличие», а другой является «мнимым объектом». В строгом смысле и тот, и другой мнимые, т.е. мыслимые содержания сознания. Их различие можно выявить только в последовательном описании этих предметов и способов их явления в сознании. Иначе кентавр может и существовать и не существовать одновременно. Самое главное, каков предмет, который есть /нечто/. То есть вопрос упирается в предметносмысловую корреляцию (соотнесение) и анализ импликаций (подразумеваемого). Тогда в любом случае мы имеем дело с понятием, которому смысловое значение соответствует независимо от его реального существования. В свете того, что мы уже знаем из феноменологии, интенциональный предмет имеет статус «мыслимого», т.е. феномена, и, следовательно, его структура состоит из предмета, его смысловой наполненности (т.е. того, каким именно он мыслится) и того, в каких 68 модификациях он реализуется (восприятие, воображение или еще как-то иначе). Таким образом, интенциональный предмет обращает нас к основам феноменологии, и логика в этом отношении укоренена в общей философской позиции Э. Гуссерля. Теория интенциональности позволяет Гуссерлю избежать многих сложностей, связанных с принципом отражения объективной реальности. Естественная установка, которая управляет логикой здравого смысла, тормозит понимание того, как идеальные сущности замещают реальные предметы. Принцип интенциональности вполне определенно дает ответ на вопрос об онтологическом статусе предмета. А далее все зависит от методологической последовательности анализа исходным принципам. Для согласования интенционального принципа, принципа феноменологических редукций и теорию временных синтезов Гуссерль разрабатывает так называемую логику очевидности как систему дескриптивной аналитики. Очевидное не проявляется ни на уровне ощущения, ни в формах восприятия как простое, определенное, самодостаточное, элементарное качество предмета. Интенциональный предмет проявляется, как мы уже отмечали, либо «по мере явления» в восприятии, либо в рефлексивных формах в феноменологическом описании «по мере познания». Очевидность – это приведение в систему форм многообразной синтетической деятельности сознания. В пассивных синтезах сознания производится предметно-смысловая определенность мира, то, что наивному сознанию представляется «готовыми формами мира», неизменными физическими вещами, или регистрируемыми в ощущениях качествами предметов. Гуссерль описывает все это как процессуальные комплексы модификаций сознания, в которых эта готовая вещь - только одна из многообразных форм данности воспринимающего и интерпретирующего сознания. Анализируя понятие очевидности, Гуссерль подвергает сомнению некоторые структуры ее логического выражения: 1) как чувственную фактичность («S P есть») и 2) как логическую непротиворечивость конструкции «S есть P». Исходная продуктивность сознания осуществляется не на основе изначальной очевидности, а в нейтральном фоне (поэтому и должно быть различено данное в опыте и очевидное). Следствия этого: 1) Гуссерль отказывается от утверждения чего-либо в естественной установке (в объективно-бытийственном смысле) и 2) Гуссерль не видит перспективы в чисто понятийно-логическом конструировании мира (т.е. в формальной логике и в классической метафизике). Таким образом, в феноменологии выделяют два уровня очевидности: 1) «первые очевидности» (базовые) – интенциональные предметы, проявляющиеся в потоке сознания и результаты активности этого сознания (феномены), это прямая очевидностная явленность сознания себе; 2) «проблематизированная очевидность» в процессе познания, которая включает предметы, их корреляты, синтезы сознания (модификации: 69 темпоральные, эйдетические, пассивные синтезы-восприятия, активныерефлексивные и пр.), результатом чего должно стать «приведение к полной конкретности», проявляющаяся в феноменологической дескрипции «по мере описания». Вывод: Очевидность конструируется, а не является изначально данной в созерцании. Феноменологическая редукция в новом свете означает прекращение производства неочевидных для сознания структур, форм, смыслов, «объектов». Очевидность определяется единством истин, теоретическим единством, т.е. становится универсальной (всеобщей), императивной (обязательной), систематической, определенной и доступной структурой мышления, или ноэмой – согласованным смысловым единством. Сознание должно стать прозрачным для себя относительно своих предметов и со стороны собственной деятельности. Этот телеологический максимум лежит в основе метода феноменологической дескрипции. Стать очевидным – значит войти в структуру систематического феноменологического описания. А это, в свою очередь, означает, что в теории очевидности интенциональные структуры предстают в темпоральной длительности в идентичной корректности, в ноэматической полноте, в полной определенности структуры феномена как модифицированных смыслов предметной данности. Тогда различные описания перестают быть взаимоисключающими, как в описании Петербурга Кюстина и Готье, или в описаниях Софии Константинопольской четырьмя разными авторами Так как формальная логика – это нормативная система, а сознание работает подчас вопреки всяким формальным законам, следует описать, как же на самом деле совершаются процессы мышления. Поскольку три формальных логических закона не выражают природы феномена, Гуссерль берется их переосмыслить: 1. закон тождества как принцип идентификации, который характеризует предметности сознания в их изменчивости и тождественности одновременно; 2. закон исключенного третьего как принцип непрерывных модификаций сознания; 3. закон противоречия как принцип множественности описания сущего Интенциональный предмет трансформируется в процессе приведения его к очевидности. (Пример: я читаю сложную книгу по философии и ничего на первых порах в ней не понимаю, но в процессе ее освоения мне становятся очевидными некоторые вещи, если я продолжаю прикладывать усилия, то можно привести мои знания к ноэме – «согласованному единству смысла». Темпоральные синтезы, отраженные в рефлексии в единстве своих фаз, а также эйдетическая вариативность сознания, когда один предмет дается во множестве разных смысловых полаганий – примеры приведения к очевидности. Гуссерль утверждал, что «любое смутное сознание в установке трансцендентальной 70 редукции может быть расспрошено о том, соответствует ли ему полагаемый в модусе «он сам» предмет». ЛИТЕРАТУРА. 1. Фреге Г. Избранные работы. М., 1997. 2. Фреге Г.Логические исследования. Томск, 1997. 3. Гуссерль Э. Логические исследования. Т.1 // Гуссерль Э, Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. 4. Прехтль П. Введение в феноменологию Гуссерля. Томск, 1999. 5. Мотрошилова Н.В. Анализ предметностей сознания а феноменологии Э. Гуссерля (на материале второго тома «Логических исследований») // Проблема сознания в современной западной философии. М.,1989. 6. Слинин Я. А. Трансцендентальный субъект. Феноменологические исследования. СПб., 2001. ЛЕКЦИЯ 6. Метод феноменологической дескрипции. 1. Принцип интенциональности как основа дескриптивной феноменологии 2. Виды редукции (феноменологическая, эйдетическая, трансцендентальная) 3. Правила феноменологической дескрипции. 4. Эйдетические и ноэматические корреляты сознания. В основе феноменологии лежит определенная методология исследования, которая имеет целью описание феноменов. Описание феноменов Э. Гуссерль осуществляет методом феноменологической дескрипции. Он основан не на формальной логике (суждениях, соединенных субъектно-предикатной связью по принципу «S есть P»), и не на формальной онтологии (логике понятий в духе Гегеля или Фихте), он не сводится к анализу языка, как у раннего Гуссерля или Виттгенштейна, к символической (несодержательной) логике (как у Фреге). Это принципиально иная исследовательская стратегия описания предметов сознания. Чем этот метод отличается от других философских аналитических процедур исследования? Как строится феноменологическая аналитика? В этой сфере теоретическая осторожность должна проявляться на стадии формулировки вопросов, в которых определяются возможности и прагматические перспективы исследования. Описывая мир как трансцендентную (т.е. противопоставленную сознанию) реальность, философы, как правило, придерживаются одного из следующих положений: 1) признают наличие внешних объектов и рассматривают сознание как их отражение; 71 2) признают независимость предметов мира и сознания и рассматривают их как принципиально несовпадающие параллельные структуры; 3) последовательно признают конституирующие основы сознания, в котором внешний (трансцендентный) объект понимается как имманентное (имеющее опору в самом сознании) явление. Третий случай непосредственно относится к феноменологической философии. Анализ феноменологической дескрипции помогает выявить конститутивную природу сознания и описать феномены как модифицированные значения полагаемых в сознании предметов. В последнем определении увязаны все три стороны отношений, обозначенных в дескриптивном треугольнике как 1) предмето- и 2) смыслополагания, данные в 3) различных модификациях сознания. Чтобы прояснить суть дескриптивного метода, следует определиться с начальными принципами феноменологической установки. Основой феноменологической установки является фундаментальный принцип интенциональности, согласно которому сознание всегда наполнено предметами, которое оно само производит. Этот принцип, в свою очередь, приводит к необходимости осуществления всех необходимых редукций (феноменологической, эйдетической, трансцендентальной). Такая методологическая последовательность является залогом корректного понимания «реальности» в феноменологии: посредством интенционального принципа и принципа редукций феноменологических «реальное» включается в структуру дескрипции как коррелятивная структура, как «тематизация реального» сознанием, как такое реальное, которое осуществляется как предмет описания и как его смысл. «Вещь», «трансцендентное», «реальное», «объективное» входят в сознание и определяются им со стороны своей предметной предъявленности. Коррелятом предметов является не реальная вещь, с которой бы мы сравнивали то, что в ней полагается, а сознание, наполненное или ненаполненное различными значениями, которые приписаны этой вещи. Вещи допускаются в феноменологический анализ постольку, поскольку они присутствуют в сознании, являются его данностями. Э. Гуссерль разработал несколько видов редукций – феноменологическую, эйдетическую, трансцендентальную. Смысл всех редукций состоит в том, чтобы последовательно описывать структуру феноменов, которые коррелируются с разнообразными способами их понимания. Редукции позволяют освободиться от «прирожденной догматики» посредством непрекращающегося 53 «принципиального прояснения методики» . Потому, чтобы ответить на вопрос, имеем ли мы дело с феноменологией или с какой-то другой исследовательской программой, следует ответить на вопрос, Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. Т. 1. Общее введение в чистую феноменологию. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С.46. 53 72 осуществляются ли феноменологические редукции. Гуссерль разработал три вида редукции: 1. Феноменологическая редукция (реальность сводится к феномену, интенциональный предмет анализируется как мысленная, включенная в сознание основа всех возможных предметных содержаний). 2. Эйдетическая (от греч. εἶδος - смысл). Предмет существует в сознании как многообразие приданных ему смыслов. Смысловое наполнение, с точки зрения Гуссерля, обладает таким же непосредственным характером, как и восприятие реальных предметов. Сознание является источником самых разнообразных значений, среди которых есть существенные и несущественные, ложные и истинные. Феноменолог анализирует все многообразие смысловых коррелятов предмета. Эйдетическая редукция призвана осуществить переход от идеации к ноэме, т.е. среди всего многообразия возможных смыслов определить тождественное единство содержаний интенционального предмета, его смысловую полноту. 3. Трансцендентальная редукция определяет универсальные общие для всякого единичного сознания структуры, в трансцендентальной редукции осуществляется переход от очевидности сознания, достоверность работы которого является первой или базовой характеристикой, к очевидности иного порядка, которая структурируется «по мере феноменологического описания», когда выявляются универсальные всеобщие структуры сознания (время, пространство, идеация, предметная тождественность и др.). Из феноменологической установки и редуктивных правил следует, что нельзя сравнивать предметы (ментальные, производные от сознания «эквиваленты» вещей) с «реальными вещами», как в натуралистических или объективистских концепциях. Сознание имеет всегда отношение с сознанием, не с реальностью, следовательно, можно сравнивать только разные способы представления этой реальности. Строго говоря и последовательно рассуждая, сознание производит не вещи, а предметы, еще точнее, феномены - «мыслимые трансцендентные (данные из внешних источников сознания) сущности». Смысловое наполнение в эйдетической редукции осуществляется так, что редуцированное “реальное” невозможно более полагать как отношение фактического к осознаваемому, смысл не есть нечто предданное и готовое, к чему только следует подключиться, - этот смысл обретается по мере производства самого этого смысла. Таким образом, полюс коррелятивности представлен в эйдетической редукции, основой которой является ноэматическое предметное ядро. Всякая вещь - это положенный в сознании смысл или совокупность смыслов. Но мы по-разному мыслим предметы, в том числе и неадекватно, ложно, неопределенно, не-сущностно. Для того, чтобы понять, как в сознании преодолеваются эти «дефекты понимания», Гуссерль анализирует как предмет соотносится с его «смысловым наполнением», т.е. 73 анализирует «осуществление» предмета «по мере сущности». Первая базовая возможность такого наполнения реализуется в способности, которую Гуссерль называет идеацией. Когда мы смотрим на дом, мы непосредственно, интуитивно, определяем для себя видимый предмет: «это - дом», понимая самую суть, без, так сказать, лишних подробностей. В идеации, как в самой непосредственной форме интуитивного схватывания сущности, производится понятийная корреляция сознания, когда, например, вещи не-рефлексивно признаются как пространственные (без ноэматического /смыслового/ прояснения того, чем является сама пространственность), как принадлежащие внешнему миру, опять-таки без необходимости ноэматического наполнения того, чем, по существу, является внешний мир. Вообще говоря, «принцип идеирования» относится к характеристике способности сознания оперировать сущностями как названиями, именами предметов. Отношение к сущностям в сознании, с точки зрения Гуссерля, обладает таким же непосредственным характером, как восприятие “вещей мира”. И в том и в другом случае сознание “схватывает”, или понимает, в разных степенях сложности, суть того, что ему предстает в качестве предмета. Но поскольку “феноменологический результат” достигается лишь тогда, когда догадки подтверждаются “действительным созерцанием сущностных взаимосвязей”, постольку идеация является только основой предметного конструирования и выражения сущностных взаимосвязей, которые затем выявляются в структурах ноэматического описания, целиком лежащего в пределах феноменологического анализа54. Итак, предметный смысл схватывается в идеации. По-другому ее можно определить как категориальную интуицию, позволяющую “экономно” осуществлять сложнейшие отождествления в сфере того, что Гуссерль в своем позднем сочинении “Опыт и суждение” определял как “категориальную артикуляцию” или “предикативную очевидность”, как интуитивную возможность оперировать далекими от созерцания понятиями. В представлении о характере идеации Гуссерль расходится с Кантом, который отделял категориальные формы от интуитивных. Интуитивные данности, согласно кантовской трансцендентальной теории, связываются посредством схематизма воображения, который первичен по отношению к схематизму трансцендентальной дедукции, связывающей категории. Это значит, что, согласно Канту, мы видим раньше, чем понимаем. Для Гуссерля принципиально то, что сущность видимого и мыслимого может схватываться сознанием одновременно, например, в восприятии, которое является вполне полноценной формой сознания именно в силу полноты представленной в нем сущности предмета. В этом заключается определенный вызов феноменологов: неужели, когда я вижу за окном пейзаж (как, например, фрагмент петербургского зимней загородной природы), я осознаю его так глубоко и полно, что рефлексия ничуть не продвинет меня в понимании того, что именно 54 Там же. С. 215. 74 мне представлено в непосредственном созерцании. Конечно, рефлексия дополнит, углубит, может даже изменит это первое впечатление от увиденного. Но само по себе данное в восприятии будет осуществляться вновь и вновь устойчивым образом. А рефлексия будет только прикладываться к этой картинке как необязательное, но весьма ценное и уникальное дополнение. Именно из такого рода приложений к тому, что мы видим, состоят всякая наука и всякое искусство. Рефлексия играет в работе сознания ту же роль, что и художественная форма по отношении к определенной природной основе. Один и тот же пейзаж художники отразят совершенно по-разному даже тогда, когда их художественным преображением руководит канон. Например, в иконописи существует множество воплощений образа Христа. И при том, что в руководстве к изображению персонажей Священного писания, который называется «Изводом», строго описано, как именно должен строиться образ, нет двух одинаковых изображений Спасителя или Богородицы. Так же и рефлексия, - она позволяет видеть то, что вообще говоря, невидимо, но, с другой стороны, именно рефлексия является основой разного рода ошибок, «фантазмов», заблуждений и извращений предметной сути. Ноэматическое ядро феноменологической дескрипции (то есть то, что более привычно определялось как суть понимания вещей) является корреляцией предмета, смысла и тех конкретных видов деятельности сознания, которые и дают нам в результате то, что дают - «феномен». Содержательное наполнение происходит благодаря выявлению совокупности формальных или материальных, определенных или неопределенных подразумеваемых смыслов предмета. Феноменологическая дескрипция на стадии эйдетического анализа является таким описанием предмета, в котором он характеризуется как коррелят множества взаимосвязей сознания в процессе “совершенно определенного сущностного наполнения”. Это и есть форма феноменологической конкретности, которая дается “в постоянной сопряженности со всеми регионами бытия и со всеми ступенями всеобщности вплоть до бытийных конкреций”55. Корреляция предмета с его содержательным наполнением выражает сущностный предметный смысл, или, как определяет его Гуссерль, “фундаментальный кусок ноэмы”56. Ноэматический коррелят определяет основные цели дескрипции: “в отрезке феноменологической длительности - зафиксировать все целое конкретное сознание вещи”57. Очевидно, что эйдетическая редукция осуществляется во множестве модификаций: как идеация, - привычное сущностное интуитивное схватывание предмета, когда мы его так или по-иному называем, именуем. Предмет дается в нашем сознании как «подразумеваемое как таковое, отделенное от меняющихся своих предикатов», он представлен как нечто Там же. С. 193. Там же. С. 215 57 Там же. С.206. 55 56 75 тождественное («простое Х»). Гуссерль определяется предмет как “тождественное”, как “подразумеваемое как таковое, отделенное от меняющихся переменчивых предикатов”. Предмет представляет собой нечто, абстрагированное от конкретного наполнения. По-видимому, надо понимать Гуссерля таким образом: как бы мы ни представляли предмет, чтобы его смысл не сводился к какому-либо конкретному содержанию, не важно даже, истинному и ложному, просто «вот к этому», сознание обладает способностью удерживать предмет как общее, предельно несодержательное понятие, как имя предмета. Идеация - это общая всем способность сознания оперировать сущностями. Это для нас – привычная операция, и мы, как правило, никогда не задумываемся, как именно мы ее осуществляем. Между тем, это одна из сложнейших форм мышления. Например, мы используем временную шкалу отсчета без всякого прояснения того, что такое время. Предметный смысл оказывается доступным в самом непосредственном интуитивном способе предметного конституирования. Но в каких именно модификациях сознания утверждается предметное тождество? Оно может осуществляться “по мере восприятия”, “по мере воспоминания”, “ясно-наглядно”, “по мере мысли”, как “данное” и т.д. в прямом соответствии со способами, какими предмет и его содержание производятся. Одна из форм эйдетического конструирования и одна из фундаментальных модификаций первичного материала – внимание. В нем сознание выступает источником «ноэтического света, который, - как говорит Гуссерль, - выхватывает из темноты фрагменты, секторы видимого». Феноменологическая дескрипция выявляет бесчисленные эйдетические (смысловые) конкретности, описанные в самых различных измерениях смыслов. Простое внимание (его распределение и его модусы: замеченного – незамеченного; внятного – невнятного, сконцентрированного – не сфокусированного, удерживаемого – рассеянного и т.д.) фиксируют изменения интенционального содержания (смыслов), в то время как предметный состав (предметное тождество) остается тем же самым. Гуссерль не случайно сравнивает внимание с блуждающим лучом, который, выхватывая из темноты фрагменты или секторы видимого, является источником своеобразного “ноэтического света”. Луч сознания создает структуру светового преломления в границах тождественной предметности. В целом картина внутри поля внимания оказывается состоящей из светаполутени-тьмы. Внимание актуализирует это поле. Гуссерль говорит о необходимости создания феноменологии внимания как исследования одной из фундаментальных модификаций первичного материала. Анализ внимания показывает, что феноменологическая дескрипция состоит из бесчисленных производящихся и воспроизводящихся предметов, описанных в самых различных формах сознания и флуктуациях смыслов. Приведем пример. У французского художника Бодэна есть картина в импрессионистском стиле, которая называется «Натюрморт с яйцом всмятку». 76 Она выполнена в нежных пастельных тонах, в которых проявляются всевозможные перламутровые оттенки – нежно-розовые, пепельносеребристые, голубовато-зеленоватые, и при этом выдерживается благородная серая гамма. Но название! Только внушением, через определение цвета, которого нет в картине, в этот бледный изысканный натюрморт вторгается желтый, разрушительный для целого, цвет. Он взрывает этот гармоничный колористический порядок только упоминанием, никак не показом оттенка желтка яйца, сваренного всмятку. Наше восприятие разрушается не увиденным, а только представленным желтым цветом. Таким образом Шарль Бодэн оказывает редкостную услугу феноменологам, демонстрируя две разные способности сознания, - восприятие и фантазию, равно участвующие во всех без исключения предметообразующих и смыслообразующих структурах, и делает это исключительно художественными средствами. Мы не объяснили бы все эффекты, производимые этим натюрмортом, если бы не описали действия воображаемого мира картины. Оказывается, что часть мира, заключенного в произведении Бодэна, мы видим (воспринимаем), а часть, - примысливаем, воображаем. И все это – реальность картины. Тогда понятно, как, с феноменологической точки зрения, восполняется реальное, редуцированное на первой стадии феноменологической аналитики, но затем вошедшее в феноменологический контекст в качестве определенного смыслового коррелята предмета. А что будет являться реальностью, например, для физика, который оперирует с идеальными сущностями (скоростью, движением, массой, точкой)? Физик работает, по крайней мере, с двумя реальностями, - с физической теорией, в которой действуют идеальные сущности, и с той областью, к которой этот идеальный мир должен прикладываться. Но эта вторая реальность ведь тоже зависит от того, как именно ее понимают, что конкретно вкладывают в смысл реальности. По своей сути она тоже «идеальна», а не «реальна», поскольку в ней определяющая роль принадлежит понятиям, в которых она описывается. Или другой пример: если мы будем описывать Петербург, то, пожалуй, такая «реальность» как «Петербург-как-он-есть-на-самом-деле», вызовет у нас сомнение, и мы будем исследовать, кто именно употребляет такой термин и прояснять тот конкретный смысл, который в нем заключен. Но такой реальный предмет, как «храм св. Софии Константинопольской» покажется нам вполне закономерным. Скажем, искусствоведы очень часто описывают такого рода «реальности» и эти описания составляют основу таких наук, как искусствоведение, история, эстетика, культурология. Они уже не воспринимаются как «противосмысленные». Тем не менее, первый по сути ничем не отличается от второго. Физики показали, в конце концов, и теперь, после общей теории относительности А. Эйнштейна это стало общим местом, что не может быть «реальности как таковой», может быть только так или иначе осмысленный фрагмент мира, заданный определенными относительными обстоятельствами и правилами его описания. И если бы не феноменологическая 77 теория, философия, как часто бывало, отстала бы от так называемых конкретных наук на несколько десятилетий. Потому проблема статуса реальности, которая была поставлена Гуссерлем, имеет огромное значение для дальнейших перспектив развития философии. И в любой концепции в философскую проблематику на самом первом этапе формирования теории должна быть включена проблема определения смысла реальности, от решения которой зависит понимание всех остальных теоретических вопросов. Реальность – это определенный предмет, включенный в определенную комбинацию иных предметов, смыслов и обстоятельств. Реальное коррелируется как со стороны трансцендентных вещей, так и со стороны интенционального предмета. Объективность не дается раз и навсегда в какой-то счастливый момент времени, потому редукции – это систематическая работа, которая производится через многообразные корреляции58. Что же по сути своей представляет дескриптивное описание? Определяя смысл феноменологической дескрипции и содержательное наполнение феномена, мы имеем в виду конкретный вопрос о “плодотворности феноменологии”59. Является ли феноменологическое описание жесткой структурой или оно осуществляется спонтанно, сообразуясь с теми многообразными формами, или модификациями сознания, благодаря которым производятся (реализуются) феномены? Дескриптивная практика осуществляется в определенной степени стихийно, она не расписана в заданной последовательности, как это имеет место в естественнонаучном опыте. Что в конечном итоге является данностью феноменологического описания? Реальное редуцировано, так же как редуцирован “предмет-как-он-есть-на-самом-деле”. Но то уникальное конкретное содержание, которое имело место в каждом из описаний, не перечеркивается так, как будто его никогда и не было. Оно при всей своей не проясненной смысловой сути входит в феноменологическую дескрипцию как факт, как содержательная и актуализованная сознанием данность, как комплекс Например, такой предмет как Петербург, – можно или нельзя воспринимать его (скажем, увидеть), или он является абсолютно имманентной структурой и коррелируется не «по мере восприятия», а по «мере понимания». Тогда «Петербург» и «Петербург глазами иностранцев», - это разные предметы? Они могут совпадать и не совпадать по смысловым коррелятам, поскольку являются «фактами культуры», индивидуального мнения. Но они имеют общую ноэматическую основу, которая становится очевидной «по мере эйдетического наполнения» предмета в феноменологически ориентированной науке. 59 Гуссерль Э . Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. С. 215. 58 78 проблем, который предстоит решить в исследовании. Однако, только на стадии эйдетической редукции можно говорить о феноменологической науке фактов. В чем выражается “полный” результат феноменологического описания? В чем состоит ее телеологический ориентир? Общий план феноменологического описания можно определить в следующих пунктах (правилах дескриптивного описания): 1. необходимость осуществления редукции (трех ее видов): феноменологической, на стадии которой осуществляется переход к интенциональному предмету, или к «феноменологической реальности»), эйдетической, когда ноэма понимается как «фундаментальный фрагмент смысла», трансцендентальной, включающей анализ структуры самого понимания, границ возможного опыта; проведение феноменологической редукции позволяет осуществить поворот к единственному непротивосмысленному предмету описания – интенциональному, мыслимому предмету, имеющему определенную структуру «феноменологической вещи»; 2. обращение к самому источнику интенциональных данностей - к сознанию; дескрипция осуществляется на трансцендентальной почве, т.е. мы имеем дело с феноменами, мыслимыми предметными содержаниями; феномен имеет свою структуру, которая и определяет порядок исследования модифицированных смыслов полагаемого в сознании предмета. Т.е. мы анализируем предметы, их смыслы (ноэмы) и формы сознания (ноэзы); 3. методом последовательного проведения трансцендентальной редукции, т.е. посредством обращения к универсальным структурам сознания, определяются все его конкретные модификации; 4. тождественное содержание интенциональных предметов осуществляется посредством описания идентифицируемого содержания в различном смысловом наполнении; 5. феноменологическое исследование ведется в плане анализа коррелятивных предметных содержаний в отношении к ноэме, в которой выражается «полный» предполагаемый итог описания феномена; так осуществляется переход от эйдетических вариаций к ноэматическому содержанию; 6. в феноменологическом исследовании раскрывается неопределенновсеобщий горизонт смыслов, производится последовательная экспликация смыслового контекста; 7. производится анализ трансцендентальных – универсальных всеобщих необходимых – структур сознания; 8. осуществляется анализ суждения во всех модусах (вариантах) заключенного в них содержания (сомнения, уверенности, очевидности, непосредственного знания и т.д.); 79 9. феноменологическое обращение редуцированного материала осуществляется в соответствии с феноменологической установкой, целью исследования является движение “к самим вещам” и охват предельно широкого горизонта “жизненного мира”; 10. результатом всех проведенных редукций является осуществленная феноменологическая дескрипция как понимание и характеристика предметов в строгом феноменологическом смысле. Вопрос о дескрипции – это вопрос о «плодотворности феноменологического метода», его способности быть объясняющей теорией. Как осуществляется феноменологическое описание, - спонтанно (ведь описанию подлежит поток интенциональных предметов) или методически последовательно? Это не так существенно в феноменологии, потому что самое важное – реконструировать во всей полноте феноменологическую структуру. Предельный результат феноменологического описания – полная определенность интенционального предмета, скорректированная с сущностно важными интерсубъективными его смыслами. Дескрипция является и способом, и результатом феноменологического анализа. По сути, она является формой знания, в которой различается подлинное и мнимое, истинное и ложное в области суждения, ценностного восприятия, анализируется, что и каким образом конструируется сознанием. В этом состоит смысл феноменологической конкретности. В феноменологическом описании осуществляется движение от спонтанной рефлексии к телеологической, т.е. определенной как цель теоретической конструкции, от ускользающего предметного смысла, к развернутому, осмысленному теоретическому знанию. Только так мы можем возвратиться к редуцированному на начальных этапах феноменологического анализа «реальному», осуществить движение «назад к вещам, к «жизненному миру», когда мы строго и конкретно начинаем мыслить содержание понятий «вещь», «объективное», т.е. феноменологический анализ направлен от неопределенно-всеобщего горизонта вкладываемых сознанием неотчетливых смыслов к его последовательной экспликации, повторным редукциям, и так – к расширенному полю дескриптивной феноменологии. Эти исследовательские задачи определяют возможность постепенного расширения аналитического поля дескриптивной феноменологии. В “Идеях к чистой феноменологии” Гуссерль определяет, что такая постановка вопроса не только возможна, но и является чрезвычайно важной: “продолжить чистое описание, чтобы возвысить таковое до систематически всеобъемлющей - исчерпывающей во всей широте и глубине - характеристики всех наличностей естественной установки - (а тем более уж всех взаимосогласно сплетающихся с таковой иных установок). Такую задачу - как задачу научную - можно и должно зафиксировать, и она чрезвычайно важна, хотя до сих пор ее едва видели”60. 60 Там же. С.69. 80 Перечисленные пункты теории феноменологической дескрипции предполагают освещение всех этапов становления феноменологического описания и постепенное включение всей проблематики в аналитическую конструкцию, иначе дескрипция останется суммой несогласованных фрагментов исследования. Путь Гуссерля лежит от чисто логических, семантических или онтологических исследований, которые он проводит в своих ранних дофеноменологических работах (напр., в «Логических исследованиях»), к анализу интенционально-имманентных, а затем и трансцендентальных источников познания, к описаниям выявленных феноменологических структур сознания. Это и будут в строгом смысле «феномены», или феноменологические «факты». Факты подобного рода (факты как следствия проведенной феноменологической, трансцендентальной и эйдетической редукций) Гуссерль определяет как “конституированные “по мере сознания” ... чувственные явления”, или феноменологические факты в строгом смысле. Феноменология является наукой о феноменах – фактах – в этом особом смысле, строго и последовательно выведенным Гуссерлем. Такая эйдетическая “наука о фактах, пишет Гуссерль, - не может отказаться от своего права пользоваться сущностными истинами, имеющими касательство к индивидуальным предметностям, что принадлежат ее же собственной области”61. Полное описание этого фактического мира Гуссерль только намечает в Заключении к “Формальной и трансцендентальной логике”. Он предполагает осуществить это внутри новой феноменологической дисциплины - трансцендентальной эстетики. При этом всегда следует помнить об опасностях метабазиса (т.е. перехода с почвы феноменологии на почву частных наук, нацеленных на исследование «природы», «мира», «объективных вещей» и т.д.), о чем предупреждал Гуссерль, заботясь о предотвращении “порчи феноменологии” и о соблюдении “чистоты исследовательского региона”. При этом следует понимать, что новая степень феноменологической объективности не дается раз и навсегда в какой-то счастливый момент времени, поскольку естественные полагания коренятся в прирожденной натуралистической догматике сознания. Сознание, вообще говоря, просыпается в некотором смысле во втором акте своей деятельности и застает мир «готовых объектов», поэтому редукции должны осуществляться непрерывно и корректировать рефлексию, только в этом случае мы можем перейти к феноменологическому факту в строгом смысле слова. Феноменологическое описание разворачивается как подтверждение содержаний сознания «по мере познания», как прояснение действительного и кажимого, подлинного и мнимого, истинного и ложного в области суждения, ценностей, восприятий, репрезентаций, оценок а также заблуждений, ошибок, сознательного обмана и 61 Там же. С.40. 81 т.д. и т.д.. В общем виде Гуссерль формулирует проблему описания феноменов как понимание того, каким образом “конституируются по мере сознания объективные единства любого региона”62. Итак, в дескрипции представлены и способ, и результат феноменологического анализа. Ее можно характеризовать и как полную определенность интенциональных предметов, и как аналитику сознания, в котором полагаются интенциональные данности, и как реконструкцию феноменологического метода в целом. Такой ход исследований кажется Гуссерлю чрезвычайно плодотворным, ведущим к тотальному прояснению различных данностей “вплоть до величайших образований строгой теоретической науки и всей культуры”63. Осуществил ли сам Гуссерль в полном объеме намеченную им феноменологическую программу? Гуссерлевы работы имеют экспериментальный характер. Характеризуя собственные исследования таких важнейших для феноменологии предметов, как идеальный объект (такого рода предметы, как собор, картина, художник, прекрасное, пустота и т.д. и т.п. являются идеальными), “естественные трансцендентные вещи” (т.е такие, которые даны во внешнем опыте – в восприятии), аподиктическая очевидность (то есть то, что не требует своего рассудочного обоснования – а именно, феномены, произведенные сознанием в качестве «предметов»), Гуссерль признавался, что они затрагивают самую глубокую область феноменологической рефлексии, “в которой тень рискует уже не быть предварением явления, полем, открывающимся феноменальному свету, но вечно-ночным источником самого света...” Но трезво и оптимистически оценивая свой собственный аналитический метод, он писал: “В природе феноменологии и тех уникальных результатов, которыми все наше знание обязано ей, лежит то, что она постоянно рефлексивно прилагается сама к себе и что она, отправляясь от феноменологических начал, должна приводить к полной ясности сам метод, практикуемый ею”64. Подведем итог. Анализ дескриптивной феноменологической практики неизбежно приводит к обращению к главным темам феноменологии. Особое значение имеют феноменологические процедуры преодоления наивности сознания в естественной установке, уточнение смысла феноменологических редукций, определение оснований особой дескриптивной последовательности и логики анализа явлений. В отличие от гегелевского варианта философского анализа действительности, Гуссерль не испытывал искушения исчерпать предмет изучения, достигнув в исследовании окончательного и полного описания его сущности. Дескрипция – это описание, которое в соответствии с характером своего предмета – жизнью сознания, открывающейся в Там же. С.192. Там же. С.193. 64 Гуссерль Э. Метод прояснения // Современная философия науки. М.: Логос, 1996. С.365 62 63 82 бесконечных многоообразиях и формах, – принципиально не может быть завершенным. Тем не менее в дескрипции выявляются сущностные основы сознания, его “чистые” трансцендентальные (универсальные, необходимые) структуры. Потому анализ феноменологической дескрипции способствует прояснению природы сознания, а также содействует пониманию особого характера онтологической проблематики, поставленной в феноменологической теории. На основе дескриптивной практики феноменологи выдвигают главный аргумент в противостоянии всем видам позитивистски ориентированной философии: нет объективных данностей (качеств) мира, вкладываемых в восприятие, в суждение в качестве некоторого чистого природного, вещественного и независимого от сознания первичного материала. Эту мысль, вообще говоря, следует оформить тавтологически: предмет нашего сознания есть результат нашего сознания, и, соответственно, нет иной реальности, кроме реальности сознания. В феноменологии изживается иллюзия, что самые элементарные акты познания для достижения его «объективности» можно осуществить при нейтрализации самого сознания. Дескриптивная феноменология проявляет еще одно важное качество подлинной философии: всякая действительно серьезная методологическая работа это философствование, когда не на кого переложить ответственность за каждый осуществляемый шаг и за результат, полученный (или не полученный) в итоге. Все это ни в коем случае не отрицает возможности задавать “частные вопросы”, анализировать конкретную область реальности, определенные конкретные феномены. Философский метод вовсе не предназначен только для отвлеченного теоретизирования, но может и должен быть направлен на достижение реальных исследовательских целей, и в феноменологии ставится такого рода определенная “прикладная” задача: применяя метод феноменологического описания к культурно-историческим памятникам понять, как они (эти феномены) конструируются. Такого рода прикладное задание является, на наш взгляд делом, вполне заслуживающим критического и пристрастного анализа. Феноменология показывает, как переплетаются стремления продвинуться и совершить прорыв в строгой и консервативной описательной теории и, в то же время, остаться в ее пределах. Обращение нефеноменологического материала в феноменологический происходит “по мере феноменологического описания”. Перечисляя материал, подлежащий заключению в скобки, Гуссерль называет природный мир, индивидуальные предметности, “конституирующиеся благодаря оценивающим и практическим функциям сознания, – всевозможные культурные образования, произведения технических и изящных искусств, наук, эстетические и практические ценности любого вида, а также “реалии” такого рода, как государство, нравственность, право, религия. Все эти предметы редуцированы в той мере, в какой они входят в рассмотрение не как единства значимости, а именно как культурные факты. 83 Смысл выключения в эйдетической редукции всего трансцендентноиндивиуального состоит в том, что это индивидуальное из региона вещной или событийной индивидуальности переводится в разряд индивидуальных событий потока сознания, проявляющихся в любых текущих отдельных переживаниях уже как имманентные, а не трансцендентные сущности, которые имеют принципиально иную структуру и последовательность описания. Удалось ли Гуссерлю хотя бы в одном произведении последовательно и намеренно продемонстрировать дескриптивный метод? Да, если иметь в виду ту глубину аналитического предусмотрения, в котором поле феноменологических исследований оказывается всеохватывающим, а горизонтные структуры «жизненного мира» заданы не по своей конкретной наполненности, а по своей телеологической, т.е. – поставленной как цель исследования определенности. Нет, если рассматривать феноменологическое описание как готовую и исчерпывающую характеристику любого интенционального предмета. ЛИТЕРАТУРА. 1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. М., 1999 2. Гуссерль Э. Идея феноменологии. СПб., 2006 3. Мотрошилова Н.В. Идеи I Эдмунда Гуссерля как введение феноменологию. М., 2003 4. Абельс Х. Интерпретация, идентификация, презентация. СПб., 1999 5. Антология реалистической феноменологии. М., 2006 6. Воронков В.В. Имманентное и трансцендентное. 2003 в Лекция 7. Феноменология культуры как конкретная наука. Проблема «практической философии». Принцип феноменологических редукций. Понятие «феномена». Структура феномена Пример как коррелят феноменологического анализа Возвращение к проблеме множественности описаний и к проблеме реального в феноменологии 6. Феноменологическое описание 7. Своеобразие «предметов культуры» 1. 2. 3. 4. 5. Феноменология как оригинальное направление философии связана с внутренним развитием дескриптивного метода, выражающемся в упрочении той рефлексивной воли Э. Гуссерля, которая руководила его поистине экспериментальными исследованиями. В чем состоит оригинальность феноменологической философии? Главное, что ее отличает – возможность применить дескриптивный метод как практику описания конкретных 84 феноменов. В этом состоит ее прикладное назначение. Но освоить методику феноменологического описания – очень сложно. Нужно в первую очередь прояснить, что такое феномен, в чем состоит его принципиальное отличие от «объективного предмета», прояснить структуру феномена, а потом уже в соответствии с ней строить феноменологическое описание, или феноменологическую дескрипцию. Мы будем учиться применять феноменологический метод прежде всего для описания феноменов культуры. Что значит для культурологов использовать философские достижения для описания своих предметов? Вообще все рассуждения о методологической ценности философии важны только в том случае, если мы на деле покажем его применение в понимании какого-либо явления («феномена») культуры. Вопрос о продуктивности метода, как и вопрос о состоятельности какой-либо философской школы имеет значение как прояснение возможности «совместных научных занятий в духе серьезного сотрудничества и нацеленности на объективно значимые результаты». Еще раз сформулируем проблему: как феноменологические исследования содействуют в реконструировании мира культуры в процессе его понимания и философского описания? В феноменологии описываются «феномены», - бесконечно разнообразные предметно-смысловые модификации сознания, или его собственные порождения или произведения предметов и смыслов, причем дескриптивный метод – это описание феноменов как конкретных структур сознания, их порождающей основы. Эта проблема осложняется еще и тем, что явления культуры – это предельно сложные для описания предметы, поскольку они принадлежат к тому классу явлений, которые принято называть «большими событиями в истории мира». Они всегда противоречивы в своих определениях, и поскольку при описании феноменов культуры всегда реализуется принцип бесконечного множества возможных описаний, создается представление, что сама эта множественность разрушает предметную тождественность. Предметы не совпадают в своем содержании, выявление сущностной основы «гасит» феномен, поскольку в нем как в явлении культуры важными оказываются и совпадающие и не совпадающие его содержания. Попробуем обратиться к конкретному примеру и решить проблему описания этого явления, опираясь на феноменологический метод. Как ни в какой иной философской теории, в феноменологии огромное значение имеют примеры, т.е. анализ конкретных случаев, имеющих структуру феномена. Феноменология по своей сути – конкретная описательная наука. Оригинальность феноменологической философии состоит именно в практике работы с примерами. При этом единичные случаи, «феномены», или «экземплификации», не могут быть использованы как способ популяризации отвлеченной теории. Употребление примеров не мотивируется в феноменологии ни потребностью образного усвоения метафизического материала, ни необходимостью его подтверждения (верификации). Другими словами, конкретный феномен (пример), который подвергается философской интерпретации не является в феноменологическом 85 исследовании ни иллюстрацией, ни наглядным доказательством, ни приложением приблизительно подходящего случая к теоретической конструкции. Напротив, если пример привлекается в феноменологическом рассуждении, от него в дальнейшем невозможно освободиться, он врастает в исследование не как его, в общем-то, необязательный балласт, а как его единственно необходимое содержание. В этом смысле примеры не облегчают философское содержание, а вводят в него дополнительную сложность и напряженность. Они включаются в целостную структуру дескриптивного анализа. Обращение к примеру – длительная и сложная, многотрудная феноменологическая процедура. Она не предполагает экономии аналитических ресурсов, а напротив, способствует необходимости задействовать все методологические правила и принципы, чтобы удержать единичный случай в феноменологическом исследовании, описать его - а значит - понять. Потому мы и будем изучать феноменологию в описаниях конкретных культурных феноменов. Мы определили феномен как предметно-смысловую корреляцию, т.е. как соотнесенность предмета со смыслами, которые приписываются этому предмету, причем, заметим, каждым отдельным сознанием. Обычно критика феноменологии начинается с такого возражения: сознание всегда принадлежит кому-то конкретно, оно замкнуто в себе и на себе, и если уж обращаться к какому-то конкретному примеру, то можно сказать, что этих конкретных «феноменов» такое же множество, как и людей, которым принадлежат их впечатления и знания предметов, они всегда у всех различные, не совпадают по содержанию. Отсюда – множественность описаний, которые относятся к одному и тому же предметному единству. Это чрезвычайно важные и для феноменологии, и вообще для философии проблемы, и тем более следует понять, как феноменологи продвинулись в их решении. Обратимся к конкретному историко-культурному примеру («феномену»), который позволит нам оказаться «на пороге феноменологии», т.е. в средоточии тех проблем, которые стимулировали развитие феноменологической теории. Предметом описания в этой лекции будет ни много ни мало - «Петербург». Посмотрим, каким его описывали три совершенно несовпадающих в определениях, но, тем не менее, одинаково последовательных и убедительных автора. Двое из них примерно в одно и то же время – в середине 19 века – побывали в Петербурге, и оба воплотили свои впечатления от поездки в путевых эссе. Первым был профессиональный путешественник маркиз Астольф де Кюстин, вторым – Теофиль Готье. Благодаря своей поездке А. де Кюстин прославился как автор одного из самых известных и не менее скандальных опусов 19 столетия - сочинения «Россия в 1839 году». Официальный Петербург готовился к приезду маркиза, он был приглашен в Зимний дворец и благосклонно принят Николаем I, пользовался покровительством императрицы. Де Кюстин посетил в России 86 Петербург, затем направился в Москву, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, и, наконец, отбыл восвояси со словами: «Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакомившийся с царской Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране.» («Это - поездка, полезная всякому иноземцу: кто хорошо ознакомится с этой страной, тот будет доволен жизнью во всяком другом месте.», - в другом переводе.)65 Из этого высказывания становится понятно, что ожидания российских правящих кругов на лестный отзыв о стране не оправдались. И действительно, трудно вообразить себе что-либо более проницательное, недружелюбное, острое, беспощадное, зоркое, и вместе с тем более безблагодатное, чем наблюдения де Кюстина о его русских странствиях. Эссе вышло в свет в 1843 году во Франции, на русском языке перевод появился впервые только в 1910 году. Но все читали книгу де Кюстина, все знали ее совержание. Мы не будем разбирать ни идеи де Кюстина относительно политического строя в России, ни его взгляды относительно русского национального характера. В его впечатлениях о России нас будет интересовать только одна сторона - восприятие путешественником русского природного и архитектурного ландшафта, предполагающее как понимание архитектурного произведения, так и «чувство» основания, почвы, на которой зодчество произрастает. Мы уже знаем, с какими словами покинул путешественник Россию, не менее интересны его первые впечатления, поскольку именно они иногда выдают степень готовности чужеземца понять неведомую и незнакомую ему культуру. Входя в город на корабле со стороны Финского залива, и оказавшись в одном из красивейших уголков Петербурга, на Неве, между Английской набережной и набережной перед Академией художеств, де Кюстин видит две скульптуры сфинксов, оформляющих набережную по проекту Константина Тона. Это было первое испытание и первая ошибка гостя: комментируя увиденное, он пишет: «Эти копии античной скульптуры как произведения искусства сами по себе не имеют большой цены, но общий вид города дворцов отсюда положительно величествен»66. Однако, сфинксы, привезенные в Петербург из стовратных египетских Фив, были вовсе не копиями, а подлинниками, и мы не обращали бы внимания на фактологическую оплошность нашего путешественника, если бы за ней не скрывалось нечто большее - общий предрассудок де Кюстина в отношении к России: в России нет ничего подлинного. Это важно с феноменологической точки зрения: основой формирования де Кюстином образа Петербурга явилось его убеждение (абсолютно мысленная конструкция), предшествующее всем его фактическим наблюдениям. Глаз Кюстина был А. де Кюстин. Россия в 1839 году // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л. : Лениздат, 1991. - С. 660 66 Там же. С. 423 65 87 настроен таким образом, чтобы всюду находить подкрепление этой общей для его путешествия установке. С феноменологической позиции Кюстин выдает свое («феноменальное», или уникальное) представление о Петербурге за единственно возможное, «объективное», имеющее так сказать статус «свидетельства» о реальности как таковой. И задача феноменолога заключается на этом этапе описания феномена показать, в чем состоят признаки и источник этой уникальности. В его опусе постоянно наталкиваешься на две базовые структуры описания, определяющие общее мнение о России: 1) потрясение грандиозными пространствами, в которые он – как свидетель - оказывается впечатанным, и 2) как основание всех его умозаключений о России, - не вывод, а именно предпосылка: в России все не оригинально, включая архитектуру. Более того, де Кюстин считает классицистическую архитектуру на русской почве неуместной, несоответствующей духу местности. Попробуем рассмотреть внимательно аргументы де Кюстина, а нашей вводнофеноменологической задачей будет показать, что мнение де Кюстина, в котором он свято убежден как в обоснованном объективистском непредвзятом суждении, является формой «естественного полагания со всеми присущими ему предубеждениями и следствиями. И, вследствие с феноменологической установкой, оно должно быть редуцировано. Начнем с первого. Все высказывания о Петербурге, в которых выражаются впечатления де Кюстина о своеобразии городского пространства, можно разделить на три рубрики: 1) Петербург как часть необъятной страны, 2) громадность самого города, 3) характеристика огромных размеров площадей, улиц, вообще всех пространственных единиц. Самое большое впечатление на путешественника производят размеры того пространства, в которое он оказывается вовлеченным. Вот лишь несколько цитат из его записок, в которых отражается эта почти болезненная чувствительность к характеру территории, которую он весьма остроумно называет «пустыней»: «...Русские менее всего испытывают нужду в пространстве. Те 400-500 тысяч человек, которые живут в Петербурге, отнюдь его не заселяя, теряются в безмерном просторе, сердце которого сделано из гранита и металла, тело - из гипса и цемента, а конечности - из раскрашенного дерева и гнилых досок.»67 «В России все творится в огромном масштабе, здесь все колоссально.»68 «Расстояние - наше проклятие», - сказал мне (А. де Кюстину - В.С.) император. Справедливость этого замечания можно проверить даже на улицах Петербурга.»69 И так далее, примеров – огромное количество. В своем прекрасном исследовании «Петербург и петербургский текст русской литературы» В.Н. Топоров замечает, что есть несколько способов Там же. С. 477 Там же. С. 482 69 Там же. С. 497 67 68 88 понимания («членения») пространства - профанический, обычный, служащий для нормального передвижения, либо для сравнительных характеристик («хуже-лучше», «цивилизованный-варварский» и т.д.). И есть сакральный взгляд на пространство, когда это вот место - оказывается единственным в своем роде, его не с чем более сравнивать, потому что здесь либо рождаются, либо прирастают к нему, либо собираются умирать, и тогда к нему неприменимы обычные мерки и оценки. Со взглядами маркиза де Кюстина невозможно согласиться не потому, что его оценки носят по большей части негативный характер, - наоборот, они во многих случаях, касающихся частностей и деталей, верны и точны, но потому, что он в качестве меры навязывает характеризуемому предмету нечто несообразное ему и несомасштабное. Несообразность эта состоит как раз в том, что он не соблюдает «чистоты стиля» и не различает профанических и сакральных свойств предмета описания. Смятение, которое он постоянно обнаруживает, основано у него на первобытном ужасе «цивилизованности» перед непонятной и, с его точки зрения, недостаточно окультуренной действительностью. Де Кюстин использует тот обычный ход, который и сейчас еще применяют заезжие гости, когда встречают нечто не укладывающееся в рамки предварительных ожиданий («предрассудков», как это определил бы Х.-Г. Гадамер). За основу берется известный силлогизм «Европа - средоточие культуры. Не европейский - значит не культурный». Вот по этой несложной схеме выстраиваются рассуждения французского путешественника о России («Здесь, в Петербурге, вообще легко обмануться видимостью цивилизации»70. И особенно разительно это выступает в характеристике духа местности, про которую он постоянно толкует, называя это «полем», «пустыней», «пустотой», «степью». Можно сравнить, как то же самое переживание пространственной избыточностью выражается у местного жителя. Особые масштабы пространства могут явиться основой космологического взгляда, при котором пейзаж будто состоит из стихий, которые, по выражению немецкого поэта Р. М. Рильке «друг друга смутно видят вдруг». Вообще поэты эту пра-структуру пейзажа всегда умели хорошо показать. У Державина есть то же чувство и переживание некоторой пространственной чрезмерности: Великолепные чертоги На столько расстоят локтях, Что глас трубы в ловецки роги Едва в их слышится концах. Над возвышенными стенами Как небо наклонился свод, Между огромными столпами Отворен в них к утехам вход. 70 Там же. - С.449 89 У А.С. Пушкина первоначальная, доисторическая, до-городская пустынность места так и остается даже тогда, когда здесь уже проявляется город. Дух места - гений пустынности - передан Пушкиным в его знаменитых строках: На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася... У Ю. Тынянова образ «петербургской пустыни» приобретает характер метафорический: «Петербург никогда не боялся пустоты. Москва росла по домам, которые естественно сцеплялись друг с другом, обрастали домишками, и так возникали московские улицы. Московские площади не всегда можно отличить от улиц, с которыми они разнствуют только шириною, а не духом пространства, также и небольшие кривые московские речки под стать улицам. Основная единица Москвы - дом, потому в Москве много тупиков и переулков. В Петербурге совсем нет тупиков, а каждый переулок стремится быть проспектом. В нем есть такие улицы, о которых доподлинно неизвестно, проспект ли это или переулок. Таков Греческий проспект, который москвичи упорно называют переулком. Улицы в Петербурге образованы ранее домов, и дома только восполнили их линии. Площади же образованы ранее улиц. Поэтому они совершенно самостоятельны, независимы от домов и улиц, их образующих. Единица Петербурга - площадь. Река в нем течет сама по себе, как независимый проспект воды.»71. Итак, пространство для всех – велико. Но оно еще и, по мнению де Кюстина, заполнено не так, как следовало бы. Суть второго критического упрека де Кюстина состоит в подражательности, не оригинальности петербургской архитектуры: «... мой вкус возмущается при виде тех несчастных слепков с классической архитектуры, которыми он и его преемники (речь идет о Петре 1 - В.С.) наградили Россию и этим сделали из нее пародию на Грецию и Италию»72. Ясно, что так раздражает чувствительного француза в архитектурных формах Петербурга, - неуместность здесь греческих и римских образцов архитектуры. Надо отметить, что к тому времени, как де Кюстин прибыл в Петербург, здесь, в столице, сложились четыре архитектурных направления - петровское барокко, елизаветинское барокко, екатерининский классицизм и александровский ампир. Судя по их названиям, они действительно были завезены из Европы. Однако, основу их составляет греко-римская классика, которая, кстати сказать, определила и французский классицизм, сложившийся Тынянов Ю. Кюхля. М.: Изд-во Художественная литература, 1981.- С.229 А. де Кюстин. Россия в 1839 году // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. С. 543 71 72 90 во Франции в 17 столетии и ориентированный на ренессансную ордерную архитектуру, проявившуюся в Италии несколькими столетиями ранее. И. Грабарь, один из самых основательных и вдохновенных исследователей петербургской архитектуры, показал, как соотносились архитектурная традиция, по большей части, заимствованная в Европе, с оригинальным гением русских зодчих. Воспроизведем его описание Петербурга, основанное на знании всех подробностей архитектурного процесса. Здесь возникло множество образцов сложносочиненной классицистической архитектуры, в частности, - много триумфальных сооружений, - арок, обелисков, колонн, монументов. Но необходимо вспомнить, что их появление не было продиктовано стремлением к формальному подражанию архитектурной классике. Все сооружения подобного рода имеют вполне определенный повод для своего возведения, и чаще всего они появлялись по случаю военных побед русской армии. Первые триумфальные ворота, Петровские, были созданы архитектором Д. Трезини и посвящены победам русских под Нарвой в 1700 г. Нарвские триумфальные ворота (1827-1839) были сооружены архитектором В.П. Стасовым в память побед над французами в Отечественной войне. Московские триумфальные ворота (1834-1838) воздвигались в честь побед в русско-турецких войнах. И монумент, вызвавший особенно неприязненную реакцию маркиза де Кюстина, - Александринская колонна (1829-1834) – также была поставлена на Дворцовой площади во славу русского оружия в 1812 году. Но вот что особенно любопытно по части такого архитектурного культурного наследования, - это ампирный стиль, который складывался на петербургской почве в первой трети XIX столетия. Истоки русского ампира можно опять-таки искать во Франции времен императора Бонапарта, где архитекторы Ж. Гондуэн, М.-Ж. Пейр, Ш.Н. Леду и в особенности Ш. Булле, обратившись к истокам классики, к эллинской архитектуре, создавали новые архитектурные формы и вынашивали дерзкие идеи создания грандиозных общественных сооружений. Трагедия этих гениальных архитекторов состояла в том, что они не имели возможности реализовывать свои проекты, и они сохранились в фантастических проектах, ампирный же стиль был разменян на моду, мебель, декоративно-прикладные искусства. И только в Петербурге ампирная программа была реализована с особым размахом. Ампир нашел на русской почве во многих отношениях более благоприятные условия: во-первых, это почти что наследственная тяга русских императоров обустраивать Петербург как идеальный город и противопоставить стихийности застройки строго продуманную логику, именно во времена расцвета ампирной архитектуры эта тенденция нашла свое наиболее полное и последовательное претворение; во-вторых, первая треть 19 века в России была чрезвычайно богата архитектурными талантами, - с «новой классикой» были связаны имена таких даровитых 91 зодчих, как А. Воронихин, А. Захаров, Т. де Томон и, конечно же, несомненный архитектурный гений - Карл Росси, на творчество которого приходится расцвет этого поистине «петербургского» стиля; в третьих, первые десятилетия 19 столетия знаменуются общим расцветом русской культуры, потому это время и называется «золотым веком русской культуры». Были еще частные обстоятельства петербургской «почвы», также повлиявшие на расцвет зодчества. К этим обстоятельствам относится особое отношение к пространству, особое переживание протяженности, которое, как мы уже видели, чуткий к восприятию архитектурных форм человек испытывает, находясь здесь, на невских берегах, - особая пространственная ситуация, которая определяет масштабы строительства, его дух и его формы, - и все это проявилось как нельзя более явственно именно в ампирной архитектурной среде. Величайший, неизмеримый, безмерный, необъятный город обретает в ампирных формах свою определенность. Идея величия Петербурга стала во времена ампира зримой, наглядной. Общей и самой верной приметой этого стиля было особое отношение к пространственной среде, примыкающей к ампирному сооружению. Чтобы выяснить, принадлежит или не принадлежит то или иное архитектурное творение стилю «ампир», достаточно обратить внимание, как оно включается в пространство. Ампирный архитектор не просто строит здание рядом с другими зданиями в строго очерченном границами месте, он вписывает его в окружающий архитектурный ландшафт. Само пустое пространство принимает форму, становится самоценным и необходимым элементом архитектурной среды. Зодчий теперь не работает в мелком масштабе места, отведенного под строительство, он включает свою постройку в перспективу улицы, набережной, площади. И поскольку пустырей в центре города почти не остается, перерабатывается уже сложившееся архитектурное пространство, причем соображения экономической выгоды отступают на дальний план. В эпоху ампира появляется архитектура в изначальном смысле слова - это «архитектура», т.е. нечто большее, чем стены, своды и кровля, это - сверх-строение, и такое буквальное прочтение будет здесь наиболее уместным. Так сооружение Адмиралтейства Адриана Захарова действительно явилось тем узлом, который связал воедино огромную часть материкового пространства: оно объединяет четыре площади - Дворцовую, Исаакиевскую, Сенатскую, Адмиралтейский луг, - выступая своеобразным коридором, концы которого оказываются обработанными К. Росси в его великолепных постройках Главного штаба и комплексов Сената и Синода. Вообще без преувеличения можно сказать, что ампир весь, без остатка, выразился в архитектуре, созданной Росси, в нем этот стиль достиг своего апогея и на нем он угасает. Росси почти всегда, будь то дворец, административное здание или даже помещение театра, варьировал одну и ту же архитектурную модель: цокольный этаж и на нем колонны, подчас 92 объединяющие окна второго и третьего этажей, и аттиковое завершение с тяжелой скульптурной группой. В этой схеме прочитывается античный образ здания, воздвигнутого на священной горе. Этот античный парафраз святилища, возносящегося на возвышении, не во всяком шедевре ренессансной или классицистической (французской, русской) архитектуры столь очевиден. Для этого нужна божественная простота и ясность конструктивистской логики подлинного гения, каковой без всякого сомнения обладал Росси. Первая его заслуга состоит в том, что он сумел понять и выразить символическую основу классики, а не просто отдавал дань архитектурной моде своей эпохи. Кроме того, в россиевских образцах ампира выразился пафос этого стиля, и выразился с небывалой мощью и остроумием Росси работал с огромными пространственными блоками - объединял в одном ансамбле площади, улицы, в этом смысле он был не столько архитектором, сколько градостроителем. Архитектор питал любовь не просто к большому пространству, но к пространству сложному, в котором просматриваются космологические схемы, идея гармонического мироустройства в согласованности стихий. Под сооружение Михайловского дворца было отдано одно из центральных мест Петербурга. Участок, отведенный под строительство дворца, был большой и совершенно не обустроенный. Он ограничивался с одной стороны Мойкой, с другой - Екатерининским каналом и Итальянской улицей. С западной стороны строительная площадка упиралась в Фонтанку. Градостроительный талант Росси проявился в той смелости, с которой он перекраивал архитектурный ландшафт, сложившийся к тому времени. Михайловский дворец, отгороженный сплошной жилой застройкой по Итальянской улице, не имел сообщения с Невским проспектом. Что же делает Росси? Он продолжает Садовую улицу, которая заканчивалась Невским проспектом, и выводит ее по левому флигелю Михайловского дворца, а затем направляет ее на Михайловский замок, к тому времени переименованный в Инженерный. В этом месте Садовая повторяет плавный изгиб Фонтанки, слегка прогибается и упирается в Мойку. Параллельно главному фасаду Михайловского дворца Росси прокладывает Инженерную улицу, а перед дворцом устраивает площадь с небольшим сквером, позже названную площадью Искусств, и от нее пробивает улицу, соединяющую Михайловский дворец с Невским проспектом. Кроме того, Росси создает проекты всех домов, выходящих на площадь и на Михайловскую улицу. Сила и убедительность россиевского проекта действуют столь неотразимо, что даже те здания, которые появляются в эпоху эклектики, в окружении построек Росси по своему внешнему виду если и не воплощают дух ампира, то добросовестно копируют его образцы, включаясь тем самым в ампирную градостроительную систему. Так появились здания Михайловского театра архитектора А. Брюллова, Дворянского собрания (теперь Большой зал филармонии) архитектора П. Жако. По другую сторону Невского проспекта уже стоял 93 небольшой, но прелестный портик Перинной линии архитектора Л. Руска, завершающий ансамбль россиевских построек. Другой совершенно гениальный проект Росси осуществляет на Дворцовой площади, одновременно работая над ансамблем Михайловского дворца. Когда-то здесь на месте здания Главного штаба стояли разномастные и разновеликие дома, выходящие на Дворцовую площадь и на Мойку. Здание Главного штаба - это настоящий шедевр градостроительства. Сложное криволинейное пространство, образованное, с одной стороны, изгибающейся в этом месте Мойкой, как бы дающей место площади, с другой стороны началом Невского проспекта, оказалось совершенно покоренным архитектором. Два протяженных, неправильной формы здания, принадлежащих Министерству финансов и Главному штабу, соединяются перекинутой над проездом аркой. Поскольку Большая Морская улица (ранее называвшаяся Малой Миллионной) подходит к дворцовой площади под углом, зодчий применил здесь очень эффектный прием - он сделал арку двойной. И совсем не случайно художники-перспективисты любили открывающийся на Дворцовую площадь вид как одно из самых пластически богатых мест Петербурга. Панорама, открывающаяся отсюда, действительно божественная и в том еще отношении, что для того, чтобы ее понять и открыть все ее возможности, нужно занять позицию супервизора, попытаться посмотреть на весь ансамбль сверху. Именно в этом случае вспоминается остроумное наблюдение над топологией Петербурга, про который сказано, что улицы появились здесь раньше домов, а площади раньше улиц. Действительно, плавная линия Главного штаба имеет для Петербурга значение фасадной парадной стороны. Площадь - это не что иное, как рисунок пустоты, которая является для нашего города в определенном смысле субстратом. При чрезвычайно плотной застройке Петербурга это пустое городское пространство является организующей и распределяющей массы основой. Ансамбль Дворцовой площади входит в гигантскую классицистическую систему, состоящую из трех площадей, - Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской и Адмиралтейского проспекта. Здание Адмиралтейства до того, как разрослись деревья перед его южным фасадом, выступало своеобразной кулисой, скрывающей Неву и создающей сплошной классицистический коридор, ведущий от Дворцовой площади на Исаакиевскую. Через Исаакиевскую площадь можно попасть на Сенатскую, которая завершает этот «апофеозный и экстатический» парад ампирной архитектуры. Границей всего ансамбля выступают здания Сената и Синода, возведенные К. Росси в 18291834 гг. Пространство площади ограничено протяженными зданиями Адмиралтейства, Сената и Синода, Исаакиевским собором и набережной. Последний ансамбль Росси - Александринский театр и прилегающие к нему территории. Огромный участок, на котором пришлось работать архитектору, теперь включает Театральную и Чернышову площади и 94 связывающую их Театральную улицу (улицу Зодчего Росси). Ансамбль располагается на месте, ограниченном Фонтанкой, Невским проспектом и Апраксиным переулком. Росси работал здесь, правда, с перерывами, с 1816 по 1849 гг. К строительству Александринского театра Росси приступает в 1828 г.. Здание это поистине замечательное. Греческая классика, унаследованная римлянами, трансформированная итальянцами и французами, здесь, на русской почве, вдруг проявляет свое сверх-конструктивистское содержание. У Росси основной ампирный элемент - колонны, поднятые на цокольный этаж, - проявляют свою логическую и архитектоническую целесообразность. Если попытаться понять логику этого архитектурного хода - можно прочитать произведение Росси как воплощение идеи храма, стоящего на возвышении, на горе, которую имитирует цоколь. Пять скромно обработанных входов в цоколе, те двери, которыми обычно пользуются, чтобы попасть внутрь театра, на самом деле не ведут в храм, а, как часть лабиринтного сооружения, представляют собой ложные ходы. Настоящий вход в храм, посвященный Аполлону, покровителю искусств, располагается между колоннами лоджии на втором этаже. Следовательно, чтобы «правильно» войти в помещение театра, нужно подготовить себя к тому, что входишь не в обычное здание, а в такое, где привычные пространственные схемы не подходят. В лабиринтном сооружении наличествуют такие структуры, как ложные ходы, тупики, замкнутые ходы, но имеется также и правильный путь, ведущий лабиринтного скитальца к выходу и избавлению от лабиринтных мытарств. Если позволить себе задержаться в нашей архитектурной фантазии, то можно добавить, что лабиринт Росси располагается как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях: можно заблудиться в нижнем этаже, - в «горе», можно затем перейти в «храмину», но и там долго проблуждать. А между тем здесь есть ведь и выход из лабиринта: редко бывает, чтобы скульптура так органично была бы вписана не только в архитектонический ряд, но и в символический, - Аполлон, удерживающий разгоряченных коней на аттике здания, как будто поджидает победителя лабиринта. Идея искусства, вовлекающего нас в свой мир, приближающего к божеству, высказана здесь в высшей степени убедительно. Конечно же, это наше вольное прочтение символики здания не подтвердится ни биографическими ни архивными материалами, но оно позволяет понять дух ампирной классики и ее пространственное устроение. И, кроме того, оно помогает встать на почву аргументированного противодействия маркизу де Кюстину. По ходу дела мы, опираясь главным образом на исследование И. Грабаря, пытались противопоставить мнению французского путешественника иной взгляд на предмет его критики. Тем самым мы только подвели себя к порогу феноменологии, поскольку на весьма сложном и достойном внимания материале показали возможность прямо противоположных толкований по поводу одного и того же предмета, а именно, - архитектуры Петербурга. Теперь у нас имеется два несовпадающих в оценках «портрета» Петербурга. 95 Как обычно, без вмешательства феноменологического анализа мы объясняем эту множественность характеристик сущего? Принадлежностью разным культурам. Каждый путешественник посещает иное пространство, переполненным памяти и опыта своей культуры. Но вот еще один взгляд на петербургскую архитектуру, и принадлежит он французскому путешественнику, которого отделяет от де Кюстина совсем малое время. Они почти одновременно посещают Петербург, - тем более важно сравнить их впечатления. XIX век называли золотым веком то метафизики, то литературы, что по существу одинаково верно, если судить по количеству философских и литературных гениев той эпохи. Немецкие романтики, наследники и немецкой классической философии, и немецкой изящной словесности, тонко подметили «ужасы» противостояния философии и литературы своей эпохи и выдвинули целую программу преодоления как метафизической отвлеченности и неживописности философских текстов, так и необязательного изобилия литературного письма. Они открытии для европейцев философскую прозу. Но редкие писатели могли быть и тем, и другим одновременно. Теофиль Готье блестящее тому исключение. В чем особенно сказывается талант Готье, который принадлежал французской ветви романтизма, - та невероятная свобода живописания, умение восполнить скуку повседневности блеском и виртуозностью художественного описания. Его посещение Петербурга и вышедшая вслед за тем книга «Путешествие в Россию» - свидетельство особым образом поставленного зрения, - он видит не только подробности городского пейзажа, ему открываются космологические структуры конкретного места. Особенно ему удается живописание городских стихий: воды и ее трансформированных состояний, - снега, дождя, водяных потоков; воздуха и его взаимодействий с окружающими предметами; света и огня, всех преображенных состояний этих стихий, - солнечного сияния светила, ночного освещения, бликов теней, мерцающей плотности мрака. Для него это не только природные эффекты, меняющиеся картинки природы, но нечто такое, что дает глубинное понимание того локуса, в котором он пребывает. В отличие от А. де Кюстина Т. Готье понимает русскую природу, и видит в ней основу и исток русской культуры и умеет умозрить метафизические основания архитектурой формы здесь, на петербургской почве. Россия и Петербург для него это не в первую очередь европейские достижения, он не высматривает их в невероятном разнообразии того «вавилонского места» (места смешения, пестрой яркости, как бы мы теперь сказали, - культурной и стилевой эклектики). Затем по важности и изобилию культурного материала идут византийские древности, именно в них Готье видит «свою» для русских античность. Европоцентристская схема де Кюстина, по которой строятся его культурно-исторические умозаключения, для Готье не пригодна. Он понимает, что за пределами Европы остаются почти все древности мира. Архаика, античность для него - это характеристика не столько определенных 96 культурных форм, сколько укорененности в ландшафте, работы с ландшафтом, способности тех, кто обживает ландшафт, извлекать из него какие-то сверхвидимые возможности. Описывая красоты и роскошь сооружений, продуманность их планов, Готье постоянно применяет один и тот же прием, - он связывает природный ландшафт и архитектурную форму, и всегда находит принцип их органического взаимодействия. Искусственный ландшафт постоянно оживотворяется не изгнанным из него, а наоборот, привлекаемым «гением места». Особое северное местоположение Петербурга, когда природные первоначала не расслаиваются, а как будто проникают одна в другую, и огонь не существует отдельно от воды, так же, как земля, это пространство, отнятое у болота, существует как преображенное место, в котором два перемешанных элемента природы, - земля и вода,- зыбко определяют в пространстве города свои границы: вода отступает, и между небом, на нетвердой почве, появляется этот город-мираж. Но стихии время от времени опять сливаются, и вода врывается в пределы города, а тьма и свет вновь проникают друг в друга, и чередуются летние прозрачные ночи, когда вечерняя и утренняя зори догоняют одна другую, или во мраке зимних северных ночей ровно перемешивается свет, и начинается мистерия мерцания, которую таким гениальным языком передает Теофиль Готье. Этот странный для иноземца вавилонско-византийский пряный город наполнен восточными формами, - купола - это «усеянная бриллиантами митра волхва», на Неве залегли «мраморные складки волн». Но тяготение к милой для сердца романтика чрезмерной живописности, не мешает ему прочувствовать и все своеобразие русского классицизма, особенно в том виде, в каком он проявился в эпоху ампира, и оно подмечается французским писателем чрезвычайно тонко. Трудно сыскать писателя, у которого описания строились бы на столь богатой красочной палитре. Пожалуй, только в русской поэзии «серебряного века» можно найти такой интерес и такие возможности в изображении красок Петербурга. Колористическое своеобразие - это то, что особенно удается Т. Готье, к чему у него имеется редкостный талант. «Каждый час дня создает свой мираж»: петербургское утро окрашено нежнейшими сочетаниями бледно-голубого, молочно-розового, а особое петербургское свечение,светлые столбы дыма, молочный туман делают картину мягкой и мерцающей. Но в особое время суток, чаще всего в закатные часы, фантастические картины Петербурга, под действием природной игры холодного петербургского негреющего солнца, этого холодного северного светила, захватывает писателя неожиданными эффектами, в которых загорается палитра блистающих драгоценных и непрозрачных полудрагоценных камней, что особенно подходит к византийско-восточному городу. Меняется густота красок, и тихое мерцание теперь сменяется картиной красочного пожара. Аметистовые, топазовые цвета, сияние бледного золота, черный балдахин или непроницаемый креп черного неба, «мрак, темень самых беспросветных 97 декабрьских ночей» рождают картину фантастическую73. Эти подспудные первостихии, к которым пробивается чуткая и жадная до такого рода впечатлений душа путешествующего, позволяют видеть Петербург в ряду символических городов-первообразов Вавилона, Иерусалима, Константинополя, Рима. Они выступают в стихии огня, - фейерверках северного сияния, блестках ледяной ночи, всевозможных разрядах, излучениях, фосфорицирующем свечении, перламутровых молниях, звездных коронах церквей, куполах-тиарах, сияющих даже в ночи, этих внешних «лампадах храмов». Весь этот ослепительный и ослепляющий небесный огонь, все эти восхитительные световые эффекты, порождающиеся напряженнейшей природной работой, проникают в поры города, и магическое очарование Петербурга возникает именно потому, что сам его организм оказывается восприемником игры природных стихий, фокусирует и воплощает их на своем каменном теле. Но все это воплощение стихий осуществляется как «явления», как реализованная особым (философскипоэтическим образом) реальность, которая «могла быть, могла не быть». Поэтическая онтологизация Петербурга невозможна без Теофиля Готье в той же мере, как без Александра Пушкина и Николая Гоголя. Принцип формирования ландшафтного описания у двух французских писателей совершенно разный, как противоположны их способы преодоления городского пространства. Де Кюстин кажется слишком мелким для города, потому он мечется, ужасается городскими расстояниями, и призрак азиатской степи не отпускает его ни на минуту. Его пространственная фобия, его неприятие больших расстояний и непривычных городских масштабов постоянно дают о себе знать. Вообще на нем проявляется эта типичная петербургская черта - сокращать в размерах находящиеся в пределах этого города тела. Кюстином это подмечено довольно тонко, но неоригинально, достаточно вспомнить Петербургские повести Н.В. Гоголя. Впоследствии это становится общим местом и для русской литературы ХIХ столетия, показывать несоизмеримость масштабов парадной столицы и его обитателя. Таким образом, проблемы кюстиновского отношения к Петербургу не кажутся такими уж необыкновенными. Но вот в чем состоит успех Теофиля Готье? Как удалось иностранцу найти в этой «европейской» цитадели России столько русско-византийского колорита, - это действительно остается великой тайной французского писателя. Фантастический элемент Петербурга, хоть и лежит на поверхности, но требует особой дисциплины языка, чтобы не казаться романтическим преувеличением и не имеющей никаких реалистических оснований поэтической выдумкой. Город Готье похож на себя, узнаваем и реален той не придуманной реальностью, которую прозревают «умным видением», как говорили древние греки. Фантастический образ живого, переливающегося всеми красками города, в котором как будто бы 73 Готье Т. Путешествие в Россию. М. 1988. С.191-192 98 еще не завершен процесс стихиеобразования и не закончился еще первый день творения, прочувствовал писателем чрезвычайно разнообразно. Он описан автором, и потому осуществился. Пространство описания мифологизировано, и потому здесь все так зыбко и незакончено, и потому город предстает таким изменчивым и волшебно-необъяснимым. Конечно же, как представитель позднего романтизма Готье жаждет необычайных эффектов природного и городского ландшафта, восполняя, где это необходимо, живописными средствами скучные или недостаточно колоритные картины городской жизни. Для него, как для писателя-романтика, вообще не могло быть скучных предметов, поскольку неинтересный, нейтральный ландшафт должен преображаться за счет творческого участия автора. Это не значит, что кроме Теофиля Готье некому «реализовывать» петербургский архитектурнотектонический пейзаж. Город осуществляется как феномен всякий раз, во всяком взгляде, и посредством взгляда он предстает то архитектурно неоригинальным и вторичным, неподлинным, то первозданно-архаичным, в неугасшей еще работе природных стихий. Мы видим теперь эффекты онтологической работы посредством описаний предмета. Теперь стоит обратиться к феноменологическому комментарию. Когда мы проясняли феноменологическую функцию примеров, вопрос состоял не в том, чтобы в отношении одного конкретного случая, одного предметного описания призвать всю феноменологию, а в испытании самой возможности для феноменологии быть описывающей фактологической теорией. Итогом трех (де Кюстина, Грабаря, Готье) развернутых описаний Петербурга в естественной установке сознания не может не стать вопрос о том, действительно ли одна и та де «реальность» в них отразилась, и как возможны столь разные «картины» одного и того же объекта. Вообще проблема множественности описаний сущего - это исходная точка феноменологической аналитики. В качестве телеологического ориентира перед любым «объективистом», «реалистом», «материалистом» маячит образ «реального» Петербурга, или «Петербург-как-он-есть-на-самом-деле». Тот, кто захочет решить вопрос об «истинном описании» своим собственным свидетельством только лишь присоединится к трем описывающим Петербург авторам и произведет еще одно описание в ряду бесконечного множества возможных. Совершая феноменологическую редукцию, мы разворачиваем аналитику от исследования «реальных объектов» (т.е. от исследования «реального Петербурга» или «Петербурга-как-он-есть-на-самом-деле») к пониманию того, как сознание конструирует предмет - «феномен Петербурга». В гуссерлевом определении феномен - это «модифицированный предмет смыслополаганий», т.е. явленный определенным образом в сознании предмет. В основе феноменологической аналитики, таким образом лежит описание структуры феномена, соответствующей всем возможным модификациям предмето- и смысло- полаганий. Модификациями 99 Гуссерль называет все формы деятельности сознания, результатами которой становится существование в нем предмета в самых различных смысловых наполнениях. Корреляция трех позиций – предмета, смыслов, модификаций, - это основа феноменологического описания-дескрипции. Чтобы тождественность предмета «Петербург» не была нарушена самыми разнообразными смысловыми содержаниями, этот процесс должен контролироваться в рефлексии, - т.е. быть целью аналитической стратегии сознания в потоке всех производимых в нем операций. Другими словами, сознание не должно просыпаться во втором акте своей деятельности, и пребывать потому в иллюзии, что мир «дан заранее» и «уже готовым», а мы только его изучаем и осознаем. Осознание и осуществление мира – процессы, разворачивающиеся параллельно. Феноменологическая редукция, вообще говоря, имеет значение в двух аспектах. В первом она, как было показано выше, контролирует переход с феноменологии на метабазис, т.е. на почву частных мнений с апелляцией к объективному положению дел. В более узком смысле – феноменологическая редукция дает доступ к трехосновной структуре феномена – 1) к его предмету, 2) к его разнообразным смыслам, и 3) к всем его возможным способам, какими он может предстать в сознании. Рассмотрим каждый элемент этой структуры. Предмет. Гуссерль определяется предмет как “тождественное”, отделенное от меняющихся переменчивых предикатов”. Он представляет собой нечто, чему мы даем имя. В то же время предмет – это “простое Х”, абстрагированное от всех конкретных качеств. На полюсе идентичной тождественности предмет схватывается в категориальной интуиции, просто как «вот этот предмет» и обладает некоторой неопределенностью («неопределенной тождественностью»). Предмет – это «подразумеваемое как таковое». В данном случае – при всех разноречивых характеристиках предметом описания является именно Петербург и при всех интерпретациях этого конкретного предмета наших исследований, мы должны быть уверенными, что мы его на каком-то этапе наших рассуждений не утратили. В противном случае, произойдет подмена предмета, и он станет «квазипредметом», «псевдопредметом». Смысл. При этом, как было сказано, предмету присваиваются все новые и новые смыслы (оригинальный, ампирный, подлинный, вторичный, прекрасный, неприятный и т.д. и т.д.). Смысловая целостность формируется на различных уровнях, - это может быть непрерывность восприятия. Предметы, а не реальные объекты допускаются, наличествуют, присутствуют в сознании, являются его данностями. Всякий предмет связан с положенными в сознании смыслами или совокупностью смыслов. Основой их коррелятивности (соотнесенности, связи предмета и его конкретного смысла) 100 в феноменологии является эйдетическая редукция. Эйдетическая редукция осуществляется посредством различных операций сознания. Самой непосредственной формой интуитивного схватывания сущности является идеация, которая осуществляет понятийную корреляцию, когда, например, тот, кто никогда не видел Петербурга, тем не менее, может рассуждать о нем (в таких, например, формах: «я не знаю Петербург», «я думаю, что Петербург красивый (или некрасивый) город») и т.д.. Идеация – это возможность сознания работать с предметами, так сказать, на поверхности знаний о них. Вообще говоря, принцип идеации относится не к характеристике феноменологического метода, а к способности сознания оперировать сущностями. Сущности, с точки зрения Гуссерля, так же доступны сознанию, как восприятие “вещей мира”. (В представлении о характере идеации Гуссерль расходится с Кантом, который отделял категориальные формы от интуитивных. Интуитивные данности, согласно кантовской трансцендентальной теории, связываются посредством схематизма воображения, который первичен по отношению к схематизму трансцендентальной дедукции, связывающей категории.) Согласно Гуссерлю, в категориальной интуиции сознание “схватывает” содержание, которое принадлежит разным - внутренней и внешней - способностям сознания. Но поскольку “феноменологический результат” достигается тогда, когда догадки подтверждаются “действительным созерцанием сущностных взаимосвязей”, постольку идеация является только основой ложного процесса понимания, который постепенно выявляется в структурах ноэматического описания, целиком лежащего в пределах феноменологического анализа сущности. Ноэматический коррелят определяет основные цели дескрипции (феноменологического описания): “в отрезке феноменологической длительности - зафиксировать все целое конкретное сознание вещи”. Феноменологическая дескрипция на стадии эйдетического анализа является таким описанием предмета, в котором он характеризуется как коррелят множества взаимосвязей сознания в процессе “совершенно определенного сущностного наполнения”. Это и есть форма феноменологической конкретности, которая дается “в постоянной сопряженности со всеми регионами бытия и со всеми ступенями всеобщности вплоть до бытийных конкреций”. Модификации сознания. Мы можем реализовать предмет в сознании разными способами – «по мере восприятия», «по мере воображения», «по мере понимания». И это будут по-разному организованные явления (феномены Петербурга). Но стоит отметить, что, строго говоря и последовательно мысля, Петербург – это абсолютно идеальная сущность, и воспринимать (видеть) такой предмет как Петербург невозможно, его можно только мыслить. Потому формы сознания, которые конституируют (буквально – учреждают сознанием) такого рода предметы, имеют не непосредственный, т.е. данный в восприятии, а репрезентативный (представленный в сознании) 101 характер. И существование таких предметов возможно благодаря особой модификации сознания (особому способу его деятельности), тому, что Гуссерль называл «воображением», или «фантазией». Подведем итог. Петербург – это предмет, производный от деятельности сознания как такового, он относится и к «трансцендентным», и к «имманентным» предметам, т.е. источником этого предмета является и внешний опыт (восприятие), в котором окажутся представленными отдельные предметы, совокупность которых и дает нам феномен «Петербург» (источником его, подчеркнем еще раз, является сознание, и только сознание). Если внимательно и ответственно относиться к такого рода различениям, то, согласно феноменологической теории Гуссерля, мы могли бы увидеть отдельные здания, площади, даже кварталы в перспективе других зданий, находящихся в поле конкретного видения, заданного возможностями нашего зрения. Но мы никогда не увидим предмет, который бы в полном соответствии с его сущностью назывался бы «Петербургом», потому что «Петербург» - это чисто ментальная (мыслительная) предметная конструкция, удерживаемая в потоке сознания, в котором одновременно могут быть представлены смутно или вполне отчетливо и другие предметы. Любой предмет, данный в сознании, обременяется далекими и близкими ассоциативными отношениями, возникающими и спонтанно, и в контролируемых, последовательных, ожидаемых, «отлаженных» связках смыслов. Смысловая насыщенность может соответствовать такому уровню, который Гуссерль определяет как «ноэма», или «фундаментальный кусок смыслов», или «согласованное единство смыслов». Итак, посредством принципа феноменологической редукции определяется своеобразная тематизация реального в феноменологии: “реальное” включено в структуру дескрипции не как предданная сознанию и независимая от него его основа, но как коррелятивная – смысловая его ось. Другими словами, реальное – это один из возможных смыслов, который присваивается сознанием предмету, точнее сказать, вменяется ему как “смысл реального”. В феноменологии такие понятия как “вещь”, “трансцендентное”, “множественное”, “внешнее”, “реальное” должны использоваться весьма осмотрительно. В свете феноменологической редукции коррелятом «Петербурга» является не реальный объект, с которым бы мы его сравнивали. Не стоит искать некоторый «реальный» предмет, не затронутый и не затемненный сознанием. В феноменологии сознание является вообще единственным источником света, и невозможно, или, как говорит Гуссерль, «противосмысленно» искать что-то вне этого источника. Сознание не противопоставлено «реальному объекту», а является единственно возможной порождающей его основой. Вот так. 102 Тождественное (идентичное) содержание невозможно представить без обращения к аналитике тех структур сознания, в которых конституируется предметная определенность. Она может осуществляться “по мере восприятия”, “по мере воспоминания”, “ясно-наглядно”, “по мере мысли”, как “данное”, и еще как-то в необозримой множественности всех возможных способов явления, какими содержание производится сознанием. Это третий элемент структуры феномена- модификации сознания. Работа сознания осуществляется в определенной степени стихийно, коль скоро ее основу составляет поток сознания. Потому и ее описание (дескрипция) не расписана в жесткой последовательности, как это имеет место в естественнонаучном опыте или даже в гегелевской формальной онтологии (логике понятий). Что же в таком случае представляет собой результат феноменологической дескрипции, в нашем случае, описания феномена «Петербург»? Повторим уже применительно к нашему конкретному случаю вопрос о том, является ли феноменологическое описание жесткой определенной структурой, или оно осуществляется спонтанно, сообразуясь с теми многообразными смыслами, которые случайно извлекаются из потока сознания? Отвечая на эти вопросы, мы решаем проблему «плодотворности» феноменологического метода. В дескрипции проявляются и способ, и результат феноменологического анализа. Ее можно характеризовать и как достаточную определенность интенциональных (т.е. включенных в сознание) предметов, и как аналитику актов, в которых полагаются интенциональные данности, и как реконструкцию феноменологического метода в целом. В чем выражается “полный” результат феноменологического описания? Где находится порог аподиктической (необходимо достоверной) очевидности, которая представляет телеологический горизонт феноменологии? В своем произведении »Идеи к чистой феноменологии» Э. Гуссерль довольно смутно обозначает пределы феноменологического анализа, согласно которому явления должны быть описаны таким образом, что их невозможно ни “подкрепить”, ни “лишить силы”. Феноменологически достаточное описание явлений, или феноменологическая дескрипция, – это скоррелированная ноэматическипредметная аналитика, которая складывается «по мере явления», «по мере восприятия», «по мере описания», «по мере произведения смыслов», «по мере сущности», «по мере (о)сознания». В феноменологической теории дескрипции предполагается освещение всех этапов становления феноменологического описания и постепенное включение всей проблематики в аналитическую конструкцию, иначе дескрипция останется суммой несогласованных фрагментов исследования. Очевидно, что таким образом телеологически ориентированная аналитика принципиально не может быть завершена. Однако цели описания определяют возможность постепенного расширения аналитического поля дескриптивной феноменологии. Что же можно включить в феноменологическую дескрипцию Петербурга? Реальное редуцировано, так же как редуцирован “Петербург-как-он-есть-на103 самом-деле”. Фактическое содержание, данное нам в описаниях А. де Кюстина и Т. Готье, имеет особое значение как возможные корреляты ноэмы. Феноменологическое описание разворачивается как прояснение множества конкретных смыслов по мере познания, как отношение действительного и кажимого, подлинного и мнимого, истинного и ложного, неочевидного и адекватного в области суждений, ценностей, восприятий, репрезентаций, оценок, сомнений и т.д. и т.д. То уникальное конкретное содержание, которое имело место в каждом из описаний, не перечеркивается так, как будто его никогда и не было. Оно при всей своей на данном этапе исследования не проясненной феноменологической сути входит в дескрипцию как предметное содержание, как содержательная и актуализованная сознанием данность, как комплекс проблем, которые предстоит решить в исследовании. Только в этом смысле можно говорить о феноменологической науке о фактах. В “Идеях” Гуссерль упоминает ее как науку, “которой нам теперь недостает”. Вспомним, что такой ход исследований кажется Гуссерлю чрезвычайно плодотворным, ведущим к тотальному прояснению различных данностей «до систематически всеобъемлющей образований строгой теоретической науки и всей культуры». Удалось ли Гуссерлю последовательно и намеренно продемонстрировать дескриптивный метод? Да, если иметь в виду ту глубину аналитического предусмотрения, в котором поле феноменологических исследований оказывается всеохватывающим, а горизонтные структуры - определяющими не по своей фактической исчерпанности, а по своей телеологической тематизированности. Нет, если рассматривать феноменологическое описание как готовую и исчерпывающую характеристику интенционального предмета. Осуществил ли сам Гуссерль в полном объеме намеченную им феноменологическую дескриптивную программу? Что нового приобретает предмет, подвергшийся феноменологическим редукциям? Содержится ли в нем та предметная уникальность, которая в естественной установке дается в формах непосредственного созерцания и осознается в спонтанной рефлексии? Можно ли исчерпать эту уникальность в интерсубъективном (данном в сознании нескольких субъектов) феноменологическом анализе? Гуссерлевы работы имеют экспериментальный характер. Характеризуя собственные исследования таких важнейших для феноменологии предметов, как идеальный объект, “естественные трансцендентные вещи”, аподиктическая очевидность, Гуссерль признавался, что они затрагивают самую глубокую область феноменологической рефлексии, “в которой тень рискует уже не быть предварением явления, полем, открывающимся феноменальному свету, но вечно-ночным источником самого света...” Но трезво и оптимистически оценивая свой собственный аналитический метод, он писал: “В природе феноменологии и тех уникальных результатов, которыми все наше знание обязано ей, лежит то, что она постоянно рефлексивно прилагается сама к себе и что она, отправляясь от феноменологических начал, должна приводить к 104 полной ясности сам метод, практикуемый ею”. В современной феноменологии и теперь вопросов больше, чем ответов, и это нормально для развивающегося научного знания. ЛИТЕРАТУРА 1. Гуссерль Э. Метод прояснения // Современная философия науки. М.,1996 2. Гуссерль Э. Идея феноменологии. СПб., 2006 3. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994 4. Мотрошилова Н.В. Работы разных лет: избранные статьи и эссе.(Серия «Феноменология – Герменевтика») М., 2005 5. А. де Кюстин. Россия в 1839 году // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев 6. Готье Т. Путешествие в Россию. М. 1988. Лекция 8. Описание произведений культурологическая проблема. искусства как философско- 1. Проблема дескрипции предметов культуры: как, зачем, что мы описываем (феноменологический подход). 2. Предметные трансформации в восприятии. Проблема отражения меняющихся предметов 3. Пространственное моделирование предметов в сознании. 4. Конкретное описание. Процедура описания предметов является важной для многих культурологических наук – искусствознания, истории, филологии. Проблема формулируется следующим образом: как следует описывать предметы искусства, - памятники архитектуры, скульптуры, живописи, прикладного искусства, литературные произведения и пр.. Реже ставится вопрос – зачем нужно описывать эти предметы. И практически никогда – что мы описываем. В самом деле, очевидно, что мы описываем то, «что видим». Если эту проблему берется исследовать философ, основные сложности для него начинаются именно в этом пункте, т.е. в самом начале процесса описания. Правда, это относится не ко всякому философу. Например, философ объективистской или материалистической традиции, ответит на этот вопрос, – что именно мы описываем, – «ничтоже сумняшеся»: мы описываем реальный предмет, тот, который находится перед нами. Мы его, как говорил классик, «копируем, фотографируем, отображаем». Сомнения скептиков распространяются не только на результат такого копирования, - предмет отображения, так сказать, «на выходе описания», ее словесную лингвистическую форму, но на самый 105 исходный этап копирования – само восприятие этого изображаемого. Оказывается, что предмет фотографирования, то, что материалисты всех толков определяют как «объективный», или «реальный», никакой первозданной реальностью уже не является, он уже есть произведение сознания, он есть само сознание. То, что для реалиста является «объективной реальностью», и лежит «по ту сторону сознания», для критика такой теории реализма является «конституированной реальностью», результатом деятельности сознания, даже если оно выступает в самой «простой» его фазе – восприятия. Простодушных, бойких и энтузианистических материалистов, для которых вот она, реальность, без всякого моего участия, как бы подсмотренная без глаза, или данная «на чистом глазу», теперь не так просто найти, и трудно обнаружить того, кто бы стал отстаивать такую простую и незатейливую конструкцию предметного описания. Поэтому исходный вопрос возвращается к нам уже во всей его проблематической определенности – что именно мы описываем? Если мы определим, что источником описания и как предмета, и как темпорального проявления его будет не что иное, как сознание-восприятие, которое и конструирует предмет дальнейшей рефлективной работы, то очевидными станут для нас два необходимых и принципиально различных процесса. И здесь, по-видимому, не обойтись без конкретного примера, который, с одной стороны, показывал бы нам, помогает ли определенная методика действительно продвигаться в нашем стремлении описать предмет, а с другой стороны, дисциплинировал бы наше восприятие и воображение, не позволял бы строить вместо описания «квази-описание», или «псевдо-описание», в котором происходит трансформация исходной предметной данности или, даже более того, предмет описания оказывается и вовсе утраченным. Вот перед нами – театр. Если попросить прохожего нам его описать, то все будет зависеть от того, насколько подготовленным окажется он для этой работы: одно дело, если это будет великий знаток петербургской архитектуры Игорь Грабарь, и – совсем другое, если это будет человек неподготовленный, который и в толк не может взять, что там описывать. И пока для нас самое важное понять, что даже на стадии восприятия (сознания-восприятия) это будут совершенно разные «явления театра». Архитектурное произведение является, пожалуй, самым сложным предметом для описания. Оно является трудным уже для восприятия, поскольку наше зрение, производящий его источник, трансформирует трехмерный внешний объект (эту гипотетически и проблематически данную трансцендентную вещь) в плоскую, ограниченную полем зрения картинку. Попробуем разобраться, какие формы и структуры сознания позволяют «осуществиться» архитектурному произведению. Вся эта часть исследования будет соответствовать «прозаическому описанию» предмета искусства, в отличие от того, что можно было бы назвать «чистой поэзией», в которой и предмет описания, и само описание являются образцами высокого искусства. Такие описательные образцы определяются литературоведческим понятие 106 «экфрасис». Однако, прежде, чем обращаться к такому специфическому виду описаний, ограничимся тем, что вообще фундирует возможность «предметного производства». Одной из форм сознания, позволяющих ему «реализовать» внешние трансцендентные вещи, является пространственная интуиция. В реконструкции понимания деятельности сознания в этой сфере мы будем опираться на феноменологические исследования Эдмунда Гуссерля, которые он провел во второй книге “Идей к чистой феноменологии”. Он различает пространство каждодневного опыта и геометризированный (математический) опыт как восприятия “в пространстве” и восприятие самого пространства. Однако, согласно Гуссерлю, ни визуальное поле, ни математические конструкты не выявляют непосредственных базовых пространственных интуиций. В пространственном визуальном опыте проявляется не то же самое, что описывается в математической модели и составляет основу зримой картины восприятия. Феноменологически последовательное описание показывает, что в этих двух случаях проявляются два разных смысла пространственности. Речь идет о реконструировании сознания “наличного пространства”, которое в соответствии с гуссерлевской традицией, можно было бы определить как внутреннее сознание пространственности. Согласно представлениям Гуссерля, существует более непосредственный и более фундаментальный опыт пространственного схватывания, уже включенный в обычное визуальное и каждодневное восприятие. В восприятии формируются предметности визуального поля, ограниченного множеством связанных с точкой восприятия перспектив, соотнесенных с первичным импрессиональным содержанием восприятия. Другими словами, изначально восприятие наполнено различными, осознаваемыми и неосознаваемыми предметами, которые, хоть и конструируются сознанием, однако отнюдь не являются предметами особой формы его деятельности, - рефлексии, и потому осуществляются в форме «пассивного осознавания», или интуиции. Во второй книге “Идей” Гуссерль описывает опыт пространственного конституирования, исходя из идеальной ситуации, когда телесные структуры восприятия совпадают поначалу с полем “простого” видения, когда воспринимающий находится в абсолютном покое. Затем Гуссерль вводит в эту упрощенную схему все новые и новые кинестетические (двигательные) акты — окуломоторную двигательную координацию глаза и цефаломоторную кинестетическую согласованность простейших движений головы. Эти виды телесной корреляции очень сильно меняют структуру первоначального визуального поля —настолько, что предмет может появляться или исчезать в зависимости от направления движения воспринимающего. Гуссерль основывает анализ телесности на элементарных квадринаправленных движениях глаза и головы (вверх-вниз; вправо-влево), являющихся основой конституирования визуального поля. Изменения, вносимые движениями глаза и головы, представляются Гуссерлю исходными коррелятами телесного 107 согласования материи восприятия и являются таким типом взаимодействий, которые управляют предметными формами. Следует отметить, что сама простота анализируемых актов не должна дать повод упрекнуть Гуссерля в физиологической тривиальности, что, кстати сказать, имело не раз место даже в среде последователей Гуссерля. Гуссерль показывает, что та “непосредственная данность”, которая предстает воспринимающему в реалистической установке, не является интуитивной основой опыта, поскольку само зрительное восприятие скорее входит в структуру иллюзорного (телесно искажающего) моделирования, чем адекватного или объективного отражения реальности, материалистически или эмпирически понимаемой. Гуссерль стремится понять, как порождается интуиция пространственной трехмерности, которая возникает именно в простых актах “телесного сознания”. Человеческий глаз как моделирующая двигательная структура работает в режиме плоскостного преобразования видимого материала и ограничивает возможности восприятия пределами зрительного поля. Мир в таком отражении представляет собой сосредоточенную у поверхностей тела развернутую вертикально криволинейную плоскость, охватывающую тело со всех сторон. Гуссерль полагает, что телесное сознание моделирует картину мира в соответствии с эвклидовой моделью, допускающей известное упрощение и существенную “неправильность” в отражении картины “реального” устройства вещей. Зрительно мир утверждается плоским, эвклидова геометрия не является “врожденной” нам, и, чтобы сделать ее «достоверной», находящейся в полном соответствии с исходными пространственными интуициями, мы коррелируем в сознании природное несовершенство искажающего зрительного отображения. Гуссерль считает геометрию Эвклида первичной по отношению к другим геометриям потому, что математические интуиции, заложенные в аксиомах эвклидовой геометрии, изначально соответствуют формам фундаментальных трансформаций, привносимых глазом в акты телесного восприятия. Кроме того, Гуссерль вводит понятие дистантности и тем самым вносит в зрительно-условную систему плоскостной развертки поправку, которая также входит в структуру фундаментальной пространственной интуиции и может привести к пониманию того, что именно стоит за конструированием трехмерности вещного мира. Нас не должно смущать, что трехмерность как бы выстраивается или достраивается сознанием над двухмерной картиной восприятия, и акт рефлексии не должен ставить под сомнение интуитивную природу пространственного конституирования в целом. Все пространственные интуиции (как двухмерности, так и трехмерности) изначальны и зависят только от того, какое поле, какой горизонт, какую проекцию сознание выбирает в своем пространственном опыте. С феноменологической позиции живопись столь же соответствует нашей природной визуальной интуиции, как и архитектура, - двухмерная картина не менее естественна для нашего восприятия, чем осознаваемый объем фигуры в трехмерной проекции. 108 Внешний предмет провоцирует и стимулирует наше восприятие-сознание, результатом чего являются множественные смысловые проекции его в воображении, наполняющие представление о трехмерности мира все новыми содержаниями. Телесная корреляция мыслимых предметов входит в сознание, как корректировка прямого и опосредованного видов опыта, и данности прямого созерцания, выявляют то, что укоренено в интуициях. Так интуиция объемного мира дополняется, достраивается и завершается в конкретных и бесконечно разнообразных синтезах сознания. Таким образом, в явлении даны как «первопорядковые данности”, феноменологически определяемые как трансцендентная (внешняя) вещь(«вот передо мной - театр»), как внешний природный объект, данный в опыте, так и непредставленный в созерцании слой, такой, который «никоим образом не доступен созерцанию в развернутом виде как помысленный сознанием объект». Это, так сказать, естественное видение вещей, доступное за счет деятельности сознания. Но помимо этого, еще существует восприятие, укорененное “в отношении конкретных объектов более высокого уровня” - мира людей и мира культуры. В этом случае - это структуры согласованных подтверждений осуществлявшегося ранее опыта, который возобновляется по принципу “возможного повторения”, или коммуникативного взаимодействия, или опыта интерсубъективности, в котором соединяется индивидуальный, мой взгляд на вещи с точкой зрения других людей. Гуссерль называет это “компонентой несобственного восприятия”. Если восприятие основано на временной непрерывности процесса, то представление является дискретным, прерывающимся, вносящим в сознание совершенно “новый” материал. Мы представляем предмет «из себя», но при этом можно обнаружить в структуре имманентного предмета вставку “чужого опыта”, по схеме ассоциативных, дополняющих, связей содержаний. Итак, Гуссерль анализирует внешние предметы как реализованное сознанием телесно-ментальное отношение. Внимание Гуссерля к простым и как будто бы самоочевидным процессам восприятия помогает ему феноменологически преодолевать многие предрассудки “здравого смысла” относительно того, какими «готовыми и законченными» видятся предметы в зрительном отображении, и восполнять в описании этих привычных процессов те фазы восприятия, которые незаметно для себя осуществляет наше сознание. Все это позволяет Гуссерлю изжить иллюзию, что существуют элементарные чувственные отображения, которые осуществляются при нейтрализации самого сознания. Для Гуссерля сфера сознания тотальна, т.е. не существует ни одного фрагмента реальности, в котором бы сознание было «лишним», и из которого проглядывала бы что-то иное, кроме “реальности самого сознания”. Отсюда следует главное возражение Гуссерля на аргументы позитивистски настроенных исследователей: нет первичных данностей (качеств) мира, вкладываемых в восприятие со стороны объективной действительности, нет чистой фактичности как таковой. Эту мысль, вообще 109 говоря, следует оформить тавтологически: мир нашего сознания, т.е. тот единственный мир, какой нам доступен, - это результат нашего сознания. Воспринимаемое, феноменологически понятое, раскрывается не посредством предикации объективных или первичных качеств пред-данной реальности, но как изображение многомерного, многосложного процесса надстраивания структур сознания. Потому конституирование процесса восприятия в его пространственных моделях является действительно философским открытием, которое служит основанием для критики примитивных образцов всех объективистских философий. Рене Декарт в “Рассуждении о методе”достаточно убедительно показал, чего стоят любые так называемые объективные характеристики вещественного мира. И в этом отношении для феноменолога тот факт, что вот это архитектурное сооружение стоит перед ним, имеет совсем иную природу, чем для наивного реалиста, поскольку для него интерес и смысл представляют только такие структуры описания, в которых становится явным, что производятся они, так сказать, в стенах сознания. Они требуют корреляции в более глубоком интуитивном слое сознания, в описании возможных модификаций первичных импрессий в структурах темпорального и пространственного конституирования, но никак не во внешней реальности. Характеризуя структуру восприятия в гуссерлевском анализе, следует признать, что его способ предметного описания позволил в совершенно новой перспективе представить те его фазы, которые не попадали в поле зрения философов (как элементарные целостности пред-сознания). Гуссерль не только привел к единству множественность форм такой первичности, но описал процессуальное развертывание содержаний сознания. Он расширил понимание интуитивных основ восприятия. Значение феноменологической теории состоит в том, что обращаясь к анализу мыслимых (интенциональных) предметов, Гуссерль проясняет роль телесности в общей структуре сознания. С одной стороны, “плотское сознание” является «полной и нормальной» формой сознания, а с другой стороны, в нем явственнее, чем в какой-либо другой деятельности сознания проявлены материальные, телесные и вещественные его содержания. На завершающей стадии нашего «прозаического» введения вот что следует выделить особо, - к непосредственному восприятию примысливается воображаемый в сознании предмет. Наше сознание постоянно достраивает этот первичный плосткостный образ до объемной пространственной вещи. И мы обычно не замечаем этой подмены. Мы воспринимаем архитектурное произведение и имеем дело с непосредственно данной нам пространственной структурой, которая не может быть дана нам полностью, поскольку для этого нужно совершенно иным образом организованное зрение, и потому доводим его до его природной полноты посредством воображения. Это наблюдение позволило феноменологу Эдмунду Гуссерлю остроумно отметить, что наше сознание просыпается в последнем акте своего собственного действия, когда 110 предмет предстает «уже готовым». Теперь после такой изнуряющей, и как будто бы даже не имеющей прямого отношения к восприятию эстетизированного объекта, каким, без сомнения является всякое архитектурное произведение, обратимся к какому-нибудь достойному описанию архитектурного шедевра. Пусть это будет здание Александринского театра, данное одним из самых авторитетнейших знатоков русской архитектуры, Игорем Грабарем в его классическом историко-культурном исследовании «Петербургская архитектура в 18 и 19 веках»: «Сам театр чрезвычайно прост как в плане, так и в фасаде. В плане это прямоугольник с лоджией с шестью коринфскими колоннами на главном фасаде и с двумя портиками того же ордера на боковых фасадах: портики венчаются не фронтонами, а аттиками, которые Росси сделал неотъемлемой частью своих зданий. Фронтоны ему казались скучными, и ни на одном из его проектов, кроме Михайловского дворца, их нет. Зато аттики он умеет рисовать так, как ни кто. Нижний этаж в рустах, с дивной львиной головой в замках, гладкие стены заканчиваются – еще до архитрава – фризом из гирлянды с театральными масками. Театральная улица, так же как и все здания по Чернышевой площади, дорического ордера. Монотонная разбивка этой улицы подготовляет зрителя к радости видеть на заднем плане роскошный коринфский фасад театра. Театральная улица ведет на Чернышеву площадь, архитектура которой того же дорического ордера, как и вся улица, причем в центре площади, в главном здании, прорезана арка для проезда на садовую улицу. Посреди площади проектировалась церковь-ротонда с портиком, смотрящим на Фонтанку. Эта церковь не была осуществлена. Другой площади, выходящей на Невский, Росси также хотел придать вид подчиненной части единого архитектурного замысла, чтобы не нарушать целостности впечатления. Это ему удалось лишь впоследствии, а именно в 18832 году, когда он пристроил новую часть к старой Публичной библиотеке. В этой пристройке он еще раз показал себя остроумным, талантливейшим и хорошо дисциплинированным мастером. Он сохранил целиком боковой фасад Соколова, смотрящий на площадь, три окна в три этажа, и повторил их слева, середину же забрал коринфской колоннадой, сохраняя первый этаж в прежнем виде.»74 Я привела большой фрагмент из книги И. Грабаря, и, надо сказать, мне стоило больших трудов ограничиться в цитировании, потому что наиболее интересное об архитектурном произведении Росси содержится абзацем выше и целой страницей ниже приведенного отрывка. Но является ли все то, что сказано Грабарем об архитектуре Александринского театра, его описанием? Да, является с позиции того, что принято называть описанием в обыденном смысле этого слова. Описать, - согласно словарю С.И. Ожегова, - это 1) изобразить чтоГрабарь И. Петербургская архитектура в 18 и 19 веках. СПб., Лениздат, 1994. С.362-363. 74 111 нибудь, рассказать о чем-нибудь, 2) изложить сведения о составе, особенностях чего-нибудь; 3) сделать письменный перечень чего-нибудь. В.И. Даль еще более широко интерпретирует процесс описания – рассказать, изложить, объяснить, передать в подробности словами, устно или письменно. Надо отметить, что оба автора никак не ограничивают нас в нашей дотошности в изображении вещи или события. Итак, описание – это предельно широкое изложение сведений о предмете. Здесь, видимо, следует применить какую-либо уточняющую классификацию. Так, если в описании будет содержаться какаялибо информация, которая превращает или трансформирует предмет (содержит метафоры, сравнения, олицетворения и другие подобные литературные ухищрения, результатом которых явятся «лишние сущности»), это будет сверхописание. Если в результате таких описательных маневров мы установим, что предмет подменяется, или предмету вменяются такие его характеристики, которые никак не соответствуют его природе, такие описания нам следует назвать «псевдо-описаниями». Если же предметные характеристики состоят не только из описания его внешних атрибутов и смыслов, которые к нему прикладываются, но и дополняются характеристикой того способа, каким они «прикрепляются» к предмету, такие его описания мы будем называть «метаописаниями». Феноменологическая дескрипция является самым достойным примером последнего. Отметим для себя, что в описании россиевской постройки Грабарь не ограничивается только ее внешними признаками. Телеология описания иная. В чем именно она состоит? И. Грабарь описывает конкретное здание Петербурга. И это здание построено великим зодчим Карлом Росси. Оно является выдающимся произведением искусства, вошедшим в состав классических искусств, это значит, что оно обладает общим универсальным признаком, присущим всем шедеврам зодчества. Очевидно, что в нем выражены общие ожидания, приложимые ко всяким сверхмерным предметам культуры. И это, так или иначе, должно отразиться в описании такого рода произведений искусства. И это должно совместиться с описанием уникальных неповторимых признаков, присущих именно этому шедевру. К чему это рассуждение нас приводит? К тому, что мы обнаружили весьма противоречивую природу произведения искусства – сочетание в нем универсального и единственного в своем роде. Кроме того, это произведение архитектуры принадлежит к определенному историческому стилю «русский ампир». Ампир – это второе дыхание классицизма, проявившееся на русской почве в начале 19 века. Если ранний екатерининский классицизм был обращен к памятникам античной архитектуры, греческой и римской, представлял нам строгие формы сооружений с так называемым «мотивом храма», располагающимся на стеновой поверхности здания, т.е. ордерной конструкцией – колоннадой, завершающейся фронтоном. Дж. Кваренги – в Петербурге и Ч. Камерон в Царском Селе и в Павловске представили прекрасные образцы классических «реплик». Но второй этап 112 классицистической архитектуры был совершенно особенным. Ампирные архитекторы – А. Воронихин, А. Захаров, Т. де Томон и К. Росси – в некотором смысле «достраивали» тот «идеальный» Петербург, о котором помышлял его первый устроитель Петр Великий. Ампирные архитекторы вполне осознанно и целенаправленно сводили воедино то, что создавалось по отдельным частям и в разных стилевых проектах в течение всего предыдущего столетия. Задача была уникальная – нужно было придать вид идеального парадного города – петровского «парадиза» – молодой северной столице. Поэтому градостроительные задачи преобладали над частными утилитарными и прагматическими. Только в силу такого архитектонического сверъхусилия ампирных гениальных архитекторов в Петербурге сформировался столичный имперский образ. Но признаки ампирной архитектуры очень сложно передать в описании одного сооружения, потому как ампирный дух выражается прежде всего в том, что здание встроено в окружающий ландшафт, и в его собственные характеристики должно включаться прилежащее к нему пространство. В стиле «ампир» особенно важен «рисунок пустоты». Другими словами, в описание ампирного здания с необходимостью должны быть включены умозрительные конструкции. Должно описываться не только то, что видно глазу, но и то, что доступно «умному видению», которое греческие философы называли особой способностью – «теорией». Так оказывается, что для того, чтобы описать ампирное сооружение, нужно не только непосредственно воспринимать конструкцию, но и определенным и конкретным образом точно мыслить ее. Мыслить – это наделять смыслами. При этом эти смыслы либо будут согласованным образом накладываться на предмет, либо предмет будет сопротивляться этим смыслам, если они противоречат его внутренней основе, его сущности. Таким образом, предметом описания является то, что схватывается сознанием как некоторая очевидным образом присутствующая сущность, определенно конкретная, «вот эта», «это здание», «это ампирное сооружение», «этот театр», сущность, которая наполняется смыслами «по мере явления», «по мере сущности», по мере конституирования сознанием явления. Вне сознания единственно, что мы можем констатировать, что предмет присутствует, наличествует – гипотетически и проблематически. Всякое индивидуальное сознание конституирует эту сущность всякий раз заново, и вне этого способа осуществления у предмета нет возможности «быть». Поэтому, определяя, или описывая предмет, мы всякий раз даем ему возможность осуществиться посредством нашего сознания. И потому кроме своей предметной сути и тех горизонтов смысла, которые наполняют предмет, любое явление осуществляется посредством разных форм сознания. Одно дело, когда мы видим Александринский театр, другое – когда слышим, как о нем рассказывают другие и достраиваем его, опираясь на эти описания в своем воображении, и совсем иное дело, когда рассказчиком выступает такой знаток, как И. Грабарь, который видит предмет в совершенно особом горизонте смыслов. Благодаря 113 описания знатоков мы конституируем предметы не только «по мере восприятия», но и «по мере понимания» и «по мере знания». Эти особые горизонты предмета открываются в комментариях Грабаря к тому, что можно увидеть в простом предметном созерцании, но совершенно не придать этому значения, не реализовать это в форме необходимого предметного смысла: «И когда ему /К. Росси – В.С./ поручают в 1828 году постройку Александринского театра, он затевает одновременно грандиозный проект перестройки Театральной улицы., Чернышевой площади и переустройство всей Михайловской площади И ему удается провести это в жизнь – редкое счастье для строителя. Здесь талант Росси развертывается во всею свою широту. Здесь он показал себя настоящим гением и наконец создал произведение, достойное великих римлян, с которыми сравниться он так мечтал. Действительно, нельзя не вспомнить времена цезарей, глядя на безумную роскошь архитектуры в его Театральной улице с Александринским театром в глубине. Эта роскошь архитектуры еще мало оценена, но настанет время, когда будут приезжать смотреть эти великолепные произведения Росси, как ездят смотреть мастеров Ренессанса в Италию.»75 Итак, кроме потенциально расширяющегося объема знания о предмете, в описании проявляется также неизменная базовая основа опыта, которая воспроизводится всякий раз во всех возможных эмпирических случаях. Эта основа является “началом” и исследуется как сущность, без которой описание невозможно. Описание предмета осуществляется всегда как конкретный индивидуальный опыт восприятия «вот этого» явления, которое затем раскрывается: по мере восприятия; по мере воспоминания; по мере образа; по мере явления; по мере сознания; по мере суждения; по мере сущности; по мере описания. Но, с другой стороны, этот индивидуальный уникальный и единичный опыт восприятия встраивается в бесконечно расширяющийся поток знания о предмете. И, в первую очередь, здесь имеет значение видение этих предметов знатоками, культур-медиумами, обладающими способностью «сверхъвидения», или конгениального понимания их природы. Вся полнота возможного знания, 75 Там же. С.362 114 его предметная «теория» в предельном объеме возможна в феноменологии как его «ноэма», или «смысл в модусе его полноты»76. ЛИТЕРАТУРА 1. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: Изд-во иностр. лит., 1962 2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1. Общее введение в чистую феноменологию М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 3. Гуссерль Э. Начало геометрии. М.: Издат. фирма Marginem, 1996. 4. Абельс Х. Интерпретация, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную социологию. СПб.: Алетейя, 1999. 5. Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М.: Моск. филос. Фонд и др., 1995. 6. Марков Б.В. От феноменологии сознания к аналитике телесного бытия // Очерки феноменологической философии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. Лекция 9. Этические явления как проблема феноменологического анализа. 1. 2. 3. 4. Философский гносеологический релятивизм. Сократ как представитель диалогического и диалектического знания. Сократ как наследник и противник софистики. Этическое разрешение проблемы множественности знаний. Любая философская теория без этики как науке о нравственном отношении человека к миру является не только неполной, но и неполноценной. Сразу же стоит оговориться, что феноменологическую аналитику этики, как и другие конкретные феномены «жизненного мира», Гуссерль не успел осуществить в форме развернутой дескрипции. Скорее, он смог феноменологически тематизировать этическую проблематику. Тем не менее, этика, редуцированная на раннем этапе формирования метода феноменологического описания, возвращается в феноменологию в поздних работах Гуссерля и представляет собой развернутый проект неосуществленного до конца замысла. Включение этики в феноменологию Гуссерля можно схематически выразить следующим образом: редукция “мира” в феноменологической установке и ориентация всего феноменологического исследования на интенциональные 76 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1. Общее введение в чистую феноменологию М., 1999. С.285. 115 предметы - выявление их содержаний - редукция этих содержаний к целостным смысловым коррелятам в эйдетическом описании. С позиции Гуссерля ни традиционная этика, ни философия, ни история, упорядочивающие свой материал в форме обычного увязывания фактов, “принципиально” не могут претендовать “на понимание в своей области”. Этика должна быть редуцирована к феноменологии, пока поток различных нравственных законов, форм и структур этического смыслообразования не прояснится в своем предельном многообразии. На самом раннем этапе анализа этики мы должны вернуться к вопросу о том, почему мнения о справедливости, благе, добре, регулирующих моральные законы, столь многообразны, что люди расходятся в понимании природы этих понятий. Значит, мы должны рассуждать об этике «с самого начала», осуществляя принцип феноменологических редукций, т.е. понимая, что этика целиком лежит в феноменологическом поле и представляет собой не свод конечных, не подлежащих сомнению законов и правил, а, напротив, является формой непрерывного смыслопорождения. И поскольку феноменология – это конкретная наука, обратимся к примеру этической философии, в которой нравственные проблемы являются не только главными, но единственными, которые только можно назвать философскими. Речь идет об античном греческом философе Сократе, учение которого известно нам через его ученика Платона, описавшего в своих диалогах беседы своего учителя со своими протагонистами. Философ, ироник, диалектик, софист, морализатор, нравственный учитель, – все это относится к одному только человеку, Сократу . Ксенофонт Афинский и Платон, Кьеркегор и Ницше, Фр.Шлегель и Гегель, Маркс и Хайдеггер, Вл. Соловьев и В.Розанов, и многие другие философы испытывали интерес к этой непостижимой личности, каждый из них создавал свой образ афинского мыслителя, интерпретируя как факты и события его жизни, так и его теоретические представления. Но для феноменологии Сократ и его учение представляют интерес вот в каком отношении. Сократ предпочитал излагать свое учение в диалогах. А именно с проблемы множественности представлений разных собеседников, которая раскрывается в диалогической структуре произведений Платона, когда высказано столько мнений, сколько участников диалога, - мы начинали введение в феноменологию. Так в диалоге «Теэтет» Сократ измеряет мощность философского высказывания, и она оказывается со значением бесконечности. Для себя начинающий философ Теэтет находит опору в знаменитом основоположении философии Протагора «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют и несуществующих, что они не существуют». Но не Теэтет, а противник этой философии Сократ способен установить истинную глубину протагоровой мысли. К кульминации диалога относится речь в защиту Протагора, произнесенная Сократом от лица как бы воскресшего Протагора. В конце этой импровизированной апологии, Сократ, преумаляя услугу, 116 оказанную философу-противнику, иронически восклицает: «Вот так, Феодор, я вступился за твоего друга по мере своих слабых сил». На что Феодор резонно отвечает: «Ты шутишь, Сократ, ведь ты оказал сильную поддержку этому человеку»77. Благодаря сократовой поддержке мысль Протагора получает новый импульс, и опять со всей возможной обстоятельностью и добросовестностью выслеживается новые смыслы и следствия из протагорова суждения. Но додуманное Сократом до конца, оно превращается в абсурдное: «Ведь он (Протагор – В.С.) признает истинным и то мнение, которое полагает его собственное мнение ложным, коль скоро соглашается, что всякое мнение бывает лишь о том, что существует»78. Сократ иронизирует: «если каждый из нас будет иметь мнение только сам о себе, и всякое такое мнение будет правильным и истинным, то с какой же стати, друг мой, Протагор оказывается таким мудрецом, что даже считает себя вправе учить других за большую плату, мы же оказываемся невеждами, которым следует у него учиться, - если каждый из нас есть мера своей мудрости?»79. Обращение к противоположным составляющим суждения протагонистов, когда, опровергая положение противника, собеседники сохраняют предмет исследования, приводит нас к философскому открытию: знание и есть движение нашей мысли, непрекращающийся диалог с самим собой: «…по мне иметь мнение - значит рассуждать, а мнение – это словесное выражение, но без участия голоса и обращенное не кому-то другому, а к самому себе, молча»80. В этом смысле изнанкой сомнения всякий раз оказывается содержательное понимание. Диалоги с Сократом всегда оказываются фрагментами мысли, они всегда не завершены, прерваны на полуслове, и как само собой разумеющееся предполагают продолжение размышления. Представить мыслительный процесс исчерпанным и законченным, значит для Сократа вообще отменить мысль как таковую, упразднить ее. Мышление как нескончаемое действие – в этом состоит смысл диалектики Сократа и Платона. Диалог является формой различных мнений, а диалектика внутренним их пересечением, системой скрепления противоположных суждений и подлинной основой философствования. Диалектик Сократ, в отличие от неискушенного Теэтета, видит неисчерпаемые возможности философского суждения, и то, что поначалу казалось таким ясным простодушному Теэтету, теперь вызывает удивление искушенного в философии Сократа: «Видишь, Феодор, - обращается он к другому собеседнику, - чем дальше, тем более важные вопросы встают перед нами»81. Платон. Соч. В 3-х т. Т.2. М., 1970. С.260. Там же. С 254. 79 Там же. С.251. 80 Там же. С.289. 81 Там же. С.266. 77 78 117 Привлекательность сократических диалогов Платона состоит в конечном итоге в том, что свое нажитое знание Сократ никому не стремится передать в форме готового учения. Сократ хорошо знает о парализующей ум опасности догматического внушения, и в этом смысл его основного философского принципа «познай самого себя» ( ). И ведь именно в этом состоит смысл феноменологической редукции: пока не убедишься, что ты сам являешься основой любого знания, сам для себя не станешь источником его, нет смысла что-либо познавать дальше. По своему обыкновению Сократ пытается придать этому принципу универсальное значение: самопознание как рефлексия, углубленность и отчетливость представлений о содержащемся в сознании предмете – это цель познания. И она, как бесконечно удаляющийся горизонт, не дает мысли успокоиться, остановиться. Сила Сократа – родителя души, которому важнее пробудить мысль, чем придать ей окончательную форму, имеет своим истоком принятие всерьез мнения своего противника, готовность постоянно вести словесный агон, меняться позициями, задавать вопросы и отвечать на них, расставлять диалектические сети, «вести» в диалоге и приговаривать при этом, что путь Сократу неизвестен: «но, сказал я, ведь ты, Критий, нападаешь на меня так, как будто бы я говорил, что знаю то, о чем спрашиваю, и как будто мое согласие зависело только от моей воли; а дело стоит не так: я ведь ищу с тобой то, о чем возбужден вопрос, именно потому, что сам не знаю. Так как лишь после рассмотрения я намерен сказать, согласен ли я или нет; а /теперь/ подожди, пока я рассмотрю»82. Интуитивное (непосредственное) знание, которое для неискушенного в философии человека представляется самодостаточным, при попытке выразить его словом, оказывается непростой задачей. Потому Сократ и заставляет каждого, вступающего в беседу, узнать, «что собственно он говорит», «когда чтонибудь говорит». Для этого он «расспрашивает и пересматривает и сопоставляет его слова, чтобы понять их» (Творения Платона (В 2 т.). Т.2. С.156). Слово само по себе неоднозначно, зависимо от контекста – «колоссальной родственной стихии», как определяет его природу Н.Я.Берковский. Суждение меняется в зависимости от исторического, культурного, эстетического, этического контекстов. Контексты, накладываясь и пересекаясь, позволяют высказать истину «с максимальной полнотой и оговорками» (С.Апт). Кажется, что Сократ заворожен протеическими возможностями понятия, он погружается в стихию слова со всеми обращениями его и превращениями, контекстуальным континуумом, смысловым полем, ассоциативными связями, опасностями односторонности и двусмысленности, знание или незнание которых может привести либо к овладению словом, либо к порабощению им, и к демонизации слова, как, например, это получилось закону, по которому самому Сократу вынесли смертный приговор. Эту вот демоническую силу слов пытается 82 Творения Платона (В 2 т.). Т.1. С.251. 118 постичь Сократ при помощи диалектики, которая превращает слово в понятие (умозрительную квинтэссенцию предмета, или, феноменологическим языком выражаясь, ноэму). Сократ стремится преодолеть отрыв слова от его существенного смысла, предотвратить словоблудие, и «блуждание» или заблуждение посредством слова. Неистинное слово способно произвести не должное действие. Средствами, при помощи которых можно передать диалектическую многоплановость мышления на уровне слова смысловой единицы является: 1) выяснение этимологического его значения, его первообраза, первосмысла, сравнение раннего, чувственного и позднего опосредованного «образа» слова; в смешении двух этих уровней может скрываться источник иронического эффекта; 2) исследование последовательности значений и источников, порождающих его многозначность. На уровне предложения, и особенно логической связки предложений многозначное слово, соединяясь со множеством других многозначных слов, умножает эту многозначность в геометрической прогрессии. Языковая среда текста, наполняя слово особого рода энергиями, порождает «магматическое» слово, в котором может быть заключена вся его духовная подвижность. Многозначность языка, многосмысленность слова – вот истоки и одновременно причины и средства порождения эффектов многозначности. Многозначность суждения может так и остаться энигматической, неразгаданной, а смысловая полнота не проясненной. На уровне обыденного сознания эта проблема проявляется во всякого рода недоразумениях и анекдотических ситуациях. Метод сократовского понимания сущности того или иного понятия предполагает такие формы общения, которые, с одной стороны, соединяет в диалектическое единство разные точки зрения на один и тот же предмет, а, с другой стороны, приобщает слабую сторону к диалектическому процессу познания и являются очень эффективным педагогическим средством порождения собственного знания, «плода души». Эта диалектика познания представлена в платоновой теории «припоминания». Комментируя эту сторону сократовой педагогики, М.К.Мамардашвили пишет: «весь опыт исследований лингвистики и психических исследований, и антропологических исследований, и мифологических исследований лишь подтвердил древнюю, еще Сократу и Платону известную истину, что знание не перекачивается из головы в голову в силу одного простого онтологического обстоятельства. Никто вместо другого не может ничего понимать, понять должен сам, и более того, если уже не понял, то вообще не поймешь сообщаемое: понять можно то, что уже понял (и в этом смысле – из себя, «вспоминая»)83. У Сократа-майевтика, т.е. помощника при рождении души, каким он представляется в диалогах «Пир», «Федр», «Федон», «Теэтет», «Эвтифрон» и Мамардашвили М.К. Классический рациональности. Тбилиси, 1984. – С.12. 83 119 и неклассический идеалы др., с уст не сходят выражения из лексикона его матери Финареты, повивальной бабки: беременность, тяжелый, неплодный, принимать роды души. Порождение знания – вот цель, которую Сократ перед собой ставит. «Ты запамятовал, друг мой, что я ничего не знаю и ничего из этого себе не присваиваю, - я уже неплоден и на это не способен. Нынче я принимаю у тебя, для того и заговариваю тебя и предлагаю отведать зелья всяких мудрецов, пока не выведу на свет твое собственное решение. Когда же оно выйдет на свет, тогда мы и посмотрим, чахлым оно окажется или полноценным и подлинным».84 Грубоватая терминология, которой пользуется Сократ, отсылает к древним мистериальным культами. В его философии прозрачны аналогии с актами рождения новой жизни. Диалог «Пир» посвящен прославлению бога любви Эрота. Блестящий переводчик и комментатор философии Платона С.Жебелев пишет: «…Сократ по праву должен быть признан лучшим знатоком «эротического искусства» /…/ Он пробуждает человека, «беременного» высокими мыслями, искать другого прекрасного человека, на которого он мог бы действовать оплодотворяюще…»85. Именно в этом Сократ отличается от софистов. Сократ не раз поминает добрым словом старших софистов, наряду с Фалесом и Парменидом, которые внушали ему, совсем как у Гомера, «и почтение, и ужас», - так сказано в «Теэтете». Софисту Продику Сократ иногда передавал своих учеников86. Софисту Протагору посвящена защитная речь в «Теэтете». С «отцом софистики» Горгием Сократ не раз обсуждал важные философские вопросы. Среди различных философских направлений ближе всего софистам были философы-элеаты с их антиномическим мышлением и парадоксальными представлениями о космологической основе мира. Философы-софисты проявляли серьезный интерес к математике, к истории и географии, были преуспевающими политиками. Софисты унаследовали глубокую философскую традицию и греческую культуру аналитики понятий, возводя интерес к ним в культ. Именно это сближало с ними Сократа: Сократ готов был проводить долгие часы, проясняя смысл какого-нибудь понятия со всяким, кто согласится на это. Благодаря своему учителю и Платон питал глубочайший интерес к исследованию смыслов и значений понятий. Он ввел в философию термин «идея» в качестве меры и предельного проекта понимания смысла, впоследствии гипостазировав это понятие в самостоятельную сущность. Диалоги Платона «Софист», «Горгий», «Протагор», «Теэтет», «Гиппий Меньший» и «Гиппий Больший» представляют точку зрения софистов о понимании сущности и о предназначении философии в жизни общества и одновременно критику этих представлений Сократом. Чему могут научить софисты – вот тот вопрос, на который учителя мудрости вынуждены постоянно 84 Платон. Соч. В 3-х т. Т.2. М., 1970. С.245. Полное собрание творений Платона в 15 т.Т.5. Пб., 1922. С.10 86 Платон. Соч. В 3-х т.Т.2. М., 1970. - С.237. 85 120 и прилюдно давать ответ, находясь в обществе Сократа. Они провоцируются Сократом и говорят всегда более того, что им следовало бы, поскольку их откровенность превращается в саморазоблачение. В обращении с софистами «второго поколения», бойкими продавцами мудрости, Сократ часто пользуется риторическими уловками. Пройдя крепкую софистическую школу, Сократ умел уклончиво отвечать на вопросы, использовать диалектические тонкости, логические парадоксы, тавтологии и с легкостью сбивать с толку противников. В таких диалогах продвижение к истине как будто бы не является целью беседы. Но релятивизм, который при этом демонстрирует Сократ, как доказательство от обратного обнаруживает бесперспективность софистической мудрости. В этом отношении очень примечателен диалог «Эвтидем», в котором братья-софисты демонстрируют свое умение морочить людей. Казалось бы, случай, когда обучение философии является приватным делом, дает право всякому «учителю мудрости» придерживаться собственного пути в философии и использовать при этом любую методу. Но ситуация делается напряженной, когда учитель мудрости при этом подмигивает и с откровенностью, граничащей с цинизмом, объявляет истину всего лишь состязанием на словах и учит опровергать все, что говорится, «будь то ложь, будь то истина»87. Философ в этом положении превращается в оратора, способного убеждать людей без того, чтобы быть самому убежденным. «Вообще, - говорится в «Федре», - оратор должен искать правдоподобия, зачастую сказав истине «прости»88. Трюки, которые проделывают «продавцы мудрости» сродни тем, что показывают фокусники на рынках – фокус оказывается нераскрытым, непостижимым – это условие представления с неизбежным вымоганием платы от простодушных зрителей. Освобождая учеников от убогости односторонности, софисты подвергали их опасностям двусмысленности, перед которыми испытуемые терялись, как в дурном хороводе. Сократ так описывал суть обучения у софистов: «Называю же я это игрой потому, что хотя бы кто многому и даже всему научился в этом роде, о самих предметах и делах – в каком они положении, - ничего не узнает, забавляться же перед людьми будет способен, подставляя им ногу и опрокидывая их через различные значения имен, все равно как те, кто, выхватывая стулья из-под хотящих садиться, радуются и смеются, видя их опрокинутыми навзничь»89. Очевидно, что самому Сократу совершенно не чужда привлекательность интеллектуальной игры, или стремление подцепить на крючок диалектики софиста или просто неопытного в таких премудростях собеседника, или заставить завзятого спорщика сказать то, что вовсе не входило в его расчеты, множество свидетельств тому мы находим в диалогах с Гиппием, Эвтифроном, Творения Платона (В 2 т.) Т.2. М., 1899. С.174. Полное собрание творений Платона в 15 т.Т.5. Пб., 1922. С.125. 89 Творения Платона (В 2 т.). Т.2. М., 1899. С.181. 87 88 121 с Ионом и Фразимахом. Но релятивизм Сократа выступает в форме иронии, осторожного, но и настойчивого продвижения в определении меры знания своего противника и самого себя. Во многих случаях Сократ выступает как чрезвычайно талантливый ученик софистов. По сравнению с ними, правда, Сократ выглядит наивным, задавая вопросы и сомневаясь в вещах, очевидных для множества других людей. Но ироническая метода Сократа становится убедительной, когда представления, несомненные для большинства, приходят в противоречие с другими самоочевидными вещами. Наивность оборачивается глубиной, а диалог становится способом достижения истинного знания. Выявляя скрытые значения высказывания противника, Сократ добивается того, что тот признает необходимость «поисков и принуждений глубинного смысла (М. Бахтин). Это в конечном итоге служит общим целям диалогического общения. Но если для Сократа причастность к истине выражается столь необычным образом в готовности погружаться в новые и новые глубины, то для софиста-релятивиста истина сама по себе представляет предмет радикального скепсиса, поскольку для него последняя инстанция истины лежит за пределами рациональности, - в интеллектуальной, либо в чувственной интуиции, в авторитете традиции, в иррациональном мотиве и т.д.. Теперь же мы обращаем внимание только на то, что софисты очень хорошо могли проявлять существующие здесь проблемы. Горгий, например, полагал, что «быть есть нечто невидимое, если оно не достигает того, чтобы казаться, казаться же есть нечто бессильное, если оно не достигает того, чтобы быть»90 Сократ, напротив, даже через недостаток истины стремится ее закрепить и утвердить. В «Эвтидеме», когда софисты принудили Сократа признать себя побежденным, он все-таки сумел разоблачить бессодержательность и бесплодность софистического философствования, бесперспективность диалога с такими философами, которые придерживаются полной относительности знания и утверждают на этом основании невозможность различения истины и лжи, а, следовательно, добра и зла. Вообще характер беседы в диалогах Платона зависит от внутренних отношений, которые складываются у Сократа с его собеседниками. Всех протагонистов Сократа условно можно разделить на три группы. К первой относятся маститые философы, у которых сложилось систематическое и цельное знание (диалоги «Парменид», «Софист», «Горгий», «Протагор»), ко второй – ученики Сократа, ищущие у него мудрости и знания («Теэтет», «Федр», «Федон», «Феаг»), третий тип собеседников представлен теми, кто не может стать ни первым, ни вторым («Гиппий Больший, «Гиппий Меньший», «Ион», «Эвтифрон»). В третьем случае для того, чтобы избежать профанации философии, Сократ прибегает к всевозможным приемам: сам себе становится собеседником или «воскрешает» знаменитого философа, чтобы иметь в диалоге достойного протагониста. 90 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С.20. 122 Если с Сократом беседует такой неопытный в философском ремесле собеседник, как, например, Теэтет, то на начальной фазе диалога обыденный здравый смысл, за который только и держится «противник» Сократа и который представляет собой смесь жизненный наблюдений, «ходячих истин», предрассудков и заблуждений, - подвергается ироническому испытанию, а заканчиваются такие диалоги, как правило, признанием участников диалога необходимости серьезно заняться философией. Реплики ученика в подобных случаях ограничиваются вопросами: Как может это быть возможным? Как ты разумеешь все это? К чему ты это сказал? Как это? Как это ты говоришь? Скажи яснее. Почему? Почему ты так это говоришь?» (из диалога «Софист»). Или: Что ты хочешь этим сказать? И к чему это? Как это? Ну и что из этого? Я еще не понимаю, что ты хочешь сказать. Как это возможно? («Теэтет») Суждения, в которых приводятся различные точки зрения на один и тот же предмет (диалогические или полилогические способы конституирования смыслов) не противоречат максиме прямого высказывания – информативности, связности, релевантности (соответствию информативного запроса качествам ответа), однако, подчиняют эти качества диалектическим принципам познания, выдвигая на первый план сомнение в основательности или полноте рассуждения, разрешающегося посредством постоянного соотнесения собственных представлений с позицией своего противника. При этом диалог набирает все большие обороты, некоторые темы обсуждаются повторно, беседа обращается вспять, и все это для того, чтобы предмет исследования обретал всю возможную полноту смысла и определялся с предельной многосторонностью. Потому простая связность рассуждений переходит в диалектику, а философский характер общения определяет постулат коммуникативной компетенции: общение должно строиться на основе истинности, понимания, взаимного интереса, релевантности. Этот принцип распространяется на весь процесс диалогического общения, включая проверку критического основания суждений, анализ понятийного аппарата, отношение к философской традиции и т.д. Гносеологическая, т.е. познавательная телеология диалога определяется следующими целями: разоблачение невежества оппонента, критический анализ его взглядов, преследование далеких, чаще всего этических целей, скрытое учительство, оппозиция обыденным представлениям, контроль здравого смысла над спекулятивными конструкциями, философская дискуссия или антиномическая конструкция, - все это влияет на ход разворачивающегося спора-агона. И то, каким он будет, - напряженным и захватывающим, или вялым и неинтересным, зависит от определяющих факторов коммуникативного процесса. Если собеседники находятся в отношениях учитель-ученик, диалог обычно движется в направлении сближения, конвергенции когнитивных содержаний участников. Если в беседу вступают люди с уже сложившимися системами знания (как, например, философы-софисты или Парменид), ирония как форма скрытой критики позволяет подрывать представления противника 123 изнутри, доводя до абсурда выводы из принятых ими основоположений. При смене парадигм мышления, что имеет место в случае переориентации мышления с мифологических форм на натурфилософские или естественнонаучные, антропологические или логические, такую работу проводят целые философские школы. У Сократа, наверное, не было более беспощадного критика, чем Ф. Ницше. В «Сумерках богов» он критикует диалектику Сократа, целиком сводя ее к иронии. При этом он полагает, что диалектика является таким способом доказательства, когда нет аргументов, чтобы «предъявить» свою правоту. Ницше вообще считает зазорным для философа браться что-либо кому-либо доказывать. По-видимому, суть неприязни к Сократу объясняется различиями в понимании назначения философии. Сократ, обучающий на площади «всякого, кто захочет», так и не сказавший прямо, что же такое истина, хотя почти во всяком диалоге он касается этой темы, - и Заратустра, уста которого «не таят отвращения»91. Сократ стремится в диалоге связать предыдущие знания и последующие, показать их историю рождения от побуждения к мысли до ее определенного и критического высказывания, а затем нового ее исследования, и так до бесконечности в течение всей жизни философа, у которого никогда не иссякает жажда познания. Заратустра выжигал место для новой «лучшей» философии: «Новое хочет созидать благородный и новую добродетель. Старого хочет добрый, чтобы старое пребывал в целости»92. Однако, демон разрушения, выпущенный новым пророком, не спешил убраться в бутылку. На месте разрушенного старого, расчищенного для сверхчеловека, не обязательно появляются новые добродетели. То, что чаще всего рождается на пустом месте – сорняки, - зло и несправедливость. А потому гуманист Ницше по иронии истории может оказаться идеологом фашизма, нигилизма и крайнего скептицизма. Лозунговость и чеканность его мыслей, так выгодно отличающая его от неясности, неполноты и незаконченности высказываний его исторического противника Сократа, оказали, в конце концов, Ницше недобрую услугу. Учительство как увещевание и учительство как пророчество – непримиримые и несводимые одна к другой стратегии вовлечения в философию Сократа и Ницше. Неприязнь последнего к Сократу носит принципиальный и глубинный характер. Ницшеанский радикализм в пересмотре культурных ценностей и традиционной морали («опасно быть наследником») предполагает формирование совершенно нового типа философапророка, отделенного пространством и временем от учеников. Одиночество и радикализм такого учительства – это две стороны одного и того же дела. И, напротив, принародное сократовское майевтическое (порождающее знание) действие, растянутое на целые дни, имеет своей целью удерживать ученика Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. СПб., 1913. С.24 92 Там же. С.62. 91 124 возле себя, поймать его в «ловушку диалектики» и научить из нее выбираться. Философия является формой соблазна, но она же и учит освобождению, и в этом смысле дает свободу и порождает нового человека. В этом состоит суть двусмысленной похвалы Алкивиада в диалоге «Пир». Сократ как порождающая причина и восприемник души, и Сократ, как соблазнитель моральной «невинности», под которой разумелась нравственная безответственность и беспечность, оказывается воплощением самого Эрота. В «Федре» Сократ сам так рассуждает об этом: «Не зная, чему уподобить эротическое состояние, может быть, соприкасаясь отчасти с истиной, может быть, уклоняясь в сторону, применив не совсем уж неубедительное рассуждение, мы восхвалим в своего рода сказочном гимне /…/ моего и твоего, Федр, владыку, Эрота /…/ Мне кажется, что во всем прочем /…/действительно, мы шутки шутили /…/»93. Эротическое состояние как любовь к истине и к ближнему понимается Сократом как нравственное отношение к нему. На этой – опосредованной любовью к философии – основе строятся отношения Сократа и его учеников. Совсем иное дело, когда Сократ беседует с искушенными в философии мужами. В таком философском контексте диалектика (как единство проивоположностей) приобретает качество «онтологического многообразия»: мир – один, а философских систем - множество. В «Теэтете», «Пармениде» мы имеем блестящие примеры подобного рода. Философская поэма Парменида «О природе» интересна в том отношении, что она в своих конечных выводах содержит антиномии и парадоксы, которые являются существенными структурами организации целостной картины мира. Как известно, несохранившийся трактат Парменида состоял из двух частей. «Он сказал, что философий две, - свидетельствует о Пармениде Диоген Лаэрций,- одна – сообразно истине, другая сообразно мнению»94. Содержанием первой части философской поэмы, представляющей последовательное опровержение видимой картины мира, является выведение из основоположения «бытие есть, небытия нет» всех его признаков: бытие вечно, однородно, неподвижно, совершенно. Но поскольку Парменид полагает, что мышление тождественно бытию, он выводит из этого основоположения следствие о несуществовании небытия, ведь небытие нельзя ни непротиворечивым образом помыслить, ни высказаться о нем. Однако Платон в диалоге «Парменид» показал, что понятие «чистое бытие» исключает не только множественность и движение, но и тождество, покой, временность и пространственность, а также единство и неделимость, т.е. чистое бытие оказывается также невыразимым непротиворечивым образом, и, следовательно, оно не может быть основой истинного понимания. Чистое бытие оказывается немыслимым и непостижимым, как и небытие. На месте картины мира, если следовать 93 94 Полное собрание творений Платона в 15 т.Т.5. Пб., 1922. С.148. Маковельский А. Досократики. Ч.2. – Казань, 1915. С.21. 125 Пармениду, должна зиять онтологическая дыра. Анализ рационального начала конструирования картины мира приводит к выводу о ее принципиальной невозможности. Между тем как во второй части поэмы «О природе» Парменид описывает все видимые признаки мира. Вторая часть философии Парменида находится в полном противоречии с учением о едином. Исследователи философии Парменида рассматривают вторую часть его тарктата как выражение не его собственной точки зрения, а как «Критическое обозрение спорных воззрений предшествующих мыслителей, доксографию, которая должна была служить пропедевтическим целям»95, или как «раннюю пифагорейскую переработку системы Анаксимандра»96, которую сам же Парменид объявляет неистинной в качестве «мира мнений». В конечном итоге философская система Парменида приобретает характер развернутого противоречивого суждения. Подвергая анализу «мир мнения», приходится признать необоснованность этой концепции и конструировать философию на боле твердых основаниях, как это делает Парменид в учении об истине, тем самым редуцировать чувственно представленный порядок вещей. Противоположные подходы, которые Парменид соединяет в одном трактате, образуют даже не антиномическую систему, поскольку философ настаивает на «мире истины», а ироническую структуру. «Мы имеем странный, быть может, единственный случай. Один и тот же мыслитель строит две системы, из которых одна ложна, другая истинна – единственный, быть может, случай, когда сильный мыслитель создает целую сложную и гармоничную, полную еще не утративших значения открытий систему – и все это только для того, чтобы объявить ее ложной»97. Диалог Платона «Парменид» имеет сложную и остроумную конструкцию. В этом философском произведении осуществляется попытка построения двух различных онтологий - парменидовой и собственно платоновой. Учение Парменида рассматривается Платоном в новой метафизической перспективе. Во-первых, доводится до логического конца теория «единого» Парменида. Онтология его, последовательно исходящая из интуитивно-умозрительного представления «бытие есть, небытия нет», оказывается в своем итоге абсурдной: «Следовательно, оно (единое – В.С.) [никем] не называется и [никто не может высказать его, ни составить о нем мнения, ни познавать его, и нет такого существа, которое могло бы чувственно воспринимать его»98. И другое отношение к единому невозможно, потому что оно «подобно и неподобно «другому»: соответственно различию подобно, а соответственно тождеству неподобно». Но таким же противоречивым оказывается отказ от «единого». В свою очередь платонова эйдетическая конструкция также несет в себе Там же . С.1. Там же. 97 Мандес М. Элеаты. Одесса, 1911. С.109. 98 Полное собрание творений Платона в 15 т.Т.4. Пб., 1922. С.48. 95 96 126 неразрешимое противоречие. Как говорит Парменид, «большое затруднение возникает при допущении отдельного существования идей самих по себе»99. Эти затруднения отчасти связаны с эстетическим характером мировосприятия античного философа, для которого само собой разумеется, что справедливость или мужество имеет свои образцы, но имеет ли свой эйдос грязь? – для античного человека естественным было отрицать последнее, но тогда какая-то часть бытия оказывается онтологически неразрешенной. Кроме того, степень всеобщности, представленная в платоновой идее, предполагает бесконечную регрессию смыслов в открытой эйдетической цепочке: «…если ты, таким образом, окажешь своим умственным взором как само великое, так и совокупность великих предметов, не обнаружится ли снова некое великое, в силу которого все это должно представляться великим? […] Итак, откроется еще одна идея великости, возникающая рядом с самой великостью и тем, что причастно ей, а во всем этом еще опять другая, в силу которой все это опять будет великим. И, таким образом, каждая идея уже не будет у себя единой, но окажется великим множеством»100. В «Пармениде», кроме того, вставлено еще сочинение ученика Парменида Зенона, направленное против тех, кто «допускает многое». Полемическая и критическая ирония здесь также из гносеологии перемещается в планы онтологической проблематики. Но разрешима ли эта проблема? Другими словами, можно ли гносеологическими способами выйти из ситуации онтологического релятивизма? Есть ли выход из тупика, в который нас завела проблема множественности суждений и мнений? Да и решение проблемы лежит для Сократа и Платона в области этики. По замечанию историка философии Дж. Грота смысл сократовой философии заключается в том, что философ логически соединяет знание и добродетель как причину и следствие. В выборе основных проблем философии, напр., в отказе от натурфилософских исследований о первопричинах вещей, в образе общения со своими противниками, нежелании поучать и стремлении максимально испытывать свои уже сложившиеся знания, в отказе следовать мнению авторитетов, - и самое главное – в том способе, которым Сократ стремится верифицировать свои знания, - во всем этом проявляется этический характер его теории. «Нравственное стояние» в критические моменты жизни, когда совершается выбор, ведет человека не к расколу и раздвоению личности, но к необходимости увязать все отдельные взгляды на смысложизненные проблемы в единую картину мира. В этот момент человек превращается в экзистенциального, т.е. действующего философа. Это случается в жизни всякого оригинального и глубокого мыслителя, если только он не стоит вполне сознательно на точке зрения эклектики, т.е. не настаивает на том, что отдельные части его философии принципиально несоединимы, поскольку 99 Там же. С.2.1 Там же. С.22. 100 127 относятся к разным истинам. В этом свете признание гносеологических экспериментов с истиной в стремлении испытать свои знания и к ней, истине, приблизиться, разрешаются в этике. Анализируя философию Платона Вл.Соловьев указывает на то, что дуализм, пронизывающий зрелую теорию Платона, есть ни что иное, как призрак смерти Сократа, который отпечатался на всем образе мыслей и действий его ученика. «Смертный приговор Сократу за его решимость держаться одного чистого добра и правды обнаруживает в человеческой природе и жизни такую глубину зла, какую нельзя было объяснить одним незнанием и нелогичностью»101. В конечном итоге смерть Сократа есть ничто иное как «онтологическое доказательство» существования философии как определяющего фактора человеческого поведения и жизни. Сократ понимает, что самая отвлеченная философская проблема наполнена драматическим жизненным содержанием. Почему? Сократов интерес к философии невозможно объяснить праздным суемудрием. Человек, живущий в обществе, которое управляется законом, сводом идеальных предписаний, может испытать на себе действие отнюдь не отвлеченной его силы. Закон, в букве которого заключается справедливость, на деле может способствовать таким событиям, которые расходятся со смыслом справедливости. Наверное поэтому платоновы диалоги – это богатейший опыт философа установить связи не только между разными сторонами философского знания, - этикой и гносеологией, политикой и онтологией, но и в самой действительности прояснить характер зависимости между событиями и идеями. Особенно примечательно, что Сократ платоновых диалогов настойчиво пытается навести мосты между политикой, с одной стороны, и этикой, гносеологией и онтологией, с другой . Трагическая сила, заключенная в логосе, очевидна для Сократа. Так вдруг, неожиданно, в самой середине казалось бы отвлеченного философского спора, Сократ в ответ на безобидную реплику своего собеседника говорит ему: «А ведь это ответ трагический, Менон»102. Но в полной мере показывает опасность, которая нависла над Сократом, Платон в конце диалога, когда Сократ просит своего собеседника Менона пойти к Аниту и убедить того «стать мягче». Появление тени обвинителя Сократа вовсе не случайно. Посольство, снаряженное в лице Менона к Аниту, имеет символический смысл: Менон, как сподобившийся мудрости ученик, должен стать медиумом между мудрецом и невеждою. Но дело заключается в том, что, как замечает Вл. Соловьев, «Анит не потому ненавидит философов, что не знает их, а не хочет знать, потому что ненавидит»103. И если с психологической точки зрения трудно понять гонителей Сократа (как и в самой жизни, когда мы сталкиваемся с неоправданной, но неустранимой неприязнью, ищем и не находим ей объяснения), то с позиции идеологической (как активной формы Творения Платона в 2 т.- Т.1.- С.21. Платон. Соч. В 3-х т. Т.1. М., 1970. С.378. 103 Творения Платона (В 2 т.). Т.1. М., 1899. С.23. 101 102 128 воздействия на сознание) философия Сократа, вызывающая неудовольствие его противников, действительно создавала неудобства для власть предержащих: в обществе, в котором ведется непрекращающаяся политическая игра, в ходе которой тирания сменяет демократию, олигархия тиранию, а затем опять торжествует демократия, самодовлеющие этические понятия справедливости, блага, добродетели становятся не только что нелепыми, но и опасными для правителей и политиков, постоянно манипулирующих сознанием. Эта идеологическая сторона («причина») философии теперь очевидна и для обывательского сознания – философия Сократа становится крамолой, а философ-чудак превращается в возмутителя общественного покоя и благонравия. Всем строем современной ему общественной, политической и духовной жизни Сократ поставлен в условия, которые помогают ему осознать ответственность за свои теоретические взгляды, и спор философа с людьми «с мелкой сутяжной душонкой», как определяются люди, презирающие и пренебрегающие философией в диалоге «Теэтет», из спора теоретического превращается в спор, на котором на карту поставлены жизнь и смерть. Самотождественность понятий, с одной стороны, когда справедливость всегда останется справедливостью, красота красотою, а преступление преступлением, а с другой стороны, весь опыт софистических исследований, мимо которого уже нельзя было пройти, указывающий на относительность понятий и на произвольность их истолкований, ставили Сократа в ситуацию двойного искушения: плоского морализаторства и этического релятивизма. Сократ потому с такой дотошностью занимается поисками скрытого смысла, заключенного в понятиях, что понимает его огромную и возрастающую значимость для античного мира. Ироник в гносеологии, Сократ в нравственной жизни, по выражению Фр.Шлегеля, «пьет безусловное, как воду». Точно так же он проявляет троекратную осмотрительность и осторожность, когда дело касается определения нравственной правоты кого бы то ни было, а также коль скоро дело касается осуждения человека, и в особенности, осуждения судебного. Так в диалоге «Эвтифрон» разбирается ситуация, когда сразу два человека оказываются подсудимыми. Участник диалога прорицатель Эфтифрон обвинил своего отца в нарушении благочестия за то, что тот в приступе гнева убил своего поденщика. По времени это совпадает с вызовом самого Сократа в Царский портик для разбирательства его дела. Сократ спешит на заседание суда, но все-таки не жалеет времени на то, чтобы вытянуть из Эфтифрона знание относительно того, что же такое благочестие. Сократ справедливо полагает, что уж человек, который уличает кого-либо в нарушении нравственного закона, сам-то хорошо разбирается в сути этого закона. Потому его просьба, обращенная к прорицателю, вполне уместна: «Постарайся же и ты объяснить мне таким образом: святое – какая часть справедливого? - и тогда скажем Мелиту, что он не должен обижать нас и обвинять в бесчестии, так как 129 мы достаточно узнали от тебя, что называется благочестивым и святым, а что нет»104. Поставленный перед необходимостью дать ответ за свое обвинение и тем самым определить меру собственного благочестия, Эвтифрон, уже понимая сколь мало соответствуют его действия смыслу благочестия, спешит ретироваться: «В другое время, Сократ, теперь спешу в одно место, и уже пора идти», таков жалкий результат эфтифроновой претензии на понимание этической категории. Самое примечательное, что «категория» выступает здесь в изначальном буквальном этимологическом значении: «категория» - в переводе с древнегреческого, - это «обвинение». В этой ситуации (и отнюдь не единственной) логическое понятие является причиной (формой) управляющей жизнью и смертью. В судебном процессе, как правило, решается судьба человека. В зависимости от исхода заседания понятие может стать враждебной, даже демонической, разрушительной силой. Потому Сократово сомнение (сомнение) имеет философское оправдание, - только для поверхностного, или для равнодушного, или для злоумышленного взгляда нравственное познание представляется отвлеченной областью человеческого существования. Логические провокации в обсуждении этих предметов являются только свидетельством того, что именно в этике сосредоточено многое из того, что нельзя решить раз и навсегда, поскольку обсуждаются такие вещи, которые нельзя измерить и описать обычным точным способом: «От какого же разногласия и к какому согласию перейти мы не могли бы, но сердились бы друг на друга и оставались бы врагами? Впрочем, может быть тебе такой вопрос неподручен: так позволь мне сказать и размысли, - не есть ли это справедливое и несправедливое, хорошее и дурное, доброе и злое? Не об этих ли предметах мы разногласим и не могли совершенно сойтись в отношении к ним, бываем врагами друг другу, как скоро сталкиваемся – я, ты и все прочие люди?»105. Условность и относительность ценностей становится очевидной собеседникам, когда они вместе перебирают все новые и новые определения блага и справедливости, и в поисках сущности искомого предмета открывают его свойства. Но эти сложности Сократ не соглашается принять за существенные качества самих этих ценностей. Потому в своих нравственных исканиях он изначально разводит две сферы – познавательную, агонистическую, спорную, где возможны и необходимы мыслительные эксперименты в «измерении» мощности понятий, - и область конкретных поступков, «живую этику», где такие эксперименты могут обернуться жизненной трагедией, и где становятся очевидными все практические последствия теоретических штудий. Нравственны максимы никогда не преподносятся Сократом в виде готовых к употреблению рецептов. Иронические манипуляции с понятиями имеют цель строго определения Сочинения Платона, переведенные с греческого и объясненные проф. Карповым. Изд. 2-е, испр. и доп. (В 6 ч.) – Ч.1. – СПб., 1863- С.376. 105 Там же. С. 366. 104 130 сущности исследуемого предмета, новых значений понятия, в конечном итоге служит укреплению нравственных убеждений, обретению в них опоры для своего существования. «Тебе, по-видимому, неизвестно, - говорит Никий в диалоге «Лахес», что раз кто-нибудь в разговоре сошелся с Сократом – все равно что породнился – и втянулся в беседу, с чего бы ни начался разговор, Сократ непременно будет гонять своего собеседника вопросами до тех пор, пока тот не окажется вынужденным дать ему отчет, каким образом живет он в настоящее время, да как прожил раньше; и тогда уж Сократ отпустит его – не прежде, чем рассмотревши все это подробно»106. В этом диалоге Лахес называет Сократа «поистине музыкальным», поскольку дела его отвечают «самой высокой и благородной речи», т.е. находятся в гармоническом ладу с ней107. Все философские маневры направлены не на утверждение относительности нравственных категорий, а на достижение подлинной гармонии, выражающейся в «нравственном стоянии» философа, то есть того, кто действительно заслуживает называться философом, верности его самому себе и тем представлениям о должном, которые он успел нажить. Потому в истории своей судьбы Сократ меняет амплуа силена, непрактичного и нелепого софиста и любителя мудрости на роль подлинного трагического героя исполняющего наполненную самым высоким смыслом партию в своей жизни. Потому же в «Законах» на предложение иностранных актеров ставить трагедии Сократ отвечает: «Достойнейшие из чужестранцев, мы сказали бы, мы и сами творцы трагедии наипрекраснейшей, сколь возможно и наилучшей. Весь наш государственный строй представляет воспроизведение наипрекраснейшей и наилучшей жизни, мы утверждаем, что это и есть наиболее истинная трагедия»108. Аксиологические истины, какими бы очевидными и бесспорными они ни казались бы и каким бы общечеловеческим содержанием ни наполнялись, остаются гипотетическими истинами до того момента, пока онтологически не закрепляются в нравственном действии. Нравственная твердость Сократа принять смерть и означает полное утверждение его философии, и в иерархии всех способов знания диалектика окончательно занимает подчиненное этическим принципам положение: она, как форма философской (гносеологической) осторожности и предусмотрительности, упраздняется в полной определенности осмысленного поступка. Точно так же как затемняющие чистоту мыслительного эксперимента истины, касающиеся житейской выгоды и житейского интереса («интересные», как говорили романтики) подчиняются ироническим интерпретациям, у которых скорость «поспевания» за разворачивающимися содержанием понятия больше, так ироническая диалектика снимается и закрепляется положительностью Творения Платона (В 2 т.). Т.1. М., 1899. С.206. Там же. С.207. 108 Платон. Соч. В 3-х т. Т.3. Ч.2. М.,1972. С.299. 106 107 131 этического действия. Тонкое диалектическое искусство подчиняет себе обыденное сознание, но в свою очередь оказывается снятым в этике. Нравственная максима в преподавании уроков мудрости является для Сократа основой его философии и той перспективы, в которой рассматривается всякий отвлеченный спекулятивный вопрос. Потому философская беседа без нравственной подоплеки кажется ему бессодержательной. Так он обращается к софисту Эвтидему с укоризненным словом «если возможно, чтобы говорящий ничего не говорил, то ты именно это делаешь»109. И потому зачином и поводом для философского общения в его беседах всегда оказывается прояснение смысла этической категории. И потому еще собеседник Сократа Лахес, имея в виду подчиненность всякого знания понятию добра в теории Сократа, говорит ему: «…на старости лет многому желаю учиться, но только у добрых людей»110. Таким образом, всякое движение понятия, вся диалектика подчиняется в философии Сократа и Платона этике, не просто сосуществует с ней. Даже в случае с Эвтифроном, несмотря на несовпадение нравственных убеждений противников этого философского агона, истина все же обнаруживается отрицательным способом через показания недостаточных знаний о благочестии. Надо заметить, что и у Сократа, и у Эвтифрона с очевидностью проявляется нравственный максимализм. В самой страшной форме нетерпимости и осуждения – у Эвтифрона, обвинение которого зиждется на формальном благообразии, лжеподобии благу, когда обвинение равно оговору, особенно страшному в свете судебных процессов, когда подписание обвинительного акта служило достаточным основанием для расправы. И прямо противоположная позиция у Сократа: «Сделай усилие, почтеннейший…» - сама ироническая вежливость и похвала, расточаемая противнику, даже у самого самоуверенного вызывает смутную тревогу и вынуждает произвести необходимую умственную работу с тем, чтобы выявить подлинный смысл сказанного им самим и Сократом. Логическая конструкция диалогов «Эвтифрон», «Феаг», «Гиппий Больший» и многих других строится на подчинении представления, объявляющего себя достаточным, но на самом деле убогого, взгляду испытующему, только притворяющемуся незнающим, но в самом предположении неполноты высказанной истины содержащему свой потенциальный запас, под лукавой гримасой сомнения скрывающего инерциальную силу диалектики. Во многих диалогах мы имеем свидетельство такого построения беседы, которое делает подвижными мысли противника, заставляет его «учиться все время, пока живет, не рассчитывая, что ум придет сам собой вместе со старостью»111, итогом же своим имеет нравственное укрепление его. Нравственная определенность и диалектическая свобода Творения Платона (В 2 т.). Т.2. С.218. Там же. Т.1. С.207. 111 Там же. 109 110 132 познания являются не только противоположностями, но взаимоутверждающими принципами философского мышления Сократа. Изначальное пренебрежение Сократа натурфилософским знанием, неспособным дать жизнестроительные идеи, и глубокая антипатия к расхожей философии определили собственную философскую проблематику афинского мудреца. Но структура истины в сфере гносеологии, делает проблематичным наличие этой истины в нравственной философии. Чем определяется истина в этике? Означает ли этика «умение жить»? Последовательнее всего этот этический вопрос разбирается в диалоге «Критон». Старинный приятель Сократа Критон уговаривает заключенного в тюрьму философа, ожидающего исполнения смертного приговора, бежать. Но никакие увещевания не могут склонить Сократа к решению спасать свою жизнь, поскольку для него проблема состоит не в том, «чтобы жить, но чтобы хорошо жить»112. При этом Сократ вовсе не отрицает самодовлеющей ценности жизни, мало того, все его поступки говорят за то, что он полагал противоестественным право распоряжаться жизнью другого человека (Можно вспомнить много случаев из жизни Сократа, когда он, как мог, противился вынесению смертного приговора, если это как то от него зависело, например, в случае со стратегами, которых все-таки казнили, но оптом уже казнились совестью судьи, вынесшие несправедливое решение). «Пограничная ситуация», в которой находится Сократ, позволяет ему с новой точки зрения увидеть проблему общечеловеческих ценностей. Традиционные ценности, трансформируясь в расхожую мораль, которую Сократ постоянно подвергал иронической проверке, но которую он не собирался вовсе упразднять в силу того, что на ней, как форме общественного договора, держится всякое общество, эти ценности никак не исключают предрассудков, заблуждений и не спасают от преднамеренного или нечаянного преступления. Сократ горько представляет Критону таковую «мораль-соображение»: «Что же касается твоих соображений относительно расходов, общественного мнения, воспитания детей, то, говоря по правде, Критон, не есть ли это соображения людей, которые одинаково готовы убивать, а потом, если это будет можно, воскрешать, так себе, ни с того, ни с сего, - соображения того же самого большинства?»113 Истина, которую Сократ искал без устали всю свою жизнь, которую он не имел охоты сводить к какому бы то ни было определению, истина в его философии всегда оставалась проблемой. Но в его поступке эта истина приобретает определенность, или, вернее будет сказано, истина у него становится праведностью, и понимать ее можно так, что в самые трудные моменты своей жизни человек может сохранить себя, а это означает, что он может оставаться верным самому себе – своим убеждениям. В этом смысле можно согласиться 112 113 Творения Платона (В 2 т.). Т.2. С.350. Там же. 133 с Кьеркегором, что истина и есть сам человек. Упраздняя обыденную «философию» и учиняя «скандал разуму», Сократ тем самым совершает прорыв в системе традиционных представлений: смертный умирает во имя бессмертного Сократа. Как в фотографическом аппарате в его ироническом суждении все вставало на свои места, но сначала - с ног на голову , чтобы в конце концов получился и проявился подлинный снимок с действительности человеческой реальностью управляет сознание. По сути дела ценой огромной жертвы – собственной жизни – Сократ подтверждает неизбывную ценность этой истины. Жизнь превращается в проблему смысла жизни. Сократ как нравственный учитель проявляет нижний и верхний пределы философского знания: неустранимое сомнение в «привычном» готовом знании и содержательное разрешение этого сомнения в нравственном поступке. То, что вызывало такое недоумение у софистов, которые также проявляли глубокий интерес к прояснению меры человека (или человека как формы знания о мире) – убеждение Сократа в том, что силу человека составляет его внутреннее достоинство и крепость его убеждений, а следовательно, что лучше терпеть несправедливость, чем ее совершать, - это казалось софистам просто превышением меры человеческого разумного поведения. Потому зрелые многоопытные мужи-софисты пытаются внушить Сократу «во славу здравомыслия» отказаться от нескромной позиции и с большой прозорливостью предсказывают его печальную участь Однако, сколь бы очевидными ни были выгоды осознания невозможности для человека всегда следовать «прекрасному», Сократ не смиряется, мало того, софистам не хватает даже пущенной в ход аргументации самоочевидности здравого смысла, при помощи которого они защищают свою умеренную позицию. Так Пол, ученик Горгия, полагает апелляцию к здравому смыслу достаточным аргументом в споре: «Не кажется ли тебе, Сократ, что ты уже полностью опровергнут, раз говоришь такое, что ни один человек не скажет»114. Сократа даже стыдят, когда попадаются по его милости в расставленные им диалектические сети: «…Сократ, неужели не стыдно тебе в твои годы гоняться за словами, и, если кто запутается в речи, полагать это счастливой находкой?»115. Несообразность точке зрения обыденного сознания в гносеологии может породить либо остроумие, либо сумасшествие (в «Софисте» прямо говорится, что есть такие люди, которые в философах видят «чуть ли не вовсе сумасшедших»)116. В этике Сократа, составляющей как познание добра и зла смысл философской гносеологии, действительность есть не просто наличное «голое» существование, но существование в соответствии с подлинностью и адекватностью понятию истинного существования. Вот реализованный Платон. Соч. В 3-х т. Т.1. С.292. Там же. С.315. 116 Там же. Т.2. С.321. 114 115 134 Сократом в реальности феноменологический мотив: сознание творит жизнь, нравственно осуществленную или несостоятельную. Сократ реализует феноменологию в действительность. Потому, как мы называем сапожником не всякого, кто возьмется смастерить обувь, но того, у кого это получится, точно так же и государственным деятелем Сократ считает не каждого, кто обладает властью, но только того, кто стремится к тому, чтобы его «сограждане стали лучше»117. Государственный муж более, чем кто бы то ни было, должен пройти путь философа от сомнения до утверждения своего образа мыслей и действий в отношении к благу. «А потом, когда мы оба окончательно утвердимся /в этой добродетели/ тогда лишь, если сочтем нужным, примемся за государственные дела или подадим свой совет в ином деле, какое бы нас ни привлекло. Тогда мы будем советчиками лучше, чем ныне, ибо стыдно по-мальчишески хвастаться и важничать в том состоянии, в каком, по-видимому, мы находимся ныне, когда без конца меняем свои суждения, и притом – о вещах самых важных. Вот до какого невежества мы дошли!»118 Можно, следовательно, утверждать, что целью философствования для Сократа является возможность знания природы добра и зла – без всякого отвлеченного морализаторства – поскольку в этом знании заключается жизненный интерес: знание о сущности блага ведет государственного деятеля к заслуженному успеху («Алкивиад Первый», «Алкивиад Второй»), а в житейских делах польза от знания блага состоит в том, что оно создает душевный покой человеку, согласному со своей совестью. Потому истинное представление о добре и зле является настоящим жизненным знанием, полезным и практичным. И потому учение Сократа не просто имеет этическую надстройку, но суть его заключается в том, что каждый философский вопрос имеет этическую подоплеку. Предметное осуществление такого рода явлений, как нравственный поступок, имеет свою уникальную феноменологическую структуру. Знание должно осуществляться, реализовываться посредством особой модификации сознания, - воли. Нравственное действие – это волевое усилие, в такой форме оно смыслополагается. Следует признать, что в этом пункте взгляд Сократа представляет и для нас первостепенную важность, поскольку в современной философии утрачена этическая суть, и потому философия становится все более и более отвлеченной и в общем перестает быть основой мировоззрения. Современная философия похожа на растерзанного титанами юношу Загрея, распадается на отдельные дисциплины, и этика на фоне развивающихся логики, теории познания, и даже эстетики, остается «философской провинцией», а не их средоточием. Философия Сократа при всей своей логической и гносеологической непоследовательности (всегда при обращении к ней следует помнить, что ее 117 118 Там же. С.350. Платон. Соч. В 3-х т. Т.2. С.365. 135 сила состоит не в неуязвимости аргументов и не в логической безупречности выводов, ведь Сократ часто передергивает в споре, но в его способности представить проблему смысла жизни как проблему жизнеполагающую, реальную), - при всем этом она представляется нам целостной системой, в которой не только определена иерархия ценностей, с полной определенностью выражено представление об истинной природе знаний, об обязанностях перед собой и перед другими людьми, но она этически последовательна, а это значит, что она вся состоит из нравственных вопросов и ответов. Скептическииронический тон диалога есть только его форма, в которую Сократ-педагог облекает свои представления. У Сократа-майевтика в гениальной гармонии сосуществуют нравственная проповедь и ироническое сомнение, знание жизни и готовность ни на секунду не прекращать совершенствоваться в этом знании. По сути дела все диалоги Платона так или иначе решают вопрос о природе добра и зла: и в «Эвтофроне», в «Эвтидеме», в «Меноне», и в так называемых старческих диалогах Платона – «Государство», «Законы»- понимание и приближение через это понимание к добру представляет основную сквозную тему рассуждений Сократа. «То, что представляет несокрытость познаваемому, а также возможность познающему /познать/, это, согласись, есть идея добра»119, - так М.Хайдеггер переводит-истолковывает суть философии Сократа. Сократ производит уникальную операцию. Его этика есть ничто иное как осуществление принципа свободы в отношении к уже сложившейся Ойкумене – обжитому миру, требующему и своего поддержания и своего обновления. Принцип свободы, согласно Сократу, должен быть осуществлен в пределах сложившейся культуры без ее разрушения, - отсюда обращение к диалектике как искусству соотносить общее с частным, понимание блага как того, к чему сходится вся духовная и практическая работа человека. Ирония и диалектика в исполнении Сократа есть формы превращения всякого деяния в благо. Ирония выражает недостаточность, но неисполнимость всякого действия стать благом вне знания его, вне духовного (для Сократа прежде всего - словесного) опыта, вне этого конструктивно-провокативного мыслительно-экспериментального анализа. Диалектика – как форма, скрепляющая сводящая все эти опыты воедино, повторяющая и воспроизводящая благо в системе знания о нем. И феноменология, как доказательство реальной силы философии. Литература 1. Платон. Соч. в 3-х т., 1971 Цит. По: Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Историко-философский ежегодник, 86 – С.267. 119 136 2. Творения Платона (В 2-х тт.). 3. Сочинения Платона в 6 ч. 137 СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Лекция 1. Введение в дескриптивную феноменологию. Истоки феноменологической теории. Феноменология как одна из основных школ и направления современного философско-культурологического знания 5 Лекция 2. Проблема множественности описаний в феноменологии 12 Лекция 3. Проблема времени в феноменологии. Часть 1. Структуры первичной памяти. 31 Лекция 4. Проблема времени в феноменологии. Часть 2. Теория воображения. Вторичная память. 51 Лекция 5. Проблемы логики в феноменологии. 64 Лекция 6. Метод феноменологической дескрипции. 71 Лекция 7. Феноменология культуры как конкретная наука. 84 Лекция 8. Описание произведений культурологическая проблема. искусства как философско- 105 Лекция 9. Этические явления как проблема феноменологического 115 анализа. 138